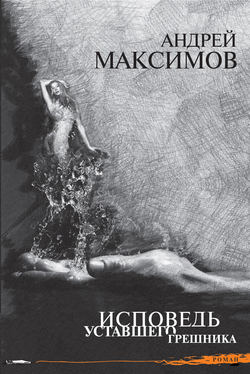Читать книгу Исповедь уставшего грешника - Андрей Максимов - Страница 1
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ОглавлениеГосподи, это каким же надо быть дураком, чтобы любить жизнь?
Ты вот представь себе только, что жизнь – это женщина, а? И чего? Какая это будет женщина, представил? Ну, напряги свою фантазию… Тебя же Господь наградил фантазией не только для того, чтобы придумывать про оценки в школе и появление запаха сигарет изo рта…
Жизнь – это женщина, а? Конечно, не мужчина же… Ну, и какая она? Взбалмошная, нервная, суетливая, непредсказуемая. Опереться на нее даже и не пытайся, потому что сегодня она к тебе относится так, а завтра совсем уж – сяк. В этом «сяке» живешь, и совсем уже и не знаешь даже, куда от нее, от жизни, подеваться. Потому что всегда к ней тянет – женщина все-таки… Все чего-то хочется ей доказать, приручить ее хочется, подчинить… И ведь понимаешь: если приручится она, сразу станет с ней неинтересно – что с женщиной, что с жизнью – а все одно: пытаешься зачем-то… Чего двигаться к цели, которая печаль принесет? А вот ведь: сколько живешь – столько двигаешься. Бред какой-то…
Иногда, конечно, с ней, с жизнью, бывает интересно. Но это – поначалу, пока вы не привыкли друг к другу. С жизнью, как в любом романе, сначала «ах!», потом «мм-мм», а потом уже нет ни слов никаких, ни звуков – потому как от скуки и от тоски они уже не спасут.
Хочешь, я скажу тебе, сынок, что такое старость? Старость – это вычитание удивлений. Чем старше становишься, тем реже удивляет тебя жизнь. Вот и всё. Ты просишь ее, умоляешь: удиви! порази! порадуй хотя бы… Куда там! Зачем жизни тебя удивлять, когда ты и сам ей уже порядком поднадоел?
И когда ты ей, жизни, совсем уже осточертеешь, до предельного конца, когда она – женщина! – выпьет из тебя все соки, – вот тогда-то она тебя и предаст. Причем обязательно, уж будь уверен. Всенепременно в какой-нибудь самый неподходящий момент уйдет она, жизнь, и оставит тебя наедине со смертью.
Ты кричать будешь, извиваться, молить: «Не уходи, Жизнь! Я тебя люблю! Останься…» Куда там! Плевать она хотела на тебя, твоя любимая жизнь! Ее больше нет, жизни, ушла она от тебя, опостылевшего, осталась только Смерть. С ней теперь и общайся.
Смерть может оказаться вполне себе ничего, даже лучше, спокойней и душевней жизни. Почему нет? К сожалению, о встречах со смертью никто никогда ничего не рассказывал… То есть, так получается, что женщина-жизнь про женщину-смерть ничего не знает, а вот ведь уходит и оставляет с ней наедине. Плохо поступает. Предательски. По-женски.
А, впрочем, кто их там разберет, Жизнь и Смерть, что они друг про друга понимают?..
Здравствуй, Сын!
Как нередко у нас с тобой бывает в последнее время, я забыл с тобой поздороваться…
Я знаю, что ты не прочтешь то, что я здесь напишу.
Боюсь, у твоего поколения – проблемы с тем, чтобы читать слова, вы предпочитаете их видеть или слышать. Читать? Писать? Для чего, если можно поглядеть или послушать: и проще, и увлекательней…
Представляешь, ученые всерьез озабочены тем, что твое поколение вообще разучитcя водить ручкой по листу бумаги, и, таким образом, люди утеряют умение писать. Но не надо быть ученым, чтобы понять: в эпоху компьютера это умение становится лишним и невостребованным. Интересно, что будут помещать в музеи современных писателей, если кто-нибудь из них умудрится просочиться в гении? Может ли существовать дом-музей писателя без его черновиков? Что же выставлять в широких витринах? Компьютерные файлы?
А еще ученые утверждают: умение писать – это одно из главных отличий человека от животного. Значит, если человек разучится писать, он может превратиться в животное? Слушай, а вдруг в этом и есть единственный шанс спасения человечества: превратиться в зверей? Животным ведь никогда не придет в голову мысль: уничтожить землю. И вообще, звери – существа, куда более разумные, добрые, и, в конечном счете, естественные, нежели мы. Поэтому, если бы люди превратились обратно в животных, стали бы жить по их законам и относиться друг к другу по-звериному – это могло бы спасти и нашу Землю, и нас самих.
Ты помнишь Кузю? Нашего огромного, меланхоличного пса с такими печальными глазами, что, когда меня спрашивали: «Какая порода у вашей собачки?», я неизменно отвечал: «Еврейская овчарка». И никто никогда не удивлялся, понимая: собака со столь грустными глазами, конечно, должна называться только так. Еврейская овчарка – это бренд. Беспородный пес – это правда. Да разве есть такой человек, которому правда понравится больше, чем бренд? Разумеется, нет. Это до чего ж мы полюбили бренды, а ведь когда-то легко обходились без этого слова, я, например, большую часть своей жизни вообще не знал, что это такое – бренд.
Я опять отвлекся…
Ужасно, что я тогда не смог приехать, чтобы похоронить Кузю, потому что я был… Да это вовсе и не важно, с кем и где я был, важно, что не приехал. И до могилы нашего Кузи – собаки, которая любила всех и до самой смерти своей так и не смогла поверить в то, что в мире существует зло – до могилы собачьей я так и не добрался никогда.
Кузю хоронила мама, я никогда не спрашивал подробностей. Мама рассказала только, что Кузю зарыли в лесу на красивой поляне. Она еще сказала, что объяснит мне, как туда доехать, если я захочу. Я захотел. Но не доехал.
Жалко все-таки, что мы не похоронили Кузьку на специальном собачьем кладбище, ведь, когда люди опять станут зверями, собачьи кладбища превратятся в мемориалы.
Конечно, звери тоже бывают жестоки. Однако в их поведении всегда существует логика: они не бывают жестоки просто так. У людей: бессмысленная жестокость, то есть борьба за самого себя. А у животных – оправданная, логичная жестокость, а это совсем другое дело. Животные борются за Жизнь, и Жизнь их любит за то, что они за нее бьются. Жизнь с нами, людьми, не заодно, а с ними – заодно. Так что ваше поколение, разучившись писать, сделает первый шаг к озверению человечества – тому самому озверению, которое может нас всех спасти.
У меня была идея поставить спектакль про прекрасных зверей и ужасных людей. Хотел про львов. Красивые такие, благородные… Я начал про всё это думать, читать… И вычитал, представь себе, что если погибает лев и львица выходит замуж за другого самца, она уничтожает все свое потомство от первого мужа. Нормально? Чтобы вообще памяти о нем не осталось, чтобы крови его на Земле не осталось. Ради любви убивает собственных детей…
Ну, что ж это за любовь такая, если даже прекрасных животных она превращает в подлецов? Лев говорит львице: «Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты…» А она отвечает: «Секундочку. Сейчас детей от предыдущего брака убью, и начнется наша волнительная любовная история». Обидно…
Так что про львов не получилось. Придется ставить «Гамлета». Когда-нибудь, когда соберусь с силами. Соберусь же я когда-нибудь с силами, ведь правда?
Говорят Мейерхольд… Был такой великий режиссер, тебе неведомый… Так вот, говорят, он просил написать на своей могиле «Здесь лежит режиссер, который никогда не хотел поставить «Гамлета». Но у Мейерхольда нет могилы: эти советские суки убили его заодно с другими, и заодно бросили в общую могилу. И никакая любовь его не спасла. Его любовь, великую актрису Зинаиду Райх, задушили в постели в собственном доме. То ли просто так, то ли – чтобы отобрать квартиру… Впрочем, отобрать квартиру и просто так – это ведь одно и то же, не так ли?
Если ты дочитал до этого места, тебе уже стало скучно. Ваше поколение не любит, когда нет экшена. Вам кажется, что человек проявляется в поступках, а вовсе не в раздумьях.
Я тут полистал «Гарри Поттера» твоего любимого, искал словосочетание «Гарри подумал». Не нашел. Зато через страницу: «Гарри решил», «Гарри понял»… Решительное поколение. Хоть бы вы уже в зверей поскорей превратились, что ли…
Несколько… дней… недель? месяцев? лет?.. Что-то такое любовь делает со временем? Она, любовь, не то, чтобы его убыстряет или замедляет… Она уничтожает время. Тут одно из двух: или любовь, или время. Они как-то не соединяются…
Так вот. Случилось, что я увидел женскую спину. Да-да, как я теперь понимаю: в сущности, то, где я сейчас оказался, началось именно с того мгновения, когда я увидел женскую спину…
Хочешь, я скажу тебе фразу, над которой ты будешь радостно насмехаться? Это ведь излюбленное занятие детей: радостно насмехаться над своими родителями. Еще Фрейд заметил: сын рождается только для того, чтобы победить своего отца. Так вот, пока не получается победить делом, бьют усмешками.
Вот тебе фраза для усмешек:
Случилось, что я увидел женскую спину, которая перевернула всю мою жизнь, а, может быть, даже ее уничтожила… Я пока не могу этого понять.
Каково?
Я не видел лица, не видел фигуры, я видел только длинные ноги и прямую спину.
…Кстати, сынок, экшена и в дальнейшем не предвидится, так что запросто можешь всё это не читать.
Знаешь, что я тебе скажу, сын мой: мне вообще плевать, станешь ты всё это читать или нет. Наплевать мне, слышишь? Ты что думаешь: это исповедь блудного отца? Да пошел ты знаешь куда, если ты так думаешь!!! Я очень люблю тебя, сынок, ты у меня – единственный, но, если только ты подумаешь, что перед тобой исповедуется твой отец, то иди отсюда в туманную даль, чтобы я тебя за туманом разглядеть не мог. В таком случае, будем разговаривать про то, про что разговаривать принято, про что треплются все отцы со всеми детьми: про школу, про оценки и про прочую лабуду, которая ни тебя, ни меня не волнует. Понял меня? Ты, как правило, понимаешь меня быстро. Маму любишь, а меня боишься и потому понимаешь быстро и исполнительно.
Никакая это не исповедь! И, в частности, не исповедь отца! Понял? Я пишу не для исповеди, нет. Я стучу по этим компьютерным клавишам, чтобы меня не разорвало на несколько килограмм говна и несколько литров черной вонючей крови. Вот и всё.
Ты когда-нибудь нюхал кровь? Знаешь, как она воняет? О, она воняет тошнотворно, омерзительно. А ты видел когда-нибудь вывороченные наружу кишки человека? Страшная картина, скажу я тебе. Вот ведь мы, люди, как удивительно созданы: собственное нутро ни нюхать, ни видеть не можем. Собственное, замечу, нутро – и ни нюхать, ни видеть. Вот ведь оно как…
Главное, душу наизнанку выворачивать – это, пожалуйста, это сколько угодно! Тут только свистни – и понеслась! Наверняка ты уже радостно рассказывал какой-нибудь прыщавой девчонке интимности про свою жизнь и удовлетворенно замечал, как от твоего рассказа влажнеют ее глаза, и был убежден: это и есть самый главный и самый верный признак любви. Тебе казалось: она тебя понимает, а, значит, любит. Не ошибись, сынок. Если тебе удастся найти женщину, которая полюбит тебя за страдания, считай, что ты выиграл в самой главной лотерее мира. Мой мальчик, они любят нас за силу.
Так о чем я? Да! Почему люди так не любят свои и чужие внутренности? Хотя бы из чувства благодарности ко всем этим внутренним органам, благодаря которым мы и живем, могли, казалось бы, не падать в обморок при виде своего вспоротого живота. Так нет же… А душу при этом обнажают с легкостью; и даже, когда какой-нибудь человек рассказывает о себе гадости, он всё равно делает это с удовольствием.
А я тебе объясню, почему так происходит. Всё просто. Душа – всегда твоя, а тело – всегда чужое, временное пристанище твоей собственной души. Поэтому так тошнотворен запах собственной крови, поэтому, когда человек видит свою рану, он не испытывает жалости к пораженному органу, а испытывает страх, смешанный с отвращением. Дом нашей души нам отвратителен: конечно, чужой дом не может стать родным!
Что ты сказал? Ты сказал, что это – пустая философия? Запомни: философия не бывает пустой, если на её выводах строится жизнь. Когда ты однажды полюбишь по-настоящему, полюбишь так, как я полюбил когда-то твою мать, ты вдруг поймешь абсолютно точно: отдавать любимой свое тело не жалко и даже приятно – чужое оно, пусть берет, а вот отдавать ей свою душу, отдавать ей то, что, на самом деле, и есть ты, твое естество, твоя сущность – вот, где ужас, вот, где страх.
Любовь – это обмен душами, мой мальчик, и больше ничего. Страшный, кровавый, делающий человека несвободным и беспомощным, обмен самым главным и самым сущностным…
Отношения, где нет этого обмена, называются блядством, против которого я, в общем, ничего не имею. Что плохого в удовольствии, которое испытывают тела? Только блядство – это не любовь. Это его единственный недостаток, впрочем, может быть, достоинство, кто знает?
Ну, и вот. Когда я увидел эту уходящую ввысь спину и ноги цапли, удаляющиеся по нашему длинному театральному коридору, я изо всех сил постарался ничего не почувствовать, не ясно от чего и по какой причине понимая, что сейчас совершается посягательство на мою душу. Ничего не произошло, а я почувствовал: начинается.
«В моем театре – женщина, которую я не знаю?» – попытался я пошутить с самим собой, прекрасно сознавая: с этого момента жизнь моя перевернется.
х х х
После своей странной, до конца не объяснимой болезни мама стала другой. Такое вот ей пришлось пережить заболевание – заболевание, которое переделывает людей.
Об этом мамином недуге, перевернувшем всю нашу жизнь, мы с тобой никогда не говорили, никогда его не обсуждали, и ни ты, ни я не позволяли себе ни слова жалости по маминому адресу. Да и что говорить, если доктора – люди, называющие сами себя «специалисты» – и те, мало что понимают в этой таинственной хвори? Когда болит свое (но, по сути, чужое) тело, тут все просто: техника, аппараты, анализы, рентгены – томография… Ля-ля-ля – получите диагноз или направление в морг – это уж как повезет! А вот когда болит своя собственная душа – тут что делать, как исследовать? В какие томографы лезть? Куда светить рентгеном? И диагноза, по сути, нет, и как лечить – непонятно. Такие дела… И хватит об этом.
Одно я понял точно: эта хворь уничтожает душу, превращает человека в кого-то другого. Та Ирка, – которая, как я думал до недавнего времени, была моей единственной настоящей любовью, – осталась в «до болезни».
Странная история: тело то же, а душа – иная, значит, и человек иной, незнакомый, неясный…
…Пятнадцать лет назад?.. Или шестнадцать?.. Семнадцать?.. Боже Мой, сколько ж лет прошло с тех пор, как мы познакомились с твоей мамой?..
Какая разница!
Но я помню, как она откинула прядь своих густых рыжих волос, и я подумал: какое отвратительное, мерзкое, пошлое словосочетание: «она откинула прядь своих густых рыжих волос»! Ужас! Могла же мне прийти в голову такая пошлость! – едва не воскликнул я, но тут же снова подумал: как все-таки она красиво откидывает свои густые рыжие волосы, черт бы их подрал!
Она запускала руку в волосы и откидывала их, чуть улыбаясь при этом. Она просто поправляла прическу, но мне почему-то казалось, что она демонстрирует, как это прекрасно: опускать руки в густые рыжие волосы…
А потом я посмотрел на ее грудь…
Да, сынок, так оно и было, потому что женщина всегда останавливает взгляд мужчины чем-то таким, что отличает ее от других: высокой худой спиной, или рыжими волосами, или еще чем-то, чего у других нет.
Но потом мужчина все равно смотрит на её грудь.
– У меня некрасивая грудь, – сказала твоя мама.
Представь себе, это была ее первая фраза! Впрочем, не исключаю, что это была первая ее фраза, которую я запомнил.
Той Ирки, которой после первой нашей ночи, я сказал, что у нее – очень красивая грудь, и – черт бы ее побрал! – копна густых, рыжих волос… Я так и сказал тогда: «копна», я произнес это мерзкое слово, и всю жизнь теперь буду помнить, что в первую нашу ночь я произнес это отвратительное, пустое слово. Бред какой-то! Если бы в пьесе, которую я читал, какой-нибудь персонаж в первую ночь с любимой женщиной произнес словосочетание «копна волос», я бы тут же перестал читать эту пьесу. Но так было, черт возьми! Именно так и случилось в первую с твоей мамой ночь: я сказал и про грудь, и про «копну»…
Что это я всё время отвлекаюсь?..
Так вот. Той Ирки – Ирки нашей первой ночи – больше нет. Она осталась в том времени, которое называется «до болезни», то есть, в сущности, она умерла. Той Ирки, которая сказала мне: «Жить ради любимого – это не жертва, а счастье», и я, как дурак, поверил этой мелодраматической фразе. Той Ирки, которая могла зарыдать, когда я рассказывал ей замысел будущего спектакля. Той Ирки, наконец, которая подарила мне сына. Ее не было больше.
Сначала это надо было понять, а потом – поверить. Понимал я долго… А поверил сразу.
Я тогда ставил чеховские «Три сестры». (Интересно, помнишь ли ты этот спектакль, или ты тогда был слишком мал, чтобы его запомнить?) Мамину болезнь и, главное, ее последствия я смог пережить, потому что меня спас Чехов.
Запомни, сынок: работа – это единственная женщина, которая тебя никогда не предаст, если ты ее действительно любишь. И, главное, на твою любовь она всегда отвечает взаимностью, – вот ведь какая штука. Точнее, только работа всегда отвечает взаимностью на твою любовь.
Чехов… «Три сестры»… Мне хотелось поставить историю про никчемных, пустых людей, которые всю жизнь собирают чемоданы, но никуда не едут, для которых пустые мечтания и есть жизнь. А саму жизнь они терпеть не могут.
Вообще, должен тебе сказать: мало найдется в русской, да и во всей мировой литературе писателей, которые бы столь искренно и столь страстно не любили людей, как не любил их «певец интеллигенции». Нам почему-то кажется, что он их просто обожает со всеми их пустыми разговорами и ничегонеделаньем. Мы отчего-то решили, что эти бессмысленные, бездеятельные и очень неинтересные люди и есть символы русской интеллигенции, которых боготворит и воспевает Чехов. На самом же деле, Антон Павлович пишет про людей, которые его достали. Не могли не достать. Должны были достать.
Между прочим, Чехов во время своего путешествия на Сахалин, во время шторма на спор прямо с палубы корабля спустился на веревке в море, а потом поднялся. Сильный был человек, мощный, – человек действия. Почему мы решили, что он должен был любить этих бесконечно нудящих трех сестер, которые даже нянечку свою престарелую не смогли защитить от безумной Наташи? Почему он должен был сочувствовать тем, кто не в состоянии защитить свой дом от пошлости и мерзости? Почему мы решили, что он их любит? Ничто – ничто!!! – в пьесе не указывает на эту любовь.
Меня все отговаривали от Чехова. Мне объясняли, что он всем надоел, что, когда открывается занавес и зритель видит хорошо причесанных актрис в белом, а Машу в черном – зритель сразу начинает засыпать. Чеховский текст убаюкивает, убеждали меня, убаюкивает ровно так, как любая телепередача, но, чтобы посмотреть телек, не надо платить и вставать с дивана… Так для чего тогда идти на Чехова?
Твоя мама молчала. Но тогда я еще изо всех сил старался принять ее молчание за сочувствие.
Директор сказал, что у нас нет денег на Чехова. Мой верный Вася, с которым мы, собственно, и сделали наш театр, – стоял передо мной, похожий на какого-нибудь Ван Дамма или Шварценеггера.
– Согласись, – сказал мой Василий Семенович железным директорским тоном. – Сначала искать деньги на спектакль, а потом искать зрителей, чтобы заполнить зал, это безумие. – И добавил. – В наше время.
Вася принадлежит к тем людям, которые убеждены: если время диктует делать какие-то глупости, тогда это уже и не глупости вовсе, а веление времени, которому просто надо подчиниться.
– Вася, – я попытался улыбнуться. – Я обещаю тебе лом на наш спектакль. Я раздену Машу, я покажу, как она трахается с Вершининым. Потому что никакая у них не любовь, а блядство, возникшее от скуки. Голые сиськи в Чехове – это то, что привлечет сегодняшнего театрального зрителя, которому приятно будет убедиться в том, что он гораздо интеллигентнее режиссера. Современный театральный зритель с удовольствием посмотрит на пошлость, чтобы сказать потом, насколько она ему отвратительна.
– Это, действительно, пошло, – вздохнул мой Вася и нашел деньги.
Я оказался прав. Первая же рецензия на мой спектакль называлась «Опошленный Чехов», в качестве иллюстрации напечатали фото из спектакля: голая Маша рассматривает себя перед зеркалом, готовясь к встрече с Вершининым. Мы стали играть по четыре спектакля в месяц, и все равно на спектакль спрашивали лишний билетик.
Это был хороший спектакль. Это был правильный Чехов – Чехов, презирающий людей, которые умеют говорить красивые слова, но не умеют защитить свой дом.
После премьеры Ира подошла ко мне и сказала:
– Симпатичный спектакль. Смотрится легко. И актрисы у тебя в театре все с очень красивой грудью… Послушай, а, может, мне тоже у тебя в театре что-нибудь поставить?
Женщину, которая могла сказать мне такие слова после премьеры, я не знал. Я понял, что моя Ирка умерла.
Вместо нее появилась другая – та, что «после болезни». С этой, другой Ирой, мне только предстояло познакомиться. И чем больше я с ней знакомился, тем меньше она мне нравилась.
Мы любим женщин за ту любовь, которую они испытывают к нам, а женщины любят нас за внимание к ним. Когда ты ещё немножко вырастешь, ты услышишь всякую лирическую лабуду: мол, любовь возникает просто так, ниоткуда… Мол, это тайна, покрытая мраком… Ты во всё это не верь: люди всегда пытаются усложнить то, что кажется им до неприличия простым. Женщины любят нас за внимание к ним. А мы их – за любовь к нам. Вот и вся тайна.
Та, прежняя, Ирина любила меня. Эта – себя. Больше всего на свете эта новая Ира боялась заболеть снова. Забавно, но она напоминала мне гранату, которая бережет себя от взрыва: ведь взрыв гранаты означает ее гибель. Гранату не волнует, что ее создали для того, чтобы взрываться, она тоже хочет жить, пусть тихой, никому не нужной, бессмысленной, но – жизнью!
Сначала мы с мамой ругались, потом – поругивались, потом – стали шипеть и постепенно вообще перестали обращать друг на друга внимание. Нет, мы разговаривали, даже делились какими-то, ничего не значащими новостями. Однако, казалось, что мы закрыты друг от друга прозрачной, но не пропускающей воздух пленкой. И жизнь, вроде, какая-то происходит, но – в пленке, в тумане, в невнимательности и незаинтересованности.
Пленка не рвалась и в постели. То, что Ира не интересует меня как женщина, мне казалось естественным. Но то, что я не интересую ее как мужчина, мне представлялось по-настоящему трагическим.
После сорока любой мужчина панически боится стать импотентом. И не потому только, что секс – это обязательный пьедестал, без которого мужик ощущает себя валяющимся в грязи. Главное, после сорока в мужской голове выстраивается такая цепочка: импотенция – простатит – рак – смерть. И то, что в народе называется «бес в ребро» – это, на самом деле, не что иное, как боязнь простатита…
Однажды я вошел в ванну, где мылась Ира, и понял, что твоя мама вызывает у меня эмоций не больше, чем струя воды, которая омывала столь знакомые и когда-то любимые мною формы. Даже, пожалуй, струя воды была более сексуальна, – она порождала фантазию. Ирина не порождала ничего.
(Если ты все-таки сумел дочитать до этого места, подозреваю, что все это читать тебе не очень приятно… Но, знаешь, я не хочу тебе врать, что же я могу поделать, если правда была именно такой. Правда вообще, как правило, довольно противна, и для того, чтобы часто ее не повторять, люди и придумали ложь).
Я попытался обнять Ирину, с ужасом экспериментатора отмечая, что даже прикосновение к женскому телу не порождает во мне ровным счетом ничего.
Ира оттолкнула меня и попросила, широко улыбнувшись, чтобы я не мешал ей делать какие-то там процедуры, способные омолодить ее кожу.
Она ощущала себя победительницей и по-своему, наверное, была права. Только мне абсолютно не нравилась ее победа.
Вытирая как всегда грязным носовым платком капли на лице и на руках, я почему-то совершенно отчетливо понял, что нашей с мамой семьи больше нет. Понял без истерики, даже без тоски и печали, просто осознал спокойно, твердо и окончательно.
Однажды я сидел перед телевизором и думал. Или просто грустил. Радоваться, сидя перед телевизором, невозможно, а грустить или думать – сколько угодно. Что-то там мелькало на экране, кто-то что-то говорил, изо всех сил стараясь выглядеть умным и ироничным, почему-то в телевизоре все стараются выглядеть умными и ироничными. И вдруг я почувствовал, что мои глаза начинают сентиментально увлажнятся. Я сначала почувствовал слезы в глазах, а уже потом понял их причину. Причина была анекдотическая: на экране шла реклама, в которой семья то ли пила сок, то ли ела майонез – не важно. На зависть хорошая, рекламная семья – люди, которым вместе было спокойно и даже весело. Еще у них там собака бегала смешная, а Кузьма уже лежал в могиле, до которой я так и не доехал… Представляешь, расплакаться над рекламой – бред какой-то! Я понял, что надо срочно что-то чинить: или жизнь, или нервы, а, скорее всего, и то, и другое.
Тут вошла твоя мама и очень по-своему истолковала мой печальный взгляд.
– Придумываешь очередной шедевр? – спросила она, всем своим видом показывая, что думает о чем-то совершенно другом. – Наверное, твой следующий спектакль будет очень сентиментальным. Советую тебе раздеть не одну, а несколько актрис: больше сисек – больше зрителей, закон жанра.
И она расхохоталась.
Ира вела себя так, будто я ее обидел. А я тогда еще ее не обижал. Я тогда еще только привыкал к мысли, что смогу ее обидеть…
Когда-то твоя мама сказала мне:
– Раньше люди женились, чтобы вести совместное хозяйство. А теперь они обзаводятся семьей, чтобы спастись от одиночества. Вот ты мне абсолютно не нужен для совместного хозяйства, а одиночество без тебя не победить. Люди женятся, чтобы было с кем стареть. А все разговоры про любовь – фигня. Любовь уходит, а старость приближается. Вот и всё. Чтоб вместе стареть – иной причины для свадьбы не существует.
Мне тогда едва перевалило за тридцать, я только что возглавил театр, женился на лучшей женщине во Вселенной, мир буквально требовал, чтобы я властвовал над ним… Какая старость? О чем речь?! Старость была для меня так же далека, как какая-нибудь Никарагуа, которая, говорят, существует, но я её явно никогда не увижу…
Но сегодня я понимаю, как права была Ира… Любовь, секс, треп – это все, конечно, замечательно. Но самое сложное: найти женщину, с которой можно стареть. В последнее время мне стало казаться, что это вообще не выполнимая задача.
«Семейную» рекламу повторяли множество раз, и неизменно она действовала на меня так же, как на домохозяек любовные романы. Если хочешь, – это было моё Эльдорадо… Нет, сынок, это не магазин и не отель, – это такая волшебная страна, в которую люди стремятся всю жизнь, но отыскать никак не могут. А то, что для меня Эльдорадо воплотилась в рекламном ролике… Что ж поделать? Значит, жизнь у меня такая.
Честно говоря, запамятовал, что именно я тогда репетировал, но очень хорошо помню, как периодически меня охватывала паника: а для кого же я теперь буду делать свои спектакли? Кого я буду ими удивлять?
Я всегда завидовал своим коллегам, которые работали для публики или для начальства, им было проще: ни публика, ни начальство никуда не девались.
Мне же всегда была необходима именно женщина, которую надо удивлять. Восторг, который горел в глазах твоей мамы, когда ей нравилось то, что я делаю, не сравнить ни с какими овациями и премиями…
Я понял, что этого восторга мне не увидеть больше никогда. И вот, что я тебе скажу. Найти женщину, с которой можно переспать – очень легко. Найти женщину, с которой можно говорить – трудно, но реально. Найти женщину, с которой захочется и переспать и поговорить – очень тяжело, но все-таки возможно. Найти женщину, которую захочется удивлять – это все равно, что отыскать таракана в дорогом супермаркете. Странное сравнение? Да. Но это так же трудно, поверь.
х х х
Взгляд мужчины, рядом с которым нет женщины… не в данную секунду, а вообще в жизни… да, взгляд такого мужчины принципиально отличается от взгляда того, рядом с кем женщина есть…
Нет, я лучше бы так сказал: взгляд мужчины, которого ждет женщина, принципиально отличается от взгляда мужика, которого ждут только дела. Да, так, пожалуй, лучше.
Ты понимаешь, что я не говорю сейчас про блядунов, которые бросаются на всё, что излучает тепло. Это чисто физиологическая история, что о ней рассуждать-то? У этих придурков есть любимая шутка: «Трахнуть всех женщин, конечно, нельзя, но стремиться к этому необходимо». Дай Бог им удачи в их нелегком деле, но говорить о них неинтересно.
Вообще, все люди на земле делятся на тех, для кого секс – цель, и тех, для кого секс – результат отношений. Первых я называю блядями и блядунами, ко вторым отношу себя.
Так вот, взгляд мужчины, которого ждут только дела, отличается от взгляда того, кого ждет женщина (а влюбленная женщина, должен тебе сказать, всегда находится в ожидании мужчины, даже если он сидит рядом), – не тем, что одинокий постоянно ищет. Не тем, что он выбирает. Не тем, что у него начинается слюновыделение при взгляде на каждую грудь. Не-е-ет.
Мужчина, которого ждут только дела; мужчина, у которого нет женщины, не исключает романа. Да, он нормально общается, не сально шутит, не дает воли рукам и глазам… Но он не исключает. И женщины это чуют. Каким-то, только одним им ведомым бабским чутьём унюхивают.
И вот ты, независимо от собственной воли, превращаешься в мужчину, которого чуют. Ты думаешь, они чуют мужика, который не исключает, для того, чтобы с ним переспать? Ерунда! Только наивные пацаны, вроде тебя, считают, будто женщины ищут партнера для секса. Запомни, сынок: женщины выискивают мужика, чтобы он разбудил их чувства. Женщинам необходимо нервничать, волноваться, сходить с ума, заботиться, страдать, радоваться, – потому что всё это и называется для них жизнью.
Эх, права была Ирка… Сознательно или нет, но все они ищут убежище от одиночества, и, сколько бы ни происходило в бабской жизни обломов, они все равно считают, будто единственным таким прибежищем может стать любовь. И кто посмеет сказать, что они так уж неправы?
Итак, в моей жизни наступил странный, но занятный период: я смотрел на них, не исключая, а они смотрели на меня, ожидая.
Запомни, сынок: оценивают мужчины, женщины не оценивают, женщины ждут. Время их оценок приходит потом, после того, как они дождались. Только дождавшись, они начинают задавать себе вопросы: кто? зачем? почему? что теперь? как дальше? и главное: любит – не любит?
Я стал другим, и я понимал: у меня, другого, вскоре должна начаться новая жизнь. Ведь не может же такого быть, что человек меняется, а жизнь его остается прежней? Жизнь – эта реальность, которую мы, хоть и немножечко, но сами и создаем; мы меняемся, и реальность, с некоторым даже удивлением для самой себя, тоже начинает становиться иной.
Даже в театре я стал ловить на себе ожидающие взгляды, в основном, конечно, актрис.
Должен сказать тебе абсолютно честно, что я никогда не считал актрис вполне за женщин. Все-таки древние греки были правы, запрещая женщинам играть на сцене. В самом естестве женщины заложено желание нравиться, но делать это естество профессией… Когда баба хотя бы один раз в жизни, стоя на сцене, слышит аплодисменты в свой адрес и видит устремленные на нее восторженные мужские взгляды, она перестает быть женщиной и превращается в манекен, который создали для того, чтобы он нравился. А что, разве нет великих актрис? – возможно, спросишь ты. Есть, разумеется. Есть великие манекены, есть бездарные, – вот только женщин среди них нет.
Женщины-актрисы для меня так же неинтересны, как мужчины – профессиональные охотники: нельзя превращать свою суть в профессию. Профессия должна открывать в человеке что-то новое, а зачем открывать то, что лежит на поверхности?
Ну, да Бог с ним…
Конечно, за мою жизнь пытались актрисы всяко завоевать мое внимание. Были, скажем, те, кто, заметив, что на репетициях я всегда ем шоколад, как бы незаметно – то есть, так, чтобы я увидел непременно – подкладывали черные плитки на мой режиссерский столик. Были и те, кто, зайдя ко мне в кабинет, решительно запирали дверь, садились передо мной, и, стараясь смотреть томно, как бы небрежно поигрывали грудью за глубоким декольте…
Впрочем, очень скоро в театре стало известно, что я люблю свою жену, и постепенно актрисы расстроились и увяли. Мы стали просто коллегами, и это внушало им одновременно скуку и уважение.
И вдруг эти мои коллеги противоположного пола начали смотреть на меня глазами, в которых нагло светилась печаль. Самое забавное заключалось в том, что я ведь ничего не говорил, да и говорить, собственно, было нечего. Но они что-то такое учуяли, что заставило меня понять: даже в актрисах остается эта женская тоска по разбуженным чувствам.
Тоскующие эти взгляды, рвущиеся из манекенной актерской сущности, словно кричали мне, словно напоминали постоянно: «У тебя нет женщины, ради которой можно ставить спектакль!»
Понятно, что «Гамлета» в такой ситуации не поставить, но ведь что-то делать надо. И верный мой директор Вася чуть ли не каждый день требовал премьеры. Боже мой, если бы я любил сцену так, как Вася любит кассу, я бы точно достиг Мейерхольдовских высот!
И тогда я решил поставить довольно пустую старую пьесу Нушича «ОБЭЖ: Общество Белградских эмансипированных женщин». Весьма бессмысленная, надо сказать, история, в которую можно было вставить несколько песенно-танцевальных номеров, пару легких переодеваний на сцене, несколько скабрезных шуток, – в общем, сделать вполне себе зрительский спектакль.
Директор Вася остался очень доволен моим выбором.
Но, главное, в пьесе была хренова туча женских ролей. А я еще решил репетировать двумя составами, поэтому практически весь мой женский коллектив оказался задействован! Много женщин, которые к тому же находятся в твоей власти, это всегда забавно, согласись.
Ах, какими прекрасными пришли они на первую читку! Как тщательно одеты и накрашены! Ах, это удивительное умение женщин одеться и подкраситься так, чтобы все нужное подчеркнуть, а ненужное спрятать! Слушать, как они читают текст полузабытого сербского классика, было совсем не интересно, и я разглядывал своих актрис, стараясь понять, что именно они хотели подчеркнуть, а что именно – спрятать. У каждой из них в глазах горело одно, самое главное сообщение: «Я тут! Посмотрите на меня! Здесь я!»
Однажды в театре я встретил пожилого актера. У него не было роли в новом спектакле, а сериалы как-то внезапно закончились, и он приходил в буфет выпить и поговорить. Он подсел ко мне и сказал ни с того, ни с чего: «Старею, шеф, уже не могу трахнуть женщину, если понимаю, что после секса нам не о чем будет поговорить…»
«Когда я все-таки буду ставить «Гамлета», он сыграет Полония», – подумал я, чтобы не думать о том, что судьба посылает мне очень странные знаки…
А в доме нашем как будто ничего и не изменилось, если не считать того, что как-то естественно и безо всяких скандалов мы с мамой стали спать в разных комнатах. Я проводил свои любимые вечерне-ночные репетиции, возвращался поздно, и, чтобы не будить маму, ложился не в спальне, а в кабинете. Правда, дивана у меня, как ты знаешь, нет, и я ложился на пол, бросив матрац. Поначалу было странно смотреть на мир снизу – таким, наверное, видят его тараканы или кошки. Однако очень быстро я привык и шел спать в кабинет, даже если ложился раньше мамы.
Мы по-прежнему изредка ходили в какие-то неинтересные гости. Я по-прежнему периодически играл роль отца, требовал твой дневник и произносил бессмысленные слова про необходимость хорошо учиться…
Я приносил маме цветы, которые мне иногда дарили на спектаклях, мама целовала меня и забывала поставить букет в вазу, я напоминал ей, она целовала меня, как бы прося прощения, и тут же опять забывала поставить цветы…
И Ире, и мне было совершенно очевидно, что мы расходимся по разным углам жизни, но, несмотря на пятнадцать лет супружества, а, может быть, и благодаря им, – мы делали это абсолютно бесстрастно и даже естественно. Словно прожили предназначенный нам срок, он окончился, и начался какой-то новый, со своими законами, и мы вошли в него, как в неизбежность.
Поначалу я ещё по привычке рассказывал маме про репетиции. Но говорить ей про наглую тоску в глазах моих актрис я не мог, и, боясь проговориться, о работе стал заводить разговор все реже и реже.
Мама о своей жизни вообще молчала, словно доказывая себе и мне, что сможет жить вполне самостоятельно.
Но я уже не исключал. А поскольку я не исключал, я понимал, что скоро оно придет, – то, что я не исключал.
Знаешь, за столько лет жизни с твоей мамой я забыл, что любовь всегда начинается с предчувствия. Все эти разговоры про «гром среди ясного неба», про «взгляд, который вдруг…», про «ничто не предвещало, но неожиданно…» Весь этот треп – туфта.
Любовь приходит только к тому, кто не исключает. И если он не исключает, то придет во что бы то ни стало, уж будь уверен. Для определенного типа людей, к которым, безусловно, отношусь я, любовь – непременная и обязательная составляющая жизни. И когда ее нет, ты ощущаешь рядом пустое место. А пустое место в жизни – это то, что обязательно и непременно заполнится. Обязательно и непременно.
Ты можешь делать вид, что чрезвычайно увлечен работой, или, скажем, воспитанием сына, или, например, вскапыванием огорода на даче, но если ты не исключаешь, — тогда кранты тебе.
И ты будешь удивляться: как гром среди ясного неба! И ты будешь нервно вскрикивать: о, Боже, этот взгляд вдруг пронзил меня! Ты будешь вздыхать: ничто не предвещало, и вдруг я увидел ту, без которой теперь моя жизнь не имеет смысла!
Удивляйся, вскрикивай, вздыхай, делай, что хочешь… Но, если ты не исключаешь, повторю я, то однажды ты увидишь ее, и испытаешь невероятный, панический страх, который всегда и есть предвестник любви – предвестник того вожделенного, прекрасного ужаса, который называется обмен душами. Бойся этого страха, мой мальчик, он, конечно, очень заманчив, но заманит туда, где можно поломать всю свою жизнь.
Кстати, именно этот страх я испытал, увидев высокую спину в своем театре…
Впрочем, до этого лирического мгновения надо было испытать еще немало других очарований-разочарований.
х х х
Конечно, неприятно об этом говорить, но все-таки главное, что в ней притягивало – молодость.
Отвратительно. Когда мужчина заводит роман с той, что годится ему в дочери, – стареющему Дон Жуану представляется, что он кричит на весь мир: смотрите какой я молодой! На самом же деле, он орет совсем иное: глядите, какой я старый! Я уже такой старый, что хочу всем доказать, что я – молодой!
Молодость не требует доказательств. Она просто является миру: смотри, мир, вот я какая – молодость, бери меня, хватай, пользуй! Когда молодость начинает себя доказывать, это верный признак того, что она постарела.
Ну, ничего в ней больше невозможно было разглядеть, кроме нагло бьющей в глаза молодости. Ничего такого, что отличало бы ее от других, поэтому сразу хотелось смотреть на грудь, которая тоже особого впечатления не производила. Глядя на таких женщин, обычно бросают: «Она? Да-да, конечно, красивая», и тотчас начинают разговаривать про что-нибудь другое. Такая красота не восхищает, не ослепляет, не требует обсуждений. Такая красота просит констатации. И всё, ничего иного не просит и не требует.
В юности я прочитал знаменитое стихотворение Николая Заболоцкого «Некрасивая девчонка» с ещё более знаменитым вопросом: «Так что ж она такое, красота, И почему ее обожествляют люди: Сосуд она, в котором пустота, Или огонь, мерцающий в сосуде?» Для юных и романтичных любителей поэзии ответ был очевиден: огонь.
Довольно быстро я вырос из романтики и понял, что бывает по-всякому: и сосуд, и огонь, и огонь без сосуда, и сосуд без огня… А лучше всего: чтобы сосуд – прекрасный, а в нем, чтобы огонь пожароопасно полыхал. В конце – концов, главное ведь не сосуд, и не огонь, а чтобы в глазах женщины явственно читалось: «Эй! Я тут! Видишь меня? Конкретно меня, конкретно ты – видишь?»
Она стояла у служебного входа и ждала меня. Звали ее, конечно, Марина. А как ещё могут звать юное, симпатичное создание, которое ждет режиссера у служебного входа? Ну, разве что – Катя.
Ее звали Марина. Она стояла с букетом красных гвоздик, изо всех сил стараясь изобразить неловкость и стеснительность.
Поскольку зрители не очень хорошо понимают, чем именно занимается режиссер в театре, представителей моей профессии редко встречают поклонницы. Поэтому, в отличие от актеров, режиссер не пробегает с лицом человека, спешащего в туалет, мимо девушки с цветами, а останавливается.
Букет красных гвоздик напоминал про Первое мая, но это бы еще ладно. Марина сделала главную ошибку, которую совершает большинство женщин: на важное свидание они всегда красятся так, будто хотят крикнуть: «Смотрите! Вот я какая!» Не понимают они: мужчины ждут от них совсем иного посыла: «Посмотри, дорогой, какая я настоящая». Глядя на ярко накрашенную даму, мы всегда представляем, как она будет выглядеть без косметики, и эта фантазия нас, чаще всего, пугает.
Что-то я отвлекаюсь все время…
– Здравствуйте, – прошептала Марина ярко накрашенными губами (я тогда еще не знал, что она – Марина, но почему-то чувствовал это). – Спасибо за ваше творчество.
Голос у нее оказался вполне приятным: к счастью, в меру звонким.
– Творчество – у Анны Ахматовой, – пошутил я, уже смотря на ее грудь и думая почему-то: «Неужели с этим совершенно чужим человеком я смогу просыпаться в одной постели? Нет, засыпать – это еще туда-сюда, но просыпаться…»
Забавно: Марина была совсем не похожа на блядь, она еще ничего, по сути, не сказала, кроме глупости про творчество, но, поскольку я не исключал, то и рассматривал Марину как человек, который не исключает. А как ее еще можно было рассматривать?
У меня никогда не было секса с проституткой, представляешь? Я дожил до седых волос – и никогда!
Впрочем, нет, однажды, по молодости, в первый же вечер знакомства я приволок домой девушку, которая поразила меня невероятными размерами своей груди… Но и тогда я сумел убедить себя, что полюбил ее не за это, хоть и прекрасное, но чисто физиологическое свойство, а потому, что хотел ее морально-нравственно-культурно воспитать. Кончилось все, надо сказать, печально: мы так напились, что ходили по очереди блевать на балкон, но донести удавалось не всё, и утром я, преодолевая тошноту, оттирал застывшую блевотину, потому что девушка ушла, сославшись на работу; пришлось на нее обидеться и морально-нравственно-культурно воспитывать других…
Но с того самого утра я понял: мне нужна в женщинах не физиология, а теплота. Почему я устроен таким странным образом, что ищу в женщинах не секс, а тепло, и чего это вдруг я так мерзну, причем с ранней юности, даже не понятно…
Именно подруга юности недавно сказала мне: «Друг мой, все красивые женщины тебе кажутся умными… Это заблуждение». Может, она и права. Подруги юности, если они остаются рядом с нами, редко выносят нам неверные оценки.
Чего ж это я отвлекаюсь всё время? Прости…
Так вот, значит, я сказал, вроде как пошутил:
– Творчество – у Анны Ахматовой.
Марина хмыкнула. Я не исключал того, что наше знакомство с ней продолжится, но за годы жизни с твоей мамой я абсолютно утерял навыки знакомств с дамами. Из какого-то замусоренного угла памяти всплыло воспоминание о том, что для продолжения знакомства необходим азарт, то есть страстное желание этого самого продолжения. Я прислушался к себе и никакого азарта не обнаружил. С желаниями, причем любыми, у меня вообще в последнее время – проблема. Я ведь просто не исключаю, а не исключать — значит: ждать, что будет дальше.
Вот я и ждал. Пауза затягивалась. Наконец Марина, глядя прямо перед собой в лужу, которая была столь грязной, что уже не могла ничего отражать, буркнула:
– Я хочу с вами встретиться и просто так поговорить…
«Что-то ей от меня надо, – подумал я. – Наверное, в театр хочет устроиться».
– Извините, что я так – сразу, – Марина не отрывалась от лужи. – Но глупо делать вид, что это не так. Вы не против со мной пообщаться? Кстати, меня зовут Марина.
Это было совершенно некстати…
«Чего все-таки ей от меня надо?» – спрашивал я непонятно кого, изо всех сил старясь не испытывать неловкости.
Неловкость – это когда хочется, чтобы быстрее все закончилось. И если бы Марина спросила: «Вы против со мной общаться?», я бы ответил: «Да», просто потому, что спорить не было сил. И желания не было.
Но она спросила: «Вы не против?», и я ответил самым коротким ответом:
– Да.
Она улыбнулась. Улыбка была не победительной, какую все чаще видел у своей жены, а тихой. И мне снова показалось, что у Марины умные глаза и высокий лоб. С грудью тоже все было нормально. Впрочем, я давно заметил: женщин с умными глазами гораздо меньше, чем женщин с красивой грудью.
– Завтра у меня репетиция заканчивается в три, – сообщил я, и, как мне показалось – решительно, двинулся к машине. Я почему-то думал, что, когда женщина просит мужчину о свидании, он должен вести себя именно так.
Не слишком ли я мудаковат для сорока семи лет, как думаешь, сынок? Когда тебе сорок семь, уже трудно понять: то ли ты впал в детский маразм, то ли сохранил юношеский пыл, то ли просто превратился в инфантильного идиота.
Дойдя до машины, я подумал, что надо бы предложить ее подвезти хотя бы до метро – это было бы по-мужски, красиво и вообще правильно.
Я обернулся – Марина исчезла.
Ты прекрасно знаешь пустую площадку перед нашим служебным входом и понимаешь, что там негде спрятаться, даже если б Марине вдруг захотелось поиграть в прятки. В театр бы никто ее не пустил, меня она не обгоняла. Она исчезла, как испарилась.
На следующей день на репетиции я про нее не думал совсем. Вообще. Я был свободен от нее, и это мне нравилось. Правда, репетицию я закончил ровно в три, а, шагая к служебному выходу, я зачем-то подумал: «Хорошо бы она не пришла. Бог его знает, что из всего этого получится…»
Я уже открывал дверь, и в голову пришла очередная нелепая мысль: «Очень даже понятно, что получится, если она придет, тоже мне – тайна Мадридского двора».
Марина ждала меня. Во всем своем индийском макияже стояла и нервничала. Я увидел ее через стеклянную дверь служебного входа.
«Если я выйду через главный вход, мы не встретимся», – подумал я и открыл дверь ей навстречу.
Она заметила меня и покраснела. А я испугался. Первое ощущение: не радость, не восторг, даже не любопытство – страх. Не заманчивый страх предчувствия любви, о, нет, обычный такой бытовой ужас интеллигента по поводу сразу всего. Что начнутся отношения, которые бог знает, к чему могут привести; что они не начнутся и я буду по этому поводу переживать; что отношения начнутся, а я окажусь несостоятельным в каком-нибудь смысле, например, в интимном; что сейчас в ресторане буду вести себя неловко, потому что абсолютно забыл, как себя в таких ситуациях ведут; что с Мариной этой придется о чем-нибудь говорить, а я совершенно запамятовал, как разговаривать с незнакомой женщиной, если с ней не связывают никакие дела… И даже по поводу того испытывал я страх, что нас увидят работники театра и подумают бог знает что, и это всё дойдет до Ирины, хотя при чем тут Ирина, ведь всегда можно отбояриться, что это журналистка, пришедшая брать интервью про новую постановку, хотя Ирина не будет ничего спрашивать и не дойдет до нее ничего, а ведь все равно страшно…
Вот.
Я сказал Марине:
– Здесь ресторан есть рядом.
– Я знаю, – смущенно ответила Марина. – Я там даже столик уже заказала… Вы не волнуйтесь: на вашу фамилию, чтобы неловкости не возникло… Ну, потому что там бизнес-ланч дешевый до четырех: народу много. И я вот заказала.
– Вы что живете поблизости? – почему-то спросил я.
Марина ответила быстро:
– Нет, – потом подумала немного и добавила. – Но провожать меня не надо. – Еще подумала и буркнула. – Не претендую…
«Вот, блин, – подумал я. – Её ведь точно придется провожать. Самые пробки начнутся, а живет она наверняка в каком-нибудь Зюзино-Овражкино…»
Да… Про этот аспект романа я как-то раньше не подумал. А если б подумал, то – что? Продолжал бы оставаться в своем нудном состоянии человека, который не исключает, то есть, надеется? Вряд ли…
Через пять минут разговора с Мариной я понял, что она меня почему-то совершенно не раздражает. Через десять я понял, что мне с ней легко. Она была очень хорошая, эта Марина, она говорила мне разные слова про мои спектакли, совершенно не хотела быть актрисой, знала, кто такой Мейерхольд, и ненавидела современную драму.
«Может быть, мне поставить «Гамлета» для нее?» – подумал я.
А почему бы, собственно, так и не подумать? В общем, с первой нашей встречи стало ясно, куда нас эти обеды приведут.
Я не знаю, как про это писать, правда.
Фраза: «… а потом мы курили, глядя в потолок, и молчали», – вызывает у меня усиленный рвотный рефлекс.
А еще есть такие слова: «ее грудь коснулась моих губ…»; «одежда слетела с нее, и я увидел прекрасное женское тело, которое отныне принадлежало мне…»
Ненавижу! Хочется блевать, приговаривая: «Так тебе и надо, мудаку, так тебе и надо».
Недавно я обнаружил у себя на столе пьесу какого-то молодого автора под названием «Сперма». Иногда мне кажется, что пьесы молодых людей, считающих себя драматургами, совершенно самостоятельно – как воробьи – прилетают в кабинет главных режиссеров и аккуратно приземляются к ним на стол. Трудно представить себе, чтобы Чехов или Толстой могли так назвать свою пьесу. Еще труднее вообразить афишу, на которой крупными буквами написано «СПЕРМА», а ниже – моя фамилия в качестве режиссера.
«Что вы ставите сейчас?» «Сперму»… И сразу в Кащенко.
Механически я открыл пьесу где-то посередине, и сразу напал на исповедь героя. Исповедь начиналась такими словами: «Я почувствовал в себе настоящую, подлинную силу и вошел в нее, не раздумывая». Автор не очень умело обращался с местоимениями, и это вселяло надежду на то, что речь шла, скажем, о входе в какую-нибудь комнату с тяжелой дверью, но – нет… Потому что после этого следовало: «Она застонала и задрожала всем своим юным телом…».
Когда у нас это все случилось? В первый день? В пятый? В шестнадцатый? Какая разница! История любви – это не перечень дней, а перечень событий, которые остались в памяти.
Выйдя тогда из квартиры Марины, я чувствовал себя мужчиной, и это было самое главное. Мне было хорошо и легко.
«Ты – классный», – сказала мне Марина.
И даже, если она врала, это не имело значения. Ничто не мешало мне ей поверить.
«В конце – концов, женщина может быть лекарством от простатита, – подумал я и почему-то обрадовался своему цинизму. – Тем более Марина знает, что Мейерхольд – это режиссер, и очень не любит современную драму».
А потом я пришел домой, поцеловал маму.
Она спросила:
– Есть хочешь?
Я честно ответил:
– Очень.
Она спросила:
– Как репетиция? Устал?
Я ответил, опять же, честно:
– Очень.
Она спросила:
– Когда премьера?
Я задумался над ответом, а мама полезла в холодильник за пельменями, и я понял, что в ответе она совершенно не нуждается.
Тогда я спросил:
– Где Сашка?
Мама ответила то, что, в общем, я и сам знал:
– В комнате за компьютером.
Я зашел к тебе и спросил:
– Как дела?
Ты ответил:
– Нормально.
Я спросил:
– Как в школе?
Ты ответил вопросом:
– Дневник показывать?
Твой ответ-вопрос я как бы не услышал, пошел в большую комнату, сел на диван, и, в ожидании вечных пельменей, то ли листал журнал, то ли глядел телевизор, что, в сущности, одно и тоже. Словно ничего не случилось (впрочем, разве что-то случилось?), продолжалась скучная семейная жизнь, без которой, тем не менее, я совершенно не представлял своего существования.
Ну, почему я совершенно не представлял своего существования без этой идиотской, скучной, а теперь еще и лживой (или не лживой?) жизни? Почему я совершенно не мог вообразить, что могу сказать маме: «Прости, я полюбил другую женщину – прощай»? Конечно, ни рядом со мной, ни в отдалении, короче говоря – нигде я не видел женщины, рядом с которой хотел бы стареть. Не с Мариной же, право слово? Но вот странно: я что угодно мог себе нафантазировать, какие угодно адюльтеры и страсти придумать, но стоило лишь начать представлять, что у меня нет этого дома, где ты и мама, а есть какой-то иной, совсем какой-то иной дом – так фантазия сразу застывала, замерзала как будто и отказывалась мне подчиняться. В сторону «иного дома» мне совсем не фантазировалось…
Неужели всё дело в привычке? Просто в привычке, – и всё? Вот Пушкин… Это такой поэт. Его даже ты, наверное, знаешь. Так вот он писал: «Привычка свыше нам дана, Замена счастию она». Понимаешь? Он не писал, что привычка – это есть счастье. Он, как всегда, точно заметил: замена.
Замена – подмена… Подмена – фальшь…
Разве я не вижу всю эту домашнюю фальшь? Вижу. И ты видишь наверняка. И мама. И эта фальшь держит меня? Ну, не бред ли? Бред. А чего ж держит?
В нашем театре один артист – он старше меня лет на десять – ушел от своей жены, пожилой актрисы, к девочке, которая только окончила театральный. Все отнеслись к этому совершено спокойно, практически без эмоций, лишь пожилые актрисы томно вздыхали и жаловались на несправедливость жизни. Понятно, что ни эти вздохи, ни эти жалобы никому интересны не были и никого не взбадривали. Но вот когда через полгода актер вернулся к жене, взбодрились все и с нескрываемым любопытством стали его расспрашивать: чего ж тебе там-то не хватало, у молодой этой красавицы? Пожилой народный артист, хорошо поставленным голосом, отвечал: мол, и там – занудство, и там – занудство. Но старое – привычней, потому что ты к нему уже как-то приспособился, нашел, так сказать, подходы. А к новому еще искать надо, а зачем? Пожилые актрисы понимающе кивали друг другу и переставали вздыхать о несправедливости жизни.
И я тоже понимаю своего народного артиста – вечного красавца. Меняя жену, мужчина ищет новое. А находит старое. Новое старое, конечно, раздражает больше, чем старое старое. Это понятно. Казалось бы, понятно каждому… Только чего ж они, ровесники мои и даже учителя, все меняют и меняют, дураки, что ли?
х х х
…А потом мы курили, глядя в потолок, и не молчали. (Прости, сын, за тошнотворную фразу, но мне лень что-то придумывать, тем более, что, на самом деле, все было именно так).
Мы не молчали, потому что я задал вопрос…
Марина почти никогда ничего не спрашивала. Она просила: «Ну, расскажи мне что-нибудь, ты так интересно рассказываешь». Мне казалось, что она просит искренно, и я рассказывал, все больше распаляясь.
Видишь ли, твою маму совершенно перестали интересовать мои рассказы, а мне было так необходимо рассказывать женщине про то, что со мной происходит, и про те мысли, которые вдруг посещают мою голову, и чтобы женщина слушала не просто внимательно, а чтобы глаза ее разгорались всё больше и больше. Почему это так необходимо человеку, который прожил почти полвека, я не знаю, но необходимо очень…
Когда мы с Мариной уже окончательно разошлись, пообещав быть друзьями, она сказала мне – спокойно, без тени иронии:
– На моем месте может оказаться любая женщина, у которой получится с отрытыми глазами слушать твои рассказы и жарить тебе картошку так, как ты любишь. Все остальные ее качества значения не имеют, понимаешь? Потому что, в сущности, все, чего тебе не хватает в жизни: внимания, и чтобы картошку жарили не лишь бы как, а именно так, как ты любишь…
Я почему-то испугался этих слов и постарался поскорее забыть их. Именно поэтому они запомнились.
Но это случится потом, позже…
А пока мы лежали, курили, глядя, понятно, в потолок (не друг на друга же смотреть?), и я спросил, чтобы разбавить тишину, которая грозила стать совсем уж сентиментальной:
– А куда ты исчезла от служебного входа? Ну, тогда, во время нашей первой встречи. Ты что ведьма?
– Конечно, – сказала Марина и сощурила глаза, как ей, наверное, казалось, кокетливо.
Она старалась делать все так, чтобы мне понравилось. Юное создание, она меня не только любила, но еще и уважала, а это, по-моему, лишнее, во всяком случае, на первом этапе любви. Первый этап любви должен быть безоглядным, безбашенным. Ведь что такое начало любви? Безумство двух сумасшедших. А между сумасшедшими – какое уважение?
Ну вот. А в результате слова Марины были банальны, а реакции – предсказуемы.
Предсказуемые реакции я ненавижу профессионально: когда смотрю спектакль какого-нибудь своего коллеги и понимаю реакцию героя за несколько минут до того, как она произойдет, – мне становится скучно и портится настроение. И с женщинами – та же история, и вообще с людьми: от их предсказуемости становится скучно и портится настроение. С животными почему-то по-другому. Когда Кузьма абсолютно предсказуемо и банально бросался на меня, едва я переступал порог квартиры, – я почему-то радовался. Банальность животных радует, а женская предсказуемость раздражает: это, безусловно, свидетельствует о том, что к женщинам мы все-таки относимся серьезней. Не убежден, что лучше, но, во всяком случае, серьезней.
Чего я отвлекаюсь-то все время…
Итак, Марина ответила:
– Конечно.
В этом ответе много чего заключалось, но всё – не интересное: мол, конечно, я – ведьма, а какая женщина не ведьма, тем более, влюбленная, тем более, в такого мужчину, как ты… Вот сколько банальностей легко читалось в одном этом слове.
Если уж лег с женщиной в постель, то будь любезен играть с ней по одним правилам: и я еще сильнее прижал Марину, ненавидя себя за предсказуемость уже собственных реакций.
А потом спросил:
– А если серьезно?
«Если она скажет: а я серьезно – ведьма, и еще расхохочется при этом», – тогда шандец всему, – подумал я.
Но Марина ответила:
– А я никуда не исчезла, милый…
Слово «милый» второе по отвратительности обращение женщины к мужчине. Золотая медаль у обращений звериных: «котёнок», «зайчонок»… Бронзу прочно удерживает неясно-ласкательное «мася».
– А я никуда не исчезла, милый, – Марина, как назло, еще и протянула это слово «ми-и-и-и-лый». – Я просто села на скамеечку, а ты смотрел поверх меня. Я заметила: мужчины совершенно не умеют искать глазами, если они не сумели разглядеть то, что ожидали, тут же впадают в истерику и не видят даже того, что находится у них перед носом. Ты просто посмотрел поверх меня и решил, что меня нет.
«Какая хорошая фраза! – подумал я. – Какая замечательная фраза про любовь: ты просто посмотрел поверх меня и решил, что меня нет».
Я все время пытался в словах Марины отыскать хоть что-нибудь своё, не тривиальное, пытался с тем усталым отчаянием, с каким медведь-шатун, некстати проснувшийся зимой, ищет себе пропитание: вот ведь понимает, что не найдет, а все равно ищет, надеясь на чудо…
Сейчас скажу тебе, сын, очень скучные слова, но, если ты – вдруг – сумел дочитать до этого места, ты и слова эти не пропусти, потому что они мне кажутся важными.
Так вот. Любое дело в жизни, любой поступок начинается с философии этого дела или поступка, другими словами: с ответа на вопрос: «Для чего?» И на вопрос этот ты сам себе должен отвечать абсолютно честно, потому что какой смысл ты в деле или поступке сам для себя определишь, такой результат и получишь. К слову сказать, это для меня является безусловным доказательством Бога: Господь всегда разрешает отыскать тот смысл, который человек сам для себя определяет. В этом еще и доброта Бога – Он не противоречит нашим подлинным желаниям.
Желание – невероятная движущая сила. И не потому, что, как утверждают безумцы: «хотеть – значит, мочь», а потому, что хотеть значит получить помощь Бога. Ты всегда сто раз подумай, прежде чем чего-нибудь захотеть, а то ведь оно сбудется. И не надейся, что сможешь скрыть свои подлинные желания – это невозможно.
Вот я хотел женщину как средство борьбы против простатита, и я ее получил. Я бы даже так сказал: я получил именно ее. Если я отношусь к тем мужчинам, для которых секс не цель отношений, а результат, значит, я должен признать, что для меня секс – это тест, он показывает, как в жизни все происходит на самом деле.
Ведь в жизни можно легко врать, прикидываться, улыбаться, когда совсем не весело, говорить разные красивые слова, думая при этом о том, что забыл заправить машину. Можно даже на некоторое время поверить этим своим собственным словам и выводам. Можно придумать себе прекрасную, даже лирическую жизнь и делать вид, что ты именно ею и живешь. В жизни все можно.
Но когда ты попадаешь в постель, там врать не получается. В койке – что чувствуешь, то чувствуешь, а что не чувствуешь – не сыграешь. А если и получится пару-тройку раз прикинуться, то надоест очень быстро. Секс нагло – ведь никто его не просит – показывает тебе, каков ты есть на самом деле, и как ты к женщине своей относишься, и что между вами есть, а чего нет вовсе…
Мы опять лежали… там… курили… ее рука нежно… моя рука нежно… В общем, всё та же туфта всегдашняя: я как раз раздумывал, о чем бы таком лирическом спросить, чтобы пауза не затягивалась, и вдруг Марина собралась с духом и сама задала мне вопрос. От страха даже к стене отвернулась, но все-таки спросила:
– Скажи, а почему мы занимаемся этим только в темноте? Даже, когда ты приходишь ко мне днем, ты, прежде чем лечь ко мне, – зашториваешь окна… Тебе неприятно меня видеть?
Что я могу сказать, Марина? Что?! Что наслаждение (назовем это так) я получаю только, когда чувствую твое тело, но не вижу его? Что я могу с этим поделать, Марина, скажи? Как же мне быть, если меня раздражает каждая родинка на твоем теле? Я ненавижу женский целлюлит, но куски жира у тебя висят повсюду, Марина, даже в тех местах, которые, как я считал, не могут жиреть. Эти мягкие куски тела еще ничего себе на ощупь, особенно, если включить фантазию, но неприятны на вид! Это ужасно в твоем возрасте, Марина, что же будет дальше? Шрам на животе от аппендицита – отвратителен, с этим надо что-то делать, потому что мужчина должен любить женский живот; шрамы, Марина, должны украшать мужское лицо, но они не могут украшать женское тело. Твоя грудь прекрасна на ощупь, она в меру тверда и в меру податлива, но, Марина, эта жирная родинка посередине… Лучше трогать, чем смотреть… И не надо, Марина, спрашивать меня про то, почему мы не ищем какие-то там новые позы, мы не в балете, Марина, и не выступаем с танцами на льду по Первому каналу, а для борьбы с простатитом – это глупое излишество. И вообще, Марина, ты слишком податлива и хороша; ты, Марина, парфюмерная лавка, в которую можно зайти на минутку, но в которой совершенно невозможно находиться долго. Ты хорошо слушаешь, Марина, но иногда и мне тоже хочется что-нибудь услышать от тебя, Марина, и, желательно, не банальное, а что-нибудь такое, что возбудит мысль. Да, Марина, у мужчин надо возбуждать не только то, что возбуждается само, но еще и мысль, потому что подлинная сексуальность – она в мозгу, а вовсе не в других частях тела, как кажется тебе… Ради тебя, Марина, увы, нельзя ставить «Гамлета», ты вообще не та женщина, ради которой можно что-то делать… Женщину, Марина, хочется удивлять, а ты, кажется, удивлена с рождения… Пойми это, Марина, и успокойся, и не задавай лишних вопросов ни себе, ни мне. Как говорится: задавать вопросы, Марина, это не твое… Популярная в дни моей молодости группа пела такие слова: «Ты – моя женщина, я – твой мужчина. Если надо причину, то это – причина…» И не надо искать иных причин, Марина, не надо… И вообще, не призвать ли мне тебя к смирению, а именно: к тому, чтобы с благодарностью принимать то, что есть? Да, я не сахар, Марина, но и ты – не чай, чтобы полностью в тебе раствориться… Так что успокойся, Марина, и ещё раз прошу: не задавай лишних вопросов.
Я не сказал всего этого, конечно. Разумеется, я всего этого не произнес. Я чего-то такое тупо-лирическое ляпнул, а это все в несказанном виде упало куда-то внутрь меня, где и затаилось злым раздражением.
И мы опять лежали, опять курили-молчали и говорили о бессмысленном, перекидывались пинг-понгом какими-то незначащими словами о любви, и вдруг зазвонил мобильник.
Ирина.
– Да, – сказал я.
– Привет, – сказала жена. – А ведь у тебя в театре сегодня нет репетиций. И вчера их у тебя не было. Ты что, дурачок, не понимаешь, что мне это очень легко проверить? Вроде, взрослый мужик, мог бы как-нибудь научиться врать. А то бы и честно сказал: мол, завел себе бабу по причине того, что ты меня не возбуждаешь, а я боюсь простатита. Кстати, дорогой, ученые давно доказали, что возникновение простатита совершенно не зависит от количества половых актов. Пока!
«Как же Ирка меня хорошо знает», – почти с нежностью подумал я.
Твоя мама говорила совершенно спокойно: и тени той истерики, которая нам с тобой столь хорошо известна, не было в ее словах.
– Жена? Неприятности? – казалось, Марина готова мне искренно сострадать.
– Да нет, – вяло ответил я. – У Сашки там что-то случилось.
– У детей постоянно что-то случается, – Марина, как ей казалось, кокетливо, поцеловала меня в нос. – Только ты, милый, совершенно не умеешь врать.
«И эта туда же, – подумал я. – Марина, ты – удивительна. Даже твое сочувствие – банально».
– Тебе надо домой? – Марина села на кровать, и я непроизвольно отвернулся, чтобы не разглядывать тонкий жирок на ее спине. – Беги! – Марина меня уважала и не устраивала сцен ревности.
Когда я пришел домой, Ирина уже спала. Или делала вид, что спит.
Удивительно, как быстро я привык к тому, что меня никто не встречает! А раньше выскакивал Кузьма, подходила Ирина со своим, конечно, формальным, но все-таки поцелуем, и ты тоже появлялся из комнаты, опять же с формальным, но все-таки приветствием: «Привет, пап».
«Значит, «выяснялки» будут завтра», – подумал я, расстелил свой матрац и уснул абсолютно спокойно – как мужик после секса, а вовсе не как человек, у которого не чиста совесть.
Почему я закончил репетицию раньше? Почему я так хотел придти домой не поздно? Почему я не брал телефон, видя, что звонит Марина? Почему я вел себя, словно подросток, который несет домой дневник с двойкой? Короче говоря: почему я боялся? Отчего нервничал я – взрослый, состоявшийся, не бедный, и, как подтверждает жизнь, вполне себе здоровый мужик? Что я боялся потерять? Что? Квартиру, из которой давно исчезло то, что, собственно, и превращает четыре стены в настоящий дом, – уют? Жену, которая на ползущего по кухонному полу таракана обращает внимания больше, чем на меня? Тебя? Может быть, действительно, тебя?..
Ты, сын, единственное, что я по-настоящему люблю в нашем доме. Я могу на тебя кричать, могу дать тебе подзатыльник, но, когда ты входишь в комнату – у меня сердце сжимается от нежности. Почему-то мне кажется, что я воспитываю тебя, когда мы сидим вместе у телевизора и смотрим футбол. Или когда ты задаешь какой-нибудь дурацкий вопрос, а я не смеюсь над ним, но отвечаю тебе, изо всех сил стараясь выглядеть серьезным. Помнишь, ты спросил меня, как целоваться с девочкой, и я подробно объяснял тебе? Оказалось, нет в мире ничего более отвратительного, чем объяснять технику поцелуя, но я понимал: если в чем-то ошибусь, то ты осрамишься, и потому очень старался. И когда мы просто разговариваем, я думаю (или придумываю?), что воспитываю тебя. И мне почему-то кажется, что если мы станем жить в разных домах, я буду воспитывать тебя хуже.
Все это так. Но главное – не в этом. Если и боялся я какой-то потери, то лишь потери самого себя. И это не красивые слова, поверь… Мне казалось, – а точнее сказать: чувствовалось, что если мама выгонит меня из дома (и я, разумеется, уйду), то без мамы, без тебя, без нашей квартиры я превращусь в какого-то совсем другого человека. Возможно, этот другой будет лучше меня сегодняшнего, возможно – хуже, главное: он будет иной. А если тебе под полтинник, меняться очень страшно, особенно, когда неясно: а меняться-то ради чего? Ради Марины? Смешно… Ради другой такой же Марины – Лены – Кати? Ради третьей? Глупости, глупости… Ужасной, нервной, холодной жизнью в своем доме я дорожил, потому что это была моя жизнь, а какой может быть жизнь иная, я не ведал, а потому боялся ее, как любой человек боится неведомого.
Я ехал домой не поздно, словно кому-то что-то этим доказывая, я понимал, что еду «на выяснялки», и боялся: и самих «выяснялок», и того, что за ними может последовать. Из-за этого страха я был отвратителен сам себе, но ничего не мог поделать.
Я открыл дверь. Вошел на кухню.
– Привет, – сказала Ирина, подошла ко мне и поцеловала в щеку. – Есть будешь?
– Очень, – почему-то ответил я. И добавил. – Очень буду.
Потом она спросила:
– Как идут репетиции Нушича?
Я не ответил.
Она переспросила, как бы показывая свою заинтересованность.
Я отвечал что-то не важное, не интересное, а сам думал: «Сейчас Сашка ляжет спать, и начнется».
Но мама легла раньше тебя.
На следующий день повторилось то же самое.
И на следующий.
Я, словно боясь чего-то, приходил домой вовремя. Я покупал тебе мороженое и еще какую-то идиотскую колбасу, и пельмени зачем-то, и картошку – в общем, разную ерунду, которая всегда может пригодиться.
Я как будто доказывал твоей маме, что я – примерный муж, хотя она не просила никаких доказательств.
Мама встречала меня с улыбкой, целовала в щеку, разбирала сумки, и мы ужинали втроем, и вели какие-то пустые разговоры, мы с тобой периодически грызлись, потом мирились, короче говоря, шла нормальная, семейная, по-своему прекрасная своей занудливостью жизнь, которая меня невероятно бесила: я совершенно не понимал, что с ней делать. Как быть с «выяснялками», со скандалами всякими я очень хорошо понимал, а что делать с нормальной жизнью – не знал.
Первым, конечно, не выдержал я.
У нас был прогон второго акта. Мне показалось, что все очень скучно, неувлекательно, вяло. Я наорал на артистов. Наорал грубо, глупо, скучно, и, главное, бесперспективно. Артисты сидели, потупившись, не спорили, не возражали, и это было совсем противно.
Я пришел домой, выпил пол стакана водки, и, когда мама сказала: «Всем – добрых снов», прошел в ее (еще недавно нашу) спальню, сел на кровать и спросил:
– Ты не хочешь со мной поговорить?
– Встань с кровати, – сказала Ира совершенно спокойно. – Ты же знаешь: я не люблю, когда в тех же брюках, что ходят по улице, садятся на кровать.
Я встал.
– О чем? – спросила Ира.
– На пуфике не спят? – буркнул я, как мне показалось – зло и иронично, и рухнул на пуфик. – Ты знаешь, о чем.
Ира подошла ко мне близко-близко. Она смотрела на меня сверху вниз, и от этого я чувствовал себя виноватым.
Я опустил голову.
Ира молчала и улыбалась. Я молчал, хмурился, смотрел в пол. Сколько это длилось, я понятия не имею. Лично мне показалось, что прошла вечность.
Ира нагнулась, поцеловала меня в затылок, – ее длинные, рыжие волосы забыто щекотали мне щеки.
– Хороший мой, – мне казалось, что она улыбается, хотя я этого и не мог видеть. – Хороший мой, меня совершенно не интересуют твои бабы. Веришь?
Я зачем-то подумал: «Хороший мой» – это ведь гораздо лучше, чем «милый», «зайчонок» или «мася».
– Хороший мой, – словно специально повторила Ира. – Мы с тобой близкие, чужие люди. Так бывает. Близкие и чужие. Ты совсем не понимаешь меня, а мне вовсе не охота понимать тебя. Но между нами есть что-то такое, что непременно связывает людей, если они живут так долго…
– Да-да, – радостно сказал я, не поднимая головы. – Я как раз недавно думал об этом.
Ирина потрепала меня по голове:
– Видишь, как хорошо: мы всё ещё думаем с тобой об одном и том же.
И тогда я спросил, сам не зная зачем:
– А ты еще хочешь со мной стареть?
Ирина ответила, не меняя интонации:
– А вот это вопрос подлый, и ты это прекрасно понимаешь. Кстати, хороший мой, ты, наверное, думаешь, что старость от нас далеко? Не хочется тебя огорчать, но, к сожалению, она уже наступает. Ты что, надеешься, что здесь будет, как в театре: «картина последняя – старость», и актеры начинают играть стариков? Нет, мой хороший. Старость наступает постепенно, как… – Ирина задумалась на мгновение. – Как… Как утренний туман, она наступает. Наступает, наступает, и вот ты уже – другой, старый, затуманенный.
Ирина расхохоталась.
Я обнял ее за ноги. Она отстранилась.
– Близкие и чужие, – повторила она, продолжая смеяться. – Правда, я здорово придумала: близкие и чужие?
Я вышел из ее спальни, выпил еще водки, почистил зубы, выключил везде свет, пошел в кабинет.
«Моя жизнь ее совершенно не волнует, моя жизнь ее совершенно не волнует, – повторял я, как школьник, который учит наизусть стихотворение. – Моя жизнь ее совершенно не волнует».
Я посидел за письменным столом, зачем-то для самого себя делая вид, будто готовлюсь к репетиции. Расстелил матрац. Разделся, аккуратно развесил вещи в шкаф.
Лег. Погасил ночник.
Я не испытывал никакого облегчения из-за того, что Ирина не будет выяснять со мной отношения, гораздо больше, признаюсь, меня поразило, что ей абсолютно не интересна моя жизнь. Как такое может быть? Я вдруг стал не интересен своей жене? Со всеми моими бредовыми идеями, потрясающими планами, увлекательными и смешными рассказами, со всей нашей общей жизнью, наконец? Я – человек, который вытащил ее из болезни, от которого она родила сына, вместе с которым построила дом, – стал ей абсолютно безразличен? Как такое могло произойти? Почему она смогла так быстро вычеркнуть меня из своей жизни? Неужели я такой незначительный, даже для своей жены, человек, что меня можно так легко выкинуть и из жизни, и из души?
А… Наверное, у нее у самой роман… Почему нет? Женщин, конечно, не страшит простатит, но в сорок лет невозможно прожить без секса. Наверняка у нее есть мужик. Или женщина? Почему нет? Все женщины – потенциальные лесбиянки… Я стал думать, какой вариант меня раздражает меньше: если у жены – любовник или если у неё – любовница? Как ни странно, эти размышления меня успокоили. Предположение, в котором я был практически убежден, делало мир более понятным, и, значит, не таким противным.
И тут возникла новая догадка: все вообще очень просто: у нее – климакс. Почему нет? В сорок лет – рано? Кто сказал? А, может быть, ее болезнь спровоцировала ранний климакс? Вполне, кстати, возможный вариант.
Я уснул, абсолютно уверенный в том, что в ближайшие дни мы разведемся, и волновало меня только одно: как рассказать о нашем разводе тебе, моему сыну.
Но на следующий день ничего не произошло. И через день тоже. Мы продолжали играть в семью. Поначалу я ещё спрашивал самого себя: зачем? Но потом надоело задавать вопрос, на который нет ответа.
Приближалась премьера, и работа, как водится, спасала меня от размышлений, раздирающих душу. Знаешь, что такое размышления, раздирающие душу? Эти те мысли, которые не ведут ни к каким решениям. Просто дерут твою душу мысли бессмысленные и беспощадные, как русский бунт, и всё.
Премьера «ОБЭЖ» прошла, на удивление, успешно. Народ хохотал, радовался, хлопал. Мой Василий долго жал руку и обещал гастроли в Питере, Прибалтике и еще Бог знает где.
Ирина пришла на премьеру в потрясающем, неведомом мне платье. Она сказала мне: «Молодец», а на банкете отменно играла роль любящей жены, которая гордится своим мужем.
От всего этого мне было почему-то невыносимо грустно, сам даже не знаю почему.
Дома я спросил Ирину:
– Ну, и как тебе, если серьезно?
Мне очень хотелось поговорить с ней про премьеру. Не знаю: привычка это или не привычка, просто хотелось очень.
Но Ирина только улыбнулась:
– Я же сказала: «Молодец». Доброй ночи!
И ушла в спальню.
«А если сейчас взять и ворваться в ее спальню», – вздохнул я и пошел в кабинет на свой матрац.
Марина пришла на второй спектакль, который, как водится, был хуже первого: актеры успокоились, драйв не рождался… Однако, зритель хлопал все равно, мне кричали: «Браво!» Я скромно кланялся, выводил артистов, в общем, всё было вполне себе по-премьерному.
На следующий день я приехал к Марине.
На кухне меня ждал празднично накрытый стол. Причем накрыт он был не лишь бы как и чем, а очень вкусной едой. Я с наслаждением ел, а Марина с не меньшим удовольствием смотрела, как я поедаю ее стряпню. Она бесконечно говорила, что я – гений, что я сам не знаю, какой шедевр создал, и что в наше злое время столь необходимы такие добрые, легкие спектакли, на которых люди могут отдохнуть от этого времени и даже немного возвыситься душой.
Я смотрел на нее и думал: «Ну, почему же я не люблю тебя, такую хорошую? Почему же мне так скучно с тобой? Почему все твои слова меня не радуют, а раздражают? Что же мне еще, придурку, надо? Ну, что я за сволочь?»
Однако, я честно старался улыбаться, изображать страсть и между блюдами успевал целовать Марину в какие-то неожиданные места.
Потом мы пошли в спальню, и я зашторил окно. Пока я его зашторивал, Марина успела раздеться. Когда я повернулся к ней, она лежала, раскинув руки, и улыбалась, как ей, наверное, казалось, призывно.
– Ну, иди ко мне, гений, – зачем-то прошептала она. – Иди, милый. Представляешь, ты первый гений, с которым я делю ложе.
Я быстро разделся, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не сказать какую-нибудь гадость, закрыл глаза и рухнул в постель, по-моему, даже придавив какую-то ее выступающую часть тела…
…Я уже собрался уходить, когда Марина вдруг сказала:
– Когда мы расстанемся, я ведь могу рассчитывать на твою дружбу?
– А почему… – начал я.
Но Марина не дала договорить:
– Милый, я все чувствую. Я, конечно, не гениальная, как ты, но я все чувствую. Если захочешь, ты можешь уйти от меня в любой момент. Правда. Никаких обязательств. Ты очень нерешительный, будешь мучиться – не стоит. Знаешь, человеку бывает сложней поверить в то, что его не любят, чем в то, что его любят.
Это была интересная мысль, мне даже понравилась.
Что надо говорить, я не знал и мямлил:
– Нет, Марин… Почему? И вообще… А дружить, если…
Но она снова не позволила мне договорить. Тут-то она и сказала то, что я изо всех сил стараюсь забыть, но не могу.
– Милый, ты понимаешь, что на моем месте может быть любая женщина, которая сможет с открытыми глазами слушать твои рассказы и жарить тебе картошку так, как ты любишь. Любая, понимаешь? Потому что, в сущности, все, чего тебе не хватает в жизни: внимания, и чтобы картошку жарили не лишь бы как, а именно так, как ты любишь…
Я решил, что больше не приду к Марине никогда.
х х х
Выяснялось, что я совершенно не умею расставаться с женщинами. Вообще. Как-то я предпочитаю, чтобы они уходили от меня сами, и сами говорили какие-то прощальные слова. Нет, послать я, конечно, могу. Истерику там устроить. Запросто. Но вот красиво уйти, уйти так, чтобы остаться друзьями, – не получается. Я вообще не очень понимаю: как можно остаться друзьями с той, которую любил? Вот женщина была для тебя миром, загораживала мир, заменяла… А потом остаться друзьями?
Не понимаю…
Когда в театре я увидел эту вертикальную спину, я почему-то сразу подумал, что расстаться с ней будет невозможно.
Или я это уже сейчас придумал?
Времена так путаются в голове: прошлое, настоящее, и будущее все время забегает. Старость, наверное…
А что, сынок, старость – это, может, когда времена путаются в голове. Как думаешь, я прав?