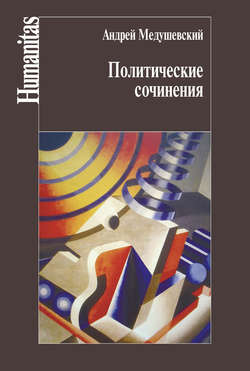Читать книгу Политические сочинения - Андрей Медушевский - Страница 3
Раздел I
Право и справедливость в обществах переходного типа
Когнитивная теория права и юридическое конструирование реальности
ОглавлениеКогнитивно-информационная теория сыграла ключевую роль в современном познании, позволив преодолеть односторонность традиционных неокантианских и позитивистских схем. Она опирается на логические принципы Э. Гуссерля, показавшего, каким образом, формируя картину мира, мы последовательно продвигаемся в познании явлений эмпирической реальности (выступающих для нас в виде феноменов)[1]. Когнитивная теория истории и система ее понятий представлена в трудах выдающегося российского ученого – проф. О.М. Медушевской (1922–2007 гг.), автора классических трудов по теории и методологии гуманитарных наук, заложивших основу наукоучения, преодолевающего разрыв естественных и гуманитарных наук, обеспечивающего доказательные критерии проверки достоверности гуманитарного знания как строго научного[2]. Данный подход обозначает обе стороны ситуации познания – его объект (вещи) и познающий субъект, раскрывая логику выведения их системных информационных связей через анализ когнитивной устремленности индивида к смыслу. Решающий элемент подхода есть идея «интеллектуального продукта» – материального явления и доказательства целенаправленной человеческой деятельности в истории. В нашу задачу входит определить возможности когнитивной теории при изучении правового феномена, в частности юридического конструирования реальности.
Когнитивно-информационная теория: основные понятия
Когнитивно-информационная теория выдвигает ряд новых системных категорий: это понятие информационной сферы, которая (по аналогии с категориями биосферы и ноосферы) определяет материально-вещественный след совокупного когнитивного феномена человеческого мышления, проявлявшегося в деятельности; информационной среды человека – пространства, в котором реализуется способность опосредованного (через материальный продукт) информационного обмена, охватывающего, таким образом, все разумное человечество в его истории. Информационный обмен осуществляется по горизонтали (он имеет непосредственный характер, поскольку обмен идет в режиме настоящего времени – наблюдения вещей, обмена ими) и по вертикали (ретроспективный или опосредованный информационный обмен). Ключевое значение для когнитивной концепции гуманитарного познания имеет именно понятие опосредованного информационного обмена – специфически человеческой способности обмена информацией через посредство целенаправленно созданных единиц интеллектуального продукта. Опосредованный информационный обмен осуществляется через материальный продукт (вещь), представляющий собой результат целенаправленной человеческой деятельности – осознанного поведения индивида, направленного к достижению поставленной цели. Эта схема позволяет говорить об информационном обмене между индивидами и социумом. Главной проблемой философии науки новейшего времени стало обращение к способам самоорганизации системы, механизмам целостности, их выражению в социальных нормах.
Присущее индивиду свойство воспринимать информационный ресурс, заключенный в интеллектуальных продуктах, созданных другим человеком, и включать его в свою информационную картину, позволяет раскрыть различие между антропологической и когнитивной видами социальной адаптации: последняя состоит как раз в освоении способности индивида завершить цикл активного мышления фазой фиксации его результата в виде интеллектуального продукта, вещи и умения расшифровать ее информацию. Сама возможность данного вида обмена, принципиального для гуманитарного познания, обусловлена процессами социальной адаптации, включающими две фазы – антропологическую адаптацию (помощь общества в освоении навыков человеческого поведения в виде становления «на ноги» в буквальном смысле слова) и когнитивную адаптацию – условие вхождения индивида в человеческую информационную среду через способность воплощать идею мышления в вещь и также, соответственно, способность распознавать в структуре целенаправленно созданной вещи ее назначение, функцию и смысл ее создания, распознавать идею другого индивида. Исторический процесс с этих позиций есть совокупность человеческих деятельностей, спонтанно развивающихся во времени; поэтому история – процесс, т. е. продвижение во времени[3]. Частью этого процесса выступает когнитивная адаптация в юридически мотивированных формах деятельности.
Система права: нормы и институты в когнитивной адаптации индивида
Роль социума в становлении человека с этих позиций приоритетна: она заключается не только в антропологической, но и когнитивной адаптации индивида – освоении общих навыков коммуникации (речи), понимания, творчества как преобразования доступного информационного ресурса, понимания его универсальных параметров. С этих позиций возможно понимание права как фиксированной нормы – меры должного поведения и ее формально-юридических признаков. В этом контексте важно понятие системы права как внутреннего единства. В современной юриспруденции представлено два диаметрально противоположных подхода к интерпретации понятия системы. Первый исходит из того, что происхождение единства системы имеет внешний характер (она конструируется наблюдателем – ученым или правоприменителем извне, но не имеет внутренних связей); второй – утверждает существование таких связей, определяющих внутреннее единство. Характерной чертой юридического порядка выступают единство, соответствие (гомогенность) и полнота, что позволяет выработать критерии преодоления пробелов в праве и разрешать юридические антиномии. Второй подход подчеркивает преемственность развития правовой системы в истории и поступательное накопление юридических знаний. В этом контексте Институции Гая могут служить примером системного подхода, а глоссы и комментарии к Дигестам – примером его антисистематического видения. Культура Возрождения и рационалистического гуманизма разрабатывала основу системного видения права и искала его органического единства с позиций теории естественного права. «Юриспруденция понятий» последующего времени выдвигала необходимость конструирования базовых принципов, которые определяют единство юридических институтов и представлений о правовом порядке как системе. Кельзеновский нормативизм возродил динамическую концепцию права: эта концепция обеспечила иерархическую структуру права, его систематическую интерпретацию с позиций фундаментальной нормы, которая выступала интегрирующим фактором и обеспечивала поддержку институционализированной санкции[4].
Современная наука исходит из понимания права как нормативной, структурированной и интегрированной системы, характеризующейся своей институционализированной формальной санкцией, цель которой состоит в регулировании социальной организации. Формалистической теории нормативизма была противопоставлена институциональная теория (Санти Романо, М. Ориу)[5], которая полноценно ввела понятие института, начиная с фазы создания права и заканчивая его интерпретацией и применением. Этот подход получил развитие в рамках современного неоинституционализма (Д. Норт), связавшего воедино понятие института, его нормативной и когнитивно-информационной структуры. Институт выступает как реализованная в повседневной практике норма поведения, ставшая устойчивой и типичной. «Институты – это „правила игры” в обществе, или, выражаясь более формально, созданные человеком ограничительные рамки, которые организуют взаимоотношения между людьми»[6]. Неоинституциональная школа подвергает критике прежде всего антинормативизм классического институционализма. Свою задачу она видит в выявлении самостоятельного значения правовой нормы в конструировании социальных отношений и самих институтов в рамках социальной и когнитивной адаптации индивидов. В этом смысле право как система норм есть реальность, определяющая функционирование социальных институтов (поскольку нормы создают информационную основу формирования структуры институтов и их деятельности). Практический вывод из неоинституционального подхода к праву состоит в рассмотрении права и правовых норм как важнейшего фактора организации и трансформации общества. Синтез элементов нормативизма, институционализма и функционализма с позиций когнитивно-информационной теории становится возможен в рамках такого направления, как метаюриспруденция.
В рамках когнитивно-информационной парадигмы получает обоснование метаюриспруденция – интерпретация природы юридической нормы и этического закона как различных типов информации и лингвистических форм их выражения, выражающих формы социальной и когнитивной адаптации индивида в социуме. Открытия ХХ в. в области антропологии на основе функционального анализа источников обычного права позволили сформулировать следующие гипотезы в исследовании нормы и санкции: показать, что не норма, но поведенческие установки составляют существо правового феномена; установить как происходит генезис права – норм и санкций у примитивных народов; констатировать возможность существования различных правовых систем в одном обществе; отрицание прямой взаимосвязи права и государства; возможность права (норм) без санкций; возможность санкций без норм, т. е. формирования правовой нормы в результате систематического применения санкций к определенным видам поведения; возможность сравнительного изучения различных комбинаций правовых, квази-правовых и политических способов социального регулирования[7]. Этот подход, ассоциирующийся в науке в основном с теорией «живого права» Е. Эрлиха[8], опирается во многом на русскую школу социологии права, прежде всего психологическую теорию права Л.И. Петражицкого[9], а также идеи П.Г. Виноградова, Г.Д. Гурвича, П.А. Сорокина и Н.С. Тимашева[10]. Право в этой трактовке переставало быть автономным образованием, не связанным с общественной системой разделения на группы и присущим только обществу как целому. Традиционный взгляд на право, при всей его устойчивости, был поставлен под сомнение теми исследователями, которые на антропологическом материале показали феномен дискретного единства в обществе как целом. П.Г. Виноградов, например, различал два типа изменений в праве – «стихийные изменения законов и системные изменения, связанные с отношениями норм и институтов в их доктринальной связи»[11]. Это открывало возможность вывода о существовании социальных структур и различных уровней права в одном обществе, возможности социального обмена между группами и его выражения в сближении правовых систем, присущих этим группам. Данное направление исследований актуализируется в контексте интеракционизма, теории социального обмена, функционализма, а также в инструментальных подходах социологии права и истории[12].
Трансформация динамичной информации в статичную как основа конструирования юридических норм
Для интерпретации механизма образования понятий, выражающих информационный ресурс человечества, в рамках когнитивного метода важно различие понятий динамичной (живой) и статичной (фиксированной) информации, а также анализ процесса перехода от одного типа информации к другому в процессе создания интеллектуального продукта. Динамичная (живая) информация – это способность живой системы улавливать связь между внешним проявлением окружающей среды, доступным чувственному восприятию, и ее внутренним состоянием, недоступным такому восприятию, или, в ситуации человека, способность делать это через усиление чувственного восприятия с помощью техники (например, подзорная труба, усиливающая возможность увидеть на более далеком расстоянии, термометр и т. п.). Это – способность живой системы интерпретировать внешнее проявление окружающей среды как сигнал о состоянии данной среды. Живой информации противопоставляется статичная (фиксированная) информация, представленная в интеллектуальных продуктах. Поэтому она неподвластна рамкам времени и пространства. Информационный обмен происходит по всему пространству деятельности человечества и в любой точке пространства. Человек отдает свой информационный ресурс на общее информационное пространство и, в свою очередь, в принципе располагает всем ресурсом фиксированной информации, накопленной человечеством. Ситуация превращения живой информации в статичную (фиксированную) имеет важное эвристическое значение. Особое значение для передачи и накопления информационного ресурса человечества имеет опосредованный информационный обмен, основанный на генетической способности человека преобразовывать информацию – из динамической (возникающей в живом общении) в статическую (фиксированную на материальных носителях).
Анализ преобразования информации актуален для ряда гуманитарных дисциплин, стремящихся к получению точного знания: на этой основе возможен синтез юриспруденции, истории, юридической антропологии и лингвистики, например, при интерпретации соотношения неписаного и писаного права, незафиксированного обычая (или прецедента) и фиксированного закона как вариантов динамической и статической информации[13]. Остановленное мгновение – открывает индивиду новые информационные возможности: а) для сохранения и передачи информации; в) для самопознания; с) для совершенствования движения к цели.
От одномоментного соединения мышление-действие необходимо отличать деятельность. Деятельность – последовательность развернутых во времени действий, направляемых не отдельными импульсами окружающей среды, но заранее осознанной целью. Она отличается, во-первых, возможностью неограничения во времени; во-вторых, возможностью неоднократной коррекции промежуточных результатов (поэтапной фиксации и поэтапной коррекции); в-третьих, уточнения цели осмысления проблемной ситуации. Деятельность, следовательно, есть осознанная последовательность актов мышления-действия, характеризующаяся созданием интеллектуальных продуктов, возможностью самокоррекции, осмысления пути к цели и осознанного выбора средств. Внешним отличием действия и деятельности как раз и является наличие интеллектуальных продуктов, осмысливаемых общностью замысла. Живая и подвижная, бесконечная и незавершенная в процессе информация выступает в фиксированной форме как стабильная, завершенная, конечная и измеримая. Информация – это, следовательно, сведения трех видов: 1) стабильные; 2) фиксированные; 3) доступные для повторения и пересмотра данных.
В процессе деятельности и фиксации ее результатов выясняется различие правовых и неправовых норм по таким параметрам, как характер отношений, которые они регулируют (правовые нормы, как правило, более общие), порядок и способ установления (наличие или отсутствие санкции), формы и способы выражения (в правовых актах и в письменной форме, или наоборот), формы и средства обеспечения (юридические или неюридические), характер и степень определенности мер воздействия – физическое принуждение или моральное воздействие. Эти параметры поведения кристаллизуются в социальных (правовых) нормах и выполняемых ими функциях – социального контроля, разрешения конфликтов, воспроизводства преемственности развития, адаптации индивида, легитимации власти, определения типологии позитивных и негативных стереотипов поведения (конформистского, девиантного, делинквентного), наконец, формировании поведенческих установок в отношении собственно юридического информационного обмена.
Информационный процесс: психические параметры и их выражение в структуре правовой нормы
Информационная составляющая – признак живой системы, способность индивида преобразовывать воздействия извне в идеи и понятия. Информационная способность есть способность преобразовывать внешние воздействия реального мира в информацию (данные) о его состоянии. От нее зависит уже картина реальности, возможность соотнести с нею свое поведение. Отличие живой системы от неживой заключается, следовательно, в способности преобразовывать воздействия реального мира в представления о его свойствах. Это преобразование определяется как информационный процесс, а его результатом становится продукт преобразования информации – трансформации воздействий реального мира в представления о свойствах этого мира. Чем более полна и надежна эта информация, тем более система оказывается защищена и жизнеспособна[14]. Информационное воздействие происходит через интеллектуальные продукты (изделия), непосредственно выполняющие функцию информационного обмена и информационного управления (Н. Винер)[15]. Психические параметры информационно-коммуникативного процесса определяются такими понятиями, как информационная адекватность (мера возможности системы распознавать в динамике окружающей среды явления, изменения и процессы, небезразличные для функционирования самой системы), информационная энергетика (подъем психической энергии, возникающей при столкновении реального мира и познавательных рецепторов живой системы, инициирующий появление идей и представлений) и информационный магнетизм (способность индивида испытать энергетический подъем в ситуации преобразования информационного ресурса, овеществленного в интеллектуальном продукте человеческой деятельности).
В юридических актах находим критерии, с помощью которых можно определить валидность нормы с формальной и материальной точек зрения, но в них нет критериев, позволяющих рассматривать юридическое заявление как норму. Установление таких критериев есть дело теории права. Кроме того, важно различение оригинального и производного (деривативного) производства норм. Следуя Г.Л. Харту, возможно различение первичных и вторичных норм[16]. Первичными являются те нормы, которые предоставляют права или налагают обязанности на членов общества. Вторичные – устанавливают, кто и каким образом может создавать, признавать, изменять или отменять первичные нормы. Только после того как общество вырабатывает фундаментальную вторичную норму, устанавливающую, как определить собственно правовые нормы, возникает идея особого множества правовых норм и, следовательно, идея права. Следуя Харту и Остину, правовые нормы не имеют четких границ применения (или, напротив, имеют так называемую «открытую текстуру») и, следовательно, возможно допущение, что в проблемных случаях судьи имеют право принимать и принимают решения по своему усмотрению, осуществляя тем самым функцию законотворчества.
Проблема производства права есть поэтому не только проблема легальности, но и легитимности. С этих позиций возможно рассмотрение производства норм как части когнитивно-информационного освоения социальной реальности: кто и как компетентен производить нормы; каковы процедуры создания; каковы рамки этой деятельности. Различается власть создания норм (соответствующий орган); нормативный акт (в котором регулируется процесс производства норм); нормативный документ (фиксирующий лингвистическое высказывание, имеющее прескриптивную функцию); наконец, норма в узком смысле (значение нормативного заявления). Соответственно информационный обмен и управление в наиболее общей форме выражаются в социальных и юридических нормах и фиксирующих их продуктах интеллектуальной деятельности – кодексах моральных и правовых норм, законах, записанных судебных прецедентах.
Соотношение мышления, языка и поведения в юридических актах
Важные идеи (независимо от конкретных исследовательских результатов) создал подход к изучению феномена человека через непосредственно наблюдаемые типы поведения (бихевиоризм), выявление сходств и специфик в поведении человека и высших животных, образующих сложные паттерны сообществ, что позволяет рассматривать феномен человека в сопоставлении с другими живыми системами (когнитивная этология). И, наконец, существенно формирование группы дисциплин, которые объединяет общность исследовательской цели, ее предмета, – человеческого мышления и преобразования информации, поступающей из внешнего мира и преобразуемой в образ предмета или ситуации (когнитивная психология, информатика, искусственный интеллект, нейрофизиология, антропология, компьютерные науки, лингвистика, нейропсихология). Особенно важным достижением мысли ХХ в. было создание науки о языке[17] и идея универсального грамматического ядра[18]. Данный подход позволяет уже поставить вопрос о том общем, что имеют все живые системы и рассматривать человеческий организм как частный случай функционирования этих живых систем. Парадоксальным образом, однако, теоретическое языкознание, рассмотрев проблему связи мышления и речи, практически не обращалось к изучению деятельности, а бихевиоризм, напротив, изучал человеческое поведение, исключив из него главное и специфическое – когнитивный аспект, целенаправленное поведение по созданию интеллектуального продукта. Вклад когнитивной теории состоит в синтезе мышления, речи и целенаправленной фиксации результатов деятельности. Принципиальное отличие феномена человека исходя из этого – в способности понимания смысла и целенаправленного создания вещи (как познавательной модели, выражающей этот смысл). Становится возможной интроспекция – самонаблюдение, обращенное к собственному опыту мышления и интеллектуального функционирования путем создания интеллектуального продукта, – она делает возможным обращение к чужому опыту, а, следовательно, его передачу.
С этих позиций когнитивная теория права выстраивает логику соотношения мышления, языка и поведения в фиксированных юридических актах – интеллектуальных продуктах деятельности определенной эпохи. С одной стороны, право выражает себя в языке, представляет собой его конкретную форму. Кодексы, законы – есть, в сущности, проявления письменного языка. Констатируются различные функции языка: описательная, эмоциональная и выразительная, вопросительная, директивная и прескрептивная. С другой, – существует жесткая связь между юридическими нормами и поведением, выраженная особыми языковыми конструкциями – прескрептивными суждениями. В отличие от дескрептивной (описательной), прескрептивная функция предполагает долженствование. Предписывающие положения есть выражение определенной воли и (в отличие от дескрептивных) не могут быть оценены с точки зрения истинности или ложности, поскольку их функция не состоит в том, чтобы предлагать информацию о реальности. Прескрептивные суждения должны поэтому классифицироваться по другим критериям, таким как – справедливые и несправедливые, эффективные и неэффективные, легитимные и нелегитимные, но не истинные и ложные[19].
Важными функциями языка с позиций юриспруденции являются оперативная и исполнительная – последняя дает возможность осуществлять определенное преобразование реальности путем направленного использования языка. Со времени произнесения определенных слов происходит изменение реальности. Одни и те же слова, произнесенные в разной ситуации и разными лицами, могут иметь разный (даже противоположный) юридический эффект или не иметь никакого. Так, после того, как английская королева разбивает бутылку шампанского о борт нового корабля, нарекая его своим именем, он действительно начинает носить ее имя, но этого не происходит в случае, если аналогичное действие совершает кто-либо другой.
Интерпретация правовых норм: от понимания к установлению смысла
Переход от интерпретации к пониманию возможен только при наличии общей картины мира двух индивидов, позволяющей осмыслить выбор одного из них в категориях, понятных другому. Отсутствие таких категорий делает содержательный диалог культур (например, дикарей и европейцев) невозможным. Эта познавательная ситуация может быть определена как конфликт интерпретаций[20] или герменевтический круг – попытка воссоздания логики мышления другого индивида по аналогии с собственной. Выход из герменевтического круга – возможен через соотнесение фонового знания с выраженным путем использования сравнимых категорий. Данный подход означает радикальную смену парадигм в современной теории познания – переход от ненаучных нарративистских (или наивно-герменевтических) приемов к когнитивным методам анализа информации, ориентированным на постижение смысла. История, подобно антропологии и структурной лингвистике, обретает свой метод, становится строгой и точной наукой. Юриспруденция – получает возможность доказательной реконструкции смысла юридических норм в истории и современности.
Ключевое значение с позиций когнитивной методологии имеет процесс высвобождения памяти – записи информации для последующей деятельности. Форма записи произвольна, она включает ряд устойчивых параметров: 1) прочность фиксации на материале носителя («не вилами по воде писано»); 2) заметность этой фиксации для органов чувств, чтобы постоянно напоминать о себе («узелок на память»). Отсюда – прообраз узелкового письма как более сложной системы обозначений. Сюда же относятся известные по русским летописям «черты и резы», – от зарубки на дереве или камне до рунического письма; 3) символический характер, иногда выражающий признанные обществом требования норм поведения – знаки распространения власти (пограничные столбы), знаки собственности (забор), границы владений (межа), указатели дороги. Все это – информация, накопленная социумом, след целенаправленной деятельности, представленный как сообщение. Очень четко этот подход представлен в анализе формирования структуры и информационного потенциала юридической нормы.
Понятие «норма» с позиций когнитивно-информационной теории предполагает анализ чрезвычайно многочисленных его значений в языке, что делает необходимым выявление отличий собственно «юридической нормы». Норма вообще означает закон, правила (например, правила игры), предписания, обычаи, технические нормы, моральные нормы, идеальные нормы. Из них только юридические нормы должны быть прескрептивны (в отличие от дескрептивных норм учебника права). Необходимо различать между функциями языковых заявлений и формой, в которой они предстают: она может быть декларативной, вопросительной, императивной и восклицательной (экскламативной). Юридические нормы могут выражаться путем использования определенных символов (например, графических). С этих позиций проводится интерпретация предписаний. Традиционно юридические нормы рассматривались как пример гипотетических императивов в отличие от моральных норм, которые предстают в форме категорических императивов. Выделяется ряд элементов предписаний – характер, содержание, условие применения, власть, субъект, случай, промульгация и санкция. Три первых (характер, содержание, условие применения) – рассматриваются как нормативное ядро предписаний, созданных для структурно-логического разделения между предписаниями и другими типами норм.
Основные концепции юридических норм (Кельзен и Харт) выявляют различия когнитивной ориентации: первая делает упор на ценностный аспект их конструирования, вторая – на функциональный, что выражается в различных типах их классификации. Это различие подходов представлено при анализе структуры правовой нормы (двухзвенная и трехзвенная системы) и соотношении ее трех элементов: гипотезы (часть нормы, содержащая указание на конкретные жизненные обстоятельства, условия, при которых данная норма реализуется), диспозиции (часть нормы, в которой содержится само правило поведения – указание на права и обязанности сторон-участников правоотношения); санкции (часть нормы, в которой указаны последствия ее нарушения и неисполнения). Антропологически-ориентированные теории нормы отвергают последний элемент структуры нормы – санкцию, исходя из ее внешнего, навязанного характера, не обязательно присутствующего в качестве когнитивной мотивации поведения (например, в догосударственных обществах)[21]. Частью этой дискуссии является вопрос о соотношении принципов как фундаментальных норм и правил поведения (различается фундаментальность иерархическая; логико-дедуктивная; телеологическая и аксиологическая).
Каждый новый виток информационного обмена идет не по кругу, но постоянно наращивает общий объем информационного ресурса, участвующего в информационном обмене. Есть в этой схеме преобразовательные ситуации, которые индивид совершает в глубине своего сознания. Это – идея обретения смысла, понимания, творчества, когда мысль выступает в виде идеального образа будущего интеллектуального продукта. Смысл – качественное преобразование в сознании исходной суммы данных, одномоментное изменение картины мира в сознании индивида, сопровождающееся эмоциональным энергетическим подъемом (определяемым понятием «эврика»). Постижение смысла – завершающий момент размышления, – когнитивная ситуация, в ходе которой индивид по разному группирует набор имеющихся данных, рассматривая их временную последовательность или их связь в динамической последовательности или логической ситуационной взаимосвязи. Это – мгновенное выявление внутренних связей между набором исходных данных, позволяющее понять системные отношения эмпирического объекта и информационного универсума. Постижение смысла выражается в понимании – состоянии сознания, при котором рождается идея и, исходя из нее, формируется цель деятельностного поведения. Это – идея о том, как соотносятся эмпирические данные, наблюдаемые индивидом, и системные связи целого. Данная идея может быть научной истиной, доступной доказательной проверке. Она может быть и необоснованной гипотезой индивида, выражающей его ограниченный масштаб овладения смыслом. Но и в этом случае имеет место продвижение вперед, поскольку фиксируется определенный этап познания, который становится достижением разума. Фиксация смысла возможна в создании нового понятия (понятийная категория – обобщенное значение, выделение предметов по общим признакам), вещи (которая в отличие от живой памяти выступает стабильной познавательной моделью, расширяющей возможности выявления динамики процессов информационного обмена до исторических масштабов человечества) или системы кодирования информации (в текстовой форме – связной последовательности знаковых единиц письменной речи). Три направления фиксации смысла прослеживаются, например, в движении от понятий о справедливости (естественное право) к созданию вещи – правового кодекса (нормативизм) и от него – к системе кодирования (знаков и символов, выражающих правовые предписания)(юридическая семиотика и семантика) и социальной практике – судебным решениям и их обоснованию (юридический реализм).
Постижение смысла юридических норм: опыт, знание и передача информации
Данная логика представлена в ряде ключевых взаимосвязанных понятий когнитивно-информационной теории, соединяющих мышление, опыт и знание. Мышление – познавательный процесс, который (через сопоставление данных внешнего восприятия) завершается синтезом и пониманием смысла. Опыт – объем информации, полученный непосредственным участием в ситуации. Знание – есть совокупность (массив) информации, добытый через использование вещи – интеллектуального продукта, воплощающего фиксацию опыта и его обобщение. Так, с позиций юриспруденции опыт отражен прежде всего в обычаях (обычном праве) – стереотипах или правилах поведения, имеющих подсознательный характер, сложившихся в результате их спонтанного многократного применения и никем специально не фиксируемых, знание – в рационально конструируемом кодексе, системе писаных законов или фиксированных прецедентов[22]. Производство правовых норм в широком смысле имеет целенаправленный характер, осуществляется законодательной властью (изданием законов), судебной властью (как ее решениями, так и интерпретацией с позиций судейского активизма), правительством и администрацией (подзаконными актами различного уровня), а также формируется (как прямым, так и косвенным образом) со стороны разработчиков научной доктрины, различных общественных групп, создающих обычное право; коллективные соглашения, корпоративные нормы и пр. Направленная фиксация норм (часто в условиях конкуренции различных проектов) является не только выражением селекции общественных представлений, но и выражением стремлением к когнитивному доминированию различных групп в обществе.
Образование картины мира есть направленное достижение умений постигать скрытый информационный ресурс – начиная с умения писать, т. е. кодировать информацию в определенной знаковой системе, распознавать (декодировать, дезактивировать) созданное другим, обладать набором информации уже готовой, но одновременно – самостоятельно добывать информацию. В этом контексте образование – это обучение добывать информацию активным образом, а не пассивно запоминать готовое знание. Образование всегда обучает методу извлечения неочевидного – скрытого информационного ресурса (чтение, письмо, алгоритмы счета, юридическая техника). Умение распознавать информацию является в традиционном обществе достоянием узкого слоя интеллектуалов (наличие алгоритмов опыта), мудрецов (предрасположенность к интеллекту) и, наконец, знатоков управления, владеющих закрытыми информационными ресурсами, недоступными рядовым индивидам сообщества.
Явная и «скрытая» информация всегда существовали в истории: Тайное эзотерическое знание имело особые социальные функции: «Скрытая» информация предполагает усилия интерпретации. В повседневных практиках человеческих сообществ осознание информационного ресурса вещей, изделий, утративших свой первичный статус, – имеет огромное значение для передачи знания, сохранения традиций, играет консолидирующую роль в поддержании идентичности сообщества. Но оно осуществляется своего рода интеллектуальной элитой сообщества, которая в силу когнитивных способностей (мудрости) или объема практического опыта (старейших), обладает неочевидными и потому таинственными знаниями (традиционной герменевтики, не отделяющей интуитивной мудрости от рационального знания) и транслирует массовому сознанию лишь конечный результат такого знания. Ключевое значение в организации информационного ресурса приобретает, как показал еще М. Вебер[23], табуизация знания, представление его посредством особых коммуникаций – чуда, тайны и авторитета, например, в действиях «короля-чудотворца»[24].
Традиционно сложившиеся модели интерпретации и применения права в известной мере соответствуют этим критериям декодирования информации посвященными – профессиональными юристами. Процесс толкования права в ходе принятия судебного решения выступает как ключевой механизм выявления подлинного смысла текста закона или смысла зафиксированных в нем норм. Существует два понимания юридического толкования – полное и сокращенное. В первом случае речь идет о выяснении смысла выражений в юридическом языке и задача состоит в том, чтобы установить, что говорится. Во втором случае – толкование состоит в выяснении смысла спорного юридического положения, и задача толкования – в определении смысла выражения или произведении выбора между различными смысловыми конструкциями. В юриспруденции представлена интерпретация официальная и доктринальная; субъективная (какой смысл вкладывал сам автор) и объективная (какой смысл вкладывается в юридическом порядке).
Представлено три типа проблем интерпретации неясных (темных) терминов – синтаксические (выяснение взаимосвязи слов в юридическом заявлении), логические (выяснение отношения выражения к другим выражениям в том же тексте, разрешение противоречий и антиномий) и семиотические (выяснение смысла). Необходим учет ценностных позиций интерпретатора: с этой точки зрения различаются позиции – декларативная, рестриктивная и экстенсивная. Первая – стремится раскрыть точный смысл слов, которыми выражена норма; вторая – наряду с этим стремится опереться на известный смысл нормы; третья – ищет решения в сравнении с аналогичным решением в прошлом (подключая ретроспективный информационный ресурс). В современной литературе раскрыты различные логические пути вынесения судебных решений, выраженные в следующих формулах: движение от нормы к решению; движение от познания к согласию; от метода к судопроизводству. Отсюда – три типа теорий аргументации: эмпирические или дескриптивные, аналитические и нормативные (или прескрептивные). Сейчас эти теории критикуются за то, что они не показывают процесс вынесения судьей решения. Это актуализирует когнитивную составляющую, тем более, что мотивация приговора есть канал легитимации решения.
Юридическое конструирование реальности: пространство, время и смысл существования
Формирование картины мира в процессе информационного обмена включает конструирование категорий пространства и времени, фреймов восприятия, а также их фиксации в понятиях и материальных формах[25]. Конструктивистская парадигма обсуждает такие вопросы, как когнитивно-информационная природа права; право и справедливость; структура правовой нормы и института; функция и дисфункция в правовом развитии: причины разрыва и сохранение преемственности правовых норм; эмоциональные и психологические основы права, границы конструирования (например, при обсуждении fictio iuris, сконструированной юридическим порядком для полезности). Конфликт правовых систем мира рассматривается как конкуренция и отбор востребованных норм по когнитивно значимым параметрам социального развития: правовая география как выражение цивилизационного разнообразия; когнитивно-информационные особенности развития правовых систем; соперничество правовых семей за создание картины права будущего; перспективы их конвергенции или противостояния; решение вопроса о соотношении нормы и социального идеала в развитии правовых систем. Тема глобализации и локализации в развитии права включает вопросы: глобальные ценности и национальные интересы в области прав человека; международное право и государственное право в разрешении конфликтов; европейское право как попытка разрешения конфликтов; идеал и реальность – дебаты о мировой конституции.
Масштаб проблем, затронутых этими дебатами, выходит за рамки чисто юридической составляющей и представляет собой цивилизационный выбор. Суды своими решениями конструируют новую реальность по таким направлениям, как пространство, время и смысл существования. Пространство как категория юридической картины мира становится объектом конструирования в связи с решением проблемы суверенитета в условиях глобализации – в частности, в споре об отношении к решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), касающимся внутренней политики. Представлено три основных позиции – приоритет международного права над национальным; приоритет национального права перед международным и компромисс между ними – тезис о том, что эти решения могут приниматься судами только в том случае, если не противоречат суверенитету, заключенным договорам, основным правам, закрепленным в конституции. Существенное значение имеет конструирование внутреннего пространства – в решениях Конституционных судов о границах централизации и децентрализации и ее типах (например, договорная или конституционная модели федерализма, деволюции и автономизации), в какой мере эти границы остаются неизменными, как должны решаться вопросы перераспределения полномочий центральных и региональных органов власти и формироваться сами эти органы – вопросам, принципиальным для вектора конституционно-правового развития.
Время – значимый фактор решений судов, которые конструируют новую реальность не только для настоящего и будущего, но иногда и прошлого, что ставит проблему легитимности ретроактивного толкования конституции. Примеры таких решений на постсоветском пространстве включают изменение отношений собственности (реституция – возвращение собственности прежним владельцам); изменение экономических ожиданий, ставящее под вопрос принцип равенства правовой защиты (решения периода экономического кризиса о банках, налогах и страховании); даже переписывание истории (например, решения по законам о люстрации – ограничениям прав на занятие должностей лицами, сотрудничавшими с политическими и карательными структурами прежнего режима, что не противоречило законодательству того времени).
Смысл существования – определяется судебными решениями по вопросам символического характера. Это, прежде всего, решения Конституционных судов по вопросам религиозного или светского выбора – соотношения конституционных норм о светском характере государства с активным стремлением к восстановлению религиозных символов (например, ношением женщинами хиджаба в мусульманских странах). Конституционные суды чрезвычайно активны в решении идеологических вопросов, раскалывающих общество как, например, известный процесс над КПСС или установление новых памятных дат с позитивным или негативным знаком (как, например, дебаты в Молдавии о введении дня памяти советской оккупации). К этой категории решений можно отнести решения по вопросам исторической памяти – связанные с осуждением деятелей старого режима как террористов, и наоборот, признанием их противников – героями сопротивления, запрет и признание неконституционными прежних символов, памятников, герба, гимна. О том, что подобное ретроактивное толкование граничит с произволом говорит легкость, с которой суды некоторых постсоветских стран меняют свои решения на прямо противоположные в изменившейся ситуации.
Следует подчеркнуть, что решения судов по таким вопросам становятся источником когнитивного диссонанса в обществе независимо от их юридической корректности. Можно констатировать появление на постсоветском пространстве антимажоритарных судебных решений (когда они противоречат мнению большинства граждан, отраженному в социологических опросах). Примером может служить вполне либеральное решение КС РФ о смертной казни, которое, однако, противоречило воле большинства (зафиксированной в результатах опросов населения, подтверждающих приверженность его большей части данной мере наказания). Критики оценили данное решение как превышение судом своих полномочий, поскольку никто не запрашивал его о конституционности применения высшей меры наказания, а в случае необходимости проблема могла быть решена на законодательном уровне. Все это – так называемые «трудные дела» (Hard Cases), по которым суд может вынести противоположные решения, причем в обоих случаях они будут основаны на действующем законе. В подобных ситуациях суд вынужден отказаться от чисто нормативистской логики решения и учитывать экстраконституционные (моральные, философские, политические) соображения, постигая смысл и формируя новые ценности (как это было ранее продемонстрировано в США, например, в деле Brown v. Board of Education of Topeka). Процессы глобализации, информатизации и модернизации в дальнейшем еще более усилят эту когнитивную функцию судов, что заставляет обратиться к вопросам анализа метаконституционных аргументов принятия решений и полноценно поставить проблему легитимности судебных решений, доктрин и принципов, лежащих в их основаниях[26].
Траектория метода и возможности применения теории
Когнитивно-информационный подход позволяет установить, как в принятии правовых норм или динамике судебных решений происходит юридическое конструирование реальности, обретение и фиксация нового смысла. Этот подход соответствует одному из определений информации (К. Шеннона) как «уменьшения неопределенности»: он фиксирует этапы движения сознания от неопределенности к определенности, от определенности к фиксации, от фиксации – к защите норм и их применению.
Когнитивно-информационная теория, несомненно, обогащает социологию образования, анализируя социальные и этические факторы гуманитарного познания, отношения опыта и знания, проводя разграничение подлинного (добываемого самостоятельно) и мнимого (получаемого в готовом виде) знания, творческого (основанного на обучении методу) и транслирующего (вторичного) образования. С этих позиций актуально обращение к проблемам социальной и когнитивной адаптации: природа общественного идеала и его закрепление в праве; циркуляция утопий в истории; утопии и антиутопии современного общества; их отношение к полноценному научному и доказательному знанию; человек будущего с точки зрения философии права и педагогики (университетского образования)[27].
Траектория метода как исследовательского пути вырисовывается как аналитика эмпирических данных интеллектуального продукта, его имплицитной (эмпирической) достоверности и принятых логических выводов, каждый из которых открыт для выдвижения контраргументов. На этой основе становится возможным выстраивание методов и критериев доказательности и проверки знания; научное конструирование – построение модели (схематически выраженной ситуации информационного обмена) для создания логически непротиворечивой концепции социального (юридического) процесса и прогнозирование – аналитический вклад, в ходе которого выявляются фазы процессов, прошедших в прошлом, и просчитывается наступление последующих фаз аналогично протекающих процессов. Аналитика реализованных в ходе исторического процесса вариантов развития событий становится инструментом упреждающего прогнозирования.
Конституционная инженерия выступает как инструмент разрешения когнитивно-информационного конфликта по следующим направлениям юридического конструирования: система конституционного права как идеальная проекция общества в законах, производство норм, психологические и моральные (а не только нормативные) факторы их отбора и интерпретации политиками и судьями; конституционные циклы как выражение конфликта позитивного права и социальных представлений о справедливости; механизм конфликтов (когнитивные факторы, определяющие преемственность и разрыв правовой преемственности), их преодоление с позиций когнитивной теории (сохранение или утрата когнитивного доминирования институтами, нормами и группами); границы саморегуляции и самокорректировки политико-правовой системы (конституционное толкование), психологические аспекты когнитивной адаптации в рамках нового правосознания, определяющего спрос на право и доступ к правосудию или отказ в них, формирование творческой личности в гражданском обществе и правовом государстве.
Печатается по изданию: Медушевский А.Н. Когнитивная теория права и юридическое конструирование реальности // Сравнительное конституционное обозрение, 2011, № 5 (84). С. 30–42.
1
Гуссерль Э. Логические исследования // Гуссерль Э. Философия как строгая наука. Новочеркасск, 1994.
2
Медушевская О.М. Теория и методология когнитивной истории. М., РГГУ, 2008; Она же. Теория исторического познания: Избранные произведения. Спб. Университетская книга, 2010; Она же. Пространство и время в науках о человеке: Избранные труды. М.-Спб., Центр гуманитарных инициатив, 2013.
3
Подробнее см.: Медушевский А.Н. Когнитивно-информационная теория как новая парадигма гуманитарного познания // Вопросы философии, 2009. С. 70–92; Он же. Когнитивно-информационная теория в современном гуманитарном познании // Российская история, 2009, № 4. С. 3–22.
4
Kelsen H. Reine Rechtslehre. Wien, 1960.
5
Ориу М. Основы публичного права. М., 1929.
6
Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М., 1997. С. 17.
7
Pospisil L. Anthropology of Law. A Comparative Theory. N.-Y., 1971.
8
Erlich E. Fundamental Principles of the Sociology of Law. Cambridge (Mass.), 1936.
9
Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. М., 2010.
10
Тимашев Н.С. Развитие социологии права и ее сфера // Беккер Г., Босков А. Современная социологическая теория. М.: Иностранная литература, 1961. С. 489–490.
11
Vinogradoff P. Outlines of Historical Jurisprudence. Oxford, Oxford Univ. Press, 1922. Vol. 2. P. 10.
12
Источниковедение и компаративный метод в гуманитарном знании. М., 1996.
13
Медушевская О.М. Историческая антропология как феномен гуманитарного знания // Историческая антропология: место в системе социальных наук, источники и методы интерпретации. М., 1998. С. 17–26.
14
Историческая компаративистика и историческое построение. М., 2003.
15
Н. Винер. Кибернетика и общество. М., 1958.
16
Hart H.L.A. The Concept of Law. Oxford, 1997.
17
Якобсон Р. Язык и бессознательное. М., 1996.
18
Хомский Н. Язык и мышление. М., 1972; Аспекты теории синтаксиса. М., 1972.
19
Curso de Teoria del Derecho. Madrid, 1999.
20
Рикер П. Конфликт интерпретаций: Очерки о герменевтике. М., 1995.
21
Barkun M. Law Without Sanctions. New Haven, 1968.
22
Pound R. The Spirit of the Common Law. Boston, 1963.
23
Вебер М. Избранное. Образ общества. М., 1994.
24
Блок М. Короли-чудотворцы. Очерки представлений о сверхъестественном характере королевской власти, распространенном преимущественно во Франции и в Англии. М., 1998.
25
Гофман И. Анализ фреймов. Эссе об организации повседневного опыта. М., 2004.
26
The Supreme Court and American Political Development. Ed. By R. Kahn and K. Kersch. Princeton, 2006.
27
Человек: образ и сущность. Когнитология и гуманитарное знание. М., 2010.