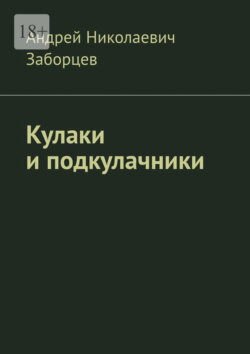Читать книгу Кулаки и подкулачники - Андрей Николаевич Заборцев - Страница 3
Кулаки и подкулачники
Оглавление«Когда нас назвали кулаками, начали нас мучить, карать…» (Из советской народной песни)
На правом берегу Ангары, там, где (если смотреть по карте) она круто поворачивает на запад, неся свои воды в могучий Енисей, раскинулось большое село Кежма, то самое село, куда был сослан Саша Панкратов, главный герой романа Анатолия Рыбакова «Дети Арбата».
Для меня это сибирское село с прекрасным рядом добротных домов с палисадниками, дурманящими весной запахами черемухи, бегущими по крутому песчаному угору, всегда было и останется самым святым местом на Земле. Это моя Родина, Родина моих родителей, дедов и прадедов. Злой волей судьбы было предрешено раннее расставание меня с нею.
Помню себя и своих родных, когда мне было три года. У дедушки (по отцу) была большая семья. К тому времени из семерых четверо сыновей, в том числе и мой отец, жили своими семьями, работали в поле, как говорится, от зари до зари, политикой не интересовались, жили за счет своего труда в относительном достатке. И не ждали никаких перемен, связанных с политикой установившейся Советской власти. Шел 1930-й год. В отличие от своих сыновей дед очень интересовался политикой, хотя, судя по сложившейся ситуации, был в ней абсолютным дилетантом.
Не скрывал он своих симпатий к новой власти. Недаром, позднее, будучи в ссылке по воле этой же власти его в шутку называли «колхозником-большевиком».
Будучи трехлетним ребенком, хорошо помню такой эпизод. Собралась наша большая семья в доме деда. О чем говорили взрослые, я не помню. Только помню, что в одном углу избы висел портрет Ленина в овальной рамке, в другом – божья икона. Кто-то из моих дядей спрашивает меня: «Андрей, кого из этих дедушек, – показывая на икону и портрет, – ты больше любишь?» Я почему-то, не задумываясь, дал однозначный ответ. Видимо все же слушал разговоры взрослых и предпочтение отдал позиции деда. Показывая на икону, я ответил: «Это плохой дедушка, а это, – переведя взгляд на Ильича – хороший». Сказав, побежал, не заметив открытую западню в подполье. Оказывается, бабушка спустилась туда за картошкой. Получив крепкую травму на голове, которая кровоточила у меня до пятидесятилетнего возраста, все же остался жив. Никакие лечения не могли зарубцевать кровоточащий шрам, пока не подвергли рентгеновскому облучению. Мать мне тогда сказала: « Вот тебя, дурачок, бог наказал». Такого же мнения был и я сам. Учитывая мой детский ум, бог не лишил меня жизни, но строго предупредил быть осторожным в своих суждениях. Видимо, я не очень внял этому предупреждению, потому на протяжении своей жизни получал немало «шишек», как мне говорила моя мама, за «длинный язык».
Вскоре всех моих родных раскулачили: дедушку за то, что имеет непозволительную по тем временам технику-сепаратор, а двух сыновей – нашего отца и дядю Василия за богатство, состоящее из пары лошадей и коровы в каждой семье. Ведь жили же будущие члены правления коммуны без этого богатства. Дедушке не помогло его увлечение советской властью, а моему отцу – рубцы на спине, полученные от белогвардейцев, сохранившиеся до самой смерти. Белые, узнав, что дед-большевик, не найдя его, избили моего отца розгами до полусмерти.
О дедушке (Семёне Андреевиче) хочется рассказать особо. В молодости (по рассказам бабушки) он был «шабутной и бесшабашный». Привезет она, бывало, ему на покос обед, он ложкой вычерпает сметану из туеска, оденет его как мячик на носок ноги и пнет далеко-далеко в Ангару, сопровождая его полет матерными словами.
Окончил он в свое время четыре класса приходской школы. Считал себя грамотным, в чем мы, взрослые, сомневались. Правда каллиграфия письма у него была отменная. В поселке, куда его сослали, почтенные жители обращались к нему, чтобы написать заявление или выверить какую-нибудь справку.
Хорошо помню, как в 1937-ом году зимой шли в райцентр по реке трактора. Встречали их в каждой деревне, устраивая митинги. На одном из таких митингов выступал и наш дед. Речь его была отрывистой, малосвязной, перемежалась матерными словами.
«Вот так Советская власть», – кричал он, – «Спасибо дорогому товарищу Сталину, такую мать, за железных коней!». О его выступлении даже писала районная газета, опустив из его речи нецензурные слова.
Однажды в лютый мороз он, крепко закутавшись в свой единственный зипун, который почему-то не реквизировала Советская власть, притащился в магазин, преодолев расстояние не менее километра. С порога заявил продавцу: «Слушай, паре Борис, ты ведь в прошлый раз остался должен мне копейку.» Долго в поселке вспоминали ему этот случай, рассказывали друг другу как легенду.
Когда отец ушел от нашей семьи к другой женщине, мы часто с тетей Апроксиньей, женой дяди Василия, собирались в доме деда, много говорили об отце, тешили себя надеждой о его возвращении. Однажды дед решил не участвовать в нашей беседе, встал в центр комнаты, снял штаны, оставшись в кальсонах латанных-перелатанных, поправил волосы на голове и изрек фразу, запомнившуюся мне на всю жизнь: «Ладно, я ложусь спать, а вы смейтесь над Микулушкой» – и полез под общий смех на печь.
Значительно позднее, будучи учителем, я приезжал в Кежму на учительскую конференцию. Дед с бабушкой и дядей Гошей жили тогда в Кежме. Естественно я останавливался у них. Однажды садимся за стол, я достаю приготовленную бутылку вина. Дед тогда в основном лежал на печи. Слез с печи, подошел ко мне, положив руку на плечо, снова изрек фразу, которой мы – братья пользуемся при встрече: «Слушай, Андрюша, ты человек грамотный, учителем работаешь, а нас объедаешь.» Я знал эти труды деда и ничуть на него не обиделся, тем более, что на него тут же посыпался град ответных Ангарских претензий: «Каво ты его слушашь, жаба ему в рот». Вот таков был наш дед Семён Андреевич.
Помню, как много плакали наши матери, когда нас повезли в ссылку. Мужчины говорили мало, в основном пели трогающие душу песни, одну из которых я запомнил на всю жизнь. В ней были такие слова: «Когда нас назвали кулаками, начали нас мучить-карать; лошадок у нас отобрали и стали по тюрьмам сажать» и т. д.
Я без труда усвоил нехитрый мотив этой песни и старался подпевать взрослым.
Ехали мы на санях, по последнему льду в апреле месяце. Уже были большие забереги, то и дело встречались свободные ото льда полыньи. В шутку мне дядя Гоша говорит: «Слушай, Андрей, нас будут топить в таком море». Хотя все испытывали большое горе, однако мужчины не теряли чувства собственного достоинства и часто подтрунивали друг над другом. Вот и дядя Гоша, будучи молодым парнем, решил от них не отставать и устраивал шутки надо мной. Увидев полынью, он обращался ко мне со словами: «Смотри, Андрюша, опять синее море!» Видимо я был очень чувствительным ребенком, очень переживал наше общее горе, а потому отвечал ему словами, которые не один раз слышал от взрослых: «Лешакова ты наша жизнь, лешакова ты наша доля, опять синее море». Я недоумевал, почему дядя Гоша после этого закатывался смехом.
Определили нас на берегу между двумя шиверами (мелкий и быстрый перекат горной реки): Медвежья и Косой бык. Шум воды от них постоянно раздавался в ушах. И только поздней осенью при ледоставе он частично прекращался. На берегу был выстроен огромный барак на 30—40 семей. Барак состоял из двух больших казарм, в каждой из которых размещались 15—20 семей. Впоследствии этот барак был переоборудован в Нардом (клуб), в котором мне в годы войны пришлось работать избачом. Семьи отгораживались друг от друга занавесками из дешевой ткани. В бараке постоянно стоял детский плач и крик замученных судьбой женщин. Дети в основном спали на полу под общим одеялом, которые чаще всего заменяла верхняя одежда самих детей. Зимой, когда мужчины уходили на работу, женщины отогревались около огромной печки-буржуйки, задрав высоко свои юбки. Они дружно поворачивались вокруг неё, рассказывая друг другу какие-то секреты. Мужчины работали на стройке, одни строили дома, другие – илимки (большие парусно-гребные лодки). Толстые плахи на днище илимок связывались с помощью больших деревянных гвоздей – шпунтов, которые делались в бараке после работы.
На стенах около печки всегда сушились сосновые поленья, из которых изготавливались эти шпунты. Мужчины часто приносили своим детям изготовленные на работе во время перерыва деревянные игрушки: домики, колеса, лодки, человечков. Помню свою радость, когда отец принес нам с работы деревянного (на колесиках) коня, почему-то покрашенного в зеленый цвет. Видимо другой краски не было.
Через некоторое время женщины стали работать в образованном колхозе, готовили землю под пашни, занимались раскорчевкой. Я не раз бывал с матерью, будучи ребенком. Трудно словами описать, какой это был адский труд. Лошадей не было, их заменяли женщины. В часы отдыха они часто вспоминали о том, что им пришлось пережить, прежде чем добрались до поселка, который назывался именем одного из шиверов Косой бык.
Крепко мне врезался в память рассказ нашей соседки, которую женщины называли Натальей Курчавой. У неё действительно была копна курчавых волос, да и у всех её детей тоже были такие же курчавые головы. Сослали их вначале на болото. Кругом непроходимая тайга. До ближайших селений десятки, а может и сотни верст полного бездорожья. Мужчин угнали по этапу совсем в другое место. Женщин и стариков заставили рыть себе землянки. Многие из них там и остались навсегда, погибли от холода и голода. Приехал однажды комендант (хорошо помню его фамилию) Мартынов, выхватывает из кобуры пистолет и, стреляя вверх, требует от стариков к назначенному сроку сёдла. Старики, мастеровые люди, душу вложили в свое ремесло, выполнили приказ. Приезжает Мартынов, как всегда стреляя вверх, требует сложить все сёдла в кучу и облить керосином, а затем поджечь. «Всё равно вам не жить на этом свете, всех вас, гадов, повесим и расстреляем» – кричит в яростном гневе. И тут же приказывает всем входить в болото и по команде погружаться в воду, так как он в это время будет стрелять по поверхности воды. Старики и женщины, схватив на руки детей, побежали к болоту, боясь ослушаться кровожадного зверя. Но как ни старались люди спасти себя и свое чадо, всё же не всем удалось это сделать. Через несколько минут вода в болоте стала красной. Нигде поблизости не было другого водоема, и по её рассказам, им приходилось пить воду, разбавленную человеческой кровью. Насытившись болью беззащитных людей сталинский подонок вскочил на своего лихого коня и ускакал восвояси, оставив за собой в глухой тайге человеческий вой, перекликающийся с воем голодных волков. Каждый раз, когда она об этом рассказывала, я видел, как высоко вздымалась её грудь, а в горле что-то клокотало. Она не рассказывала, как хоронили трупы, но я догадывался, что это делали за них голодные волки, недаром их называют санитарами тайги. Когда она приходила к нам, я очень боялся, что снова будет рассказывать об издевательствах над ними, потому, что и у меня внутри при её рассказах тоже начинало что-то клокотать. Не знал я тогда истинных виновников наших бед, но обида за такую жизнь родилась во мне очень рано.
Жили мы в постоянном страхе от того, что нас обязательно повесят или расстреляют. Хорошо помню один страшный случай, окончившийся тем, что взрослые очень смеялись над собой. Дед так и сказал: « У страха глаза велики». А было это так. В дом прибежала запыхавшаяся женщина и сообщила, что по шиверу поднимаются солдаты, вооруженные винтовками со штыками. Все решили, что они едут нас убивать. Выбежали на угор (холм) и увидели на последнем залавке большую лодку, в которой стояло не менее 10 человек с винтовками. Началась большая паника. Видимо сосланным не разрешалось иметь спиртное, если наша мама металась с бутылкой водки, не зная, куда её спрятать. Кто-то посоветовал ей замуровать бутылку в печурку, в которой сушили рукавицы. Она так и сделала. Заложила печурку кирпичами, наскоро замазала глиной и побелила известью. Схватила нас в охапку и давай прощаться с каждым из нас. Все плачут, мечутся по дому. Вдруг прибегает другая женщина и успокаивает: «Это же не солдаты, а цыгане, идут на шестах. Никаких у них винтовок нет». И в этот самый момент и раздается оглушительный выстрел. Не все и не сразу поняли в чем дело. Дети решили, что уже начался расстрел. Тогда дед встает и, ухмыляясь, говорит: «Алёна, Алёна, ты же могла меня решить. Бутылка твоя взорвалась». Действительно печь с утра была жарко натоплена, водка нагрелась в бутылке, и та взорвалась. И слёзы сменились дружным смехом и сокрушением мужчин. «Лучше бы мы её сами выпили» – заявили они. Так удачно закончился этот страшный эпизод из нашей кулацкой жизни.
Власти, конечно, не случайно выбрали для поселения «бывших кулаков» самое неподходящее место. Но, люди, будучи большими тружениками, успешно освоили его и сделали почти невозможное. Расчистили покосы, закупили скота – молодняка, продав имеющиеся у них вещи, расчистили и распахали землю, вырастили хороший урожай в пример соседним колхозам. Буквально через 3—4 года вырос большой поселок с добротными домами, колхоз стал передовым в районе. Конечно передовым по основным показателям и доходам, а не по уровню материального положения сосланных людей. На трудодень власти не разрешали выдавать более 100—200 граммов. Оставшееся от хлебосдачи зерно безоговорочно забиралось в пользу государства. Работали, как тогда говорили, за палочки. Особенно такое положение обострилось во время войны.
Мать работала в колхозе. Отец «ходил» на илимках, в основном возили зерно в райцентр. Катеров тогда не было, илимку тащили бечевой изможденные, опухшие, вечно голодные люди, бывшие кулаки. Особенно тяжело было поднимать через пороги и шиверы, которых только в нашем районе было около десятка.
Однажды отец взял меня с собой. Я видел, как не один раз рвалась видавшая виды, вся в узлах, бечева в Аплинском пороге. Илимку при этом сильным течением забрасывало на камни, и отец, будучи лоцманом, рискуя быть сбитым течением, бросался в воду на камни, чтобы снять илимку с камней. При виде этой картины у меня невольно накатывались слёзы.
Однажды эти бурлаки с четырех илимок договорились взять для своих семей по 3 кг пшеницы, не зная, что среди них были осведомители НКВД. Не успели они доехать до райцентра, как их разоблачили и предали суду. 10 лет тюрьмы получил каждый из них, в том числе и наш отец и два его брата (один из них был несовершеннолетним). Дядя Василий умер в тюрьме, отца за хорошую работу освободили досрочно, сбросив 5 лет, а дяде Гоше последние 2 года заменили на службу в Армии на дальнем востоке, ибо началась война.
Тридцать седьмой год не обошел стороной и наш посёлок. Каждое утро приносило известие о том, что арестован сосед, то справа, то слева. И, казалось, не было этому ни конца, ни края. Так что посёлок осиротел еще задолго до войны. Но этот год был для нас и радостным. Ранним утром (мы уже снова жили в бараке – 10 семей) почтальон принес нам треугольник от отца, в котором он сообщает, что освободился досрочно, но из-за распутицы скоро домой не сможет приехать. И всё же наш бедный отец не стал дожидаться, когда распалится река, чтобы приехать домой «на катерах», а отправился один пешком домой по бездорожью. Одному богу известно, каких трудностей и страха стоила ему эта дорога. Мы, конечно, ждали его, но не думали, что это произойдет так скоро. Прибегают ребята в наш барак и сообщают, что наш отец идет с палочкой около конного двора. Я не помню, как перепрыгнул через ручей и оказался в объятьях отца, измученного, обросшего рыжей щетиной с тростью в руке. В считанные минуты наш угол в бараке был заполнен людьми. Пришла с работы мама, осыпала отца поцелуями и начала собирать на стол. В дверях появилась тетя Апросинья, упала на колени, рыдая и причитая, так, на карачках доползла до отца. У меня и сейчас перед глазами эта трогательная картина. «Что же ты, Николай, пришел один, оставил в сырой земле своего брата? Как же ты как старший не уберег его?» – причитала она. Допоздна в нашем углу горела керосиновая лампа, а отец всё рассказывал и рассказывал о тюремной жизни.
Отец всё ждал, что его сына снова заберут, теперь уж по 58-й статье, но сталинские люди оказались щедрыми и сохранили ему жизнь. Он снова устроился работать в леспромхозе на илимках. Всегда, когда он приезжал домой, у нас был большой праздник. Подарки, гостинцы получал каждый из нас. На нашей стене в бараке начали стучать часы-ходики, которые привез отец в один из таких приездов. Мы стали заметно жить лучше. На окне появились не затейливые шторы, появилась постель. По утрам стали пользоваться недорогим полотенцем. В праздники мы стали носить ботинки с калошами. Отец сделал дощатую перегородку в бараке, прорубил входную дверь в стене, смастерил небольшую русскую печь и мы стали жить как бы в отдельном доме. Для нас он стал настоящим героем, изменив образ нашей жизни. Уже позднее, работая вместе с ним на илимках, я всегда восторгался его смелостью и отвагой. Плывем вдвоем на илимке, темная ночь, впереди шумит порог. Нам бы встать на якорь и подождать рассвета, чтобы в темноте не налететь на груду камней, но отец этого не делает. Я стою на корме, а он одним веслом подгребает, выводя илимку на фарватер. Мы влетаем в бурлящий порог, кругом острые камни и высокие валуны, страшной силы шум. Проходит минуты две и весь кошмар позади. Не думаю, что отец в эти минуты не испытывал чувства опасности. «Иди спать, Андрейка» – говорит он мне, а сам продолжает управлять лодкой. Он не любил бездельников и сам никогда не бездельничал, совсем не курил, выпивал редко, только по праздникам, говорил мало, после тюрьмы говорить стал с небольшим заиканием. Он был очень требовательным к себе, на работе его очень ценили за высокое трудолюбие и организованность.