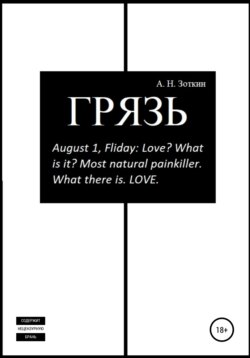Читать книгу Грязь. Сборник - Андрей Николаевич Зоткин - Страница 7
Грязь/Серая История
Глава 2. Четыре левых часа
ОглавлениеВл – 31, Ва – 34, Х– 36, Вв, Д – 37.
Приезд Зарёва был обычен и предсказуем ровно до того момента, пока в пятничный вечер в «О, Рама!», обсуждая великих писателей, которые жили на ближайших улицах, Цвет не воскликнул:
– Мы устроим свои три левых часа!
Он даже вскочил на месте и поднял руку с вытянутым указательным пальцем, показывающим на потолок. Все собравшиеся снизу вверх посмотрели сначала на Антона, потом на его палец, следом на потолок со множеством лампочек и снова вернулись к Антону. Два ближайших столика тоже обернулись на этот резвый возглас и с интересом ждали продолжения. Цвет торжественным взглядом обегал недоумевающие лица друзей. Он, конечно, слыл авантюристом, но не до такой же степени: замахнуться на главную акцию ОБЭРИУТов.
– Свои три левых часа! – повторил Антон. – Сделаем… четыре часа искусства – новый век требует больше времени!
Три левых часа прошли 24 января 1928 года в нескольких улицах отсюда, вызвав большой ажиотаж. В тот день Введенский, Хармс, Заболоцкий, Вагинов, Бахтерев – светила Объединения Реального Искусства – вышли в народ, дабы произвести революцию. Хармс въехал на сцену, сидя на шкафу. Где-то за кулисами в позе «засадного» хищника притаилась балерина Попова, готовая при первом появлении Вагинова на сцене броситься к нему и начать танцевать. Пытаясь показать свою изюминку и одновременно не проиграть Хармсу в скорости (в случае начала серьезного заезда) Введенский влетел на сцену на маленьком трехколесном велосипеде – он был самим олицетворением серьезности. В тот вечер ОБЭРИУты и К° показывали крайне абсурдную пьесу и до невозможности реалистичный фильм. Получилась ли у них революция? Вне всяких сомнений.
– Понимаешь, – заговорил своим серьезным голосом Мирон Игнатьев, интеллигент от мозга до костей, сторонник классики и рифм. – Есть одна проблема.
Он посмотрел на собравшихся, несколько раз кивнул головой, подтверждая какой-то свой внутренний монолог, и разразился:
– Эти часы проходили в Доме печати, а там сейчас музей Фаберже. Частники нас не пустят.
– Да и черт с ними! – с поистине бушующим запалом, характерным для героев Гюго, ответил Цвет. – Найдем, найдем! И выступим. Без левых и правых – одним братством! Конечно, беспощадный зритель не даст нам поблажек за то, что мы только начинающие. Надо будет блистать всем, чем сможем!
– И даже больше! – взмахнул рукой Златоусцев.
– В память о Былых и с мыслями о Своих! – продолжал Антон. – А есть ли среди нас лидер? Нет.
– Все равны перед лицом Старухи! – подхватил Мир.
– Да, да, да! – кокетливо промяукала Маша.
– Даняяя, ты с намииии? – пропел Цвет.
– Думаю, да. Скажите что делать, поддержу, – как всегда просто ответил Брек.
– Коля?
Зарёв с ухмылкой посмотрел на друга.
Тот подмигнул и добавил:
– Без тебя никак.
Николай медленно кивнул головой.
– Ура! Ура! Ура! Все в бой! – подытожил своё выступление Цвет и плюхнулся на своё место.
– Только вот я через пять дней должен уехать, – опустив взгляд, сказал Николай. – Но в подготовке помогу!
– Слышали? – звонко зазвучал Машин голос. – У нас есть пять дней. На пятый – уже выступление. Никуда ты уехать от нас не успеешь!
Она показала Коле язык и засмеялась.
– Решено! – Антон положил свою руку в центр стола.
– Решено! – отозвался Кирилл и положил руку сверху.
– Решено! – женская ладонь легла в центр.
Без лишних слов к этому ритуалу приобщился Даниил. Но под давлением взглядов, добавил:
– Решено.
– Решено! – бодро присоединился Николай, поймав общий настрой.
Пять рук в центре, все оборачиваются на шестую.
– Вот он – вызов времени, – обращаясь к каким-то высоким материям, в задумчивости проговорил Мирон, и после паузы положил свою руку.
Друзья сидели бок о бок, наклонившись над столом, смотря на радостные лица, держа руки друг друга, и чувствуя свою весомость, силу, и веря, что эта авантюра непременно получится.
И что дальше?
А дальше закипела работа.
Помещение нашли за два дня. В основном этим занимался Мирон. Остальные же активно занимались подготовкой, попутно готовясь ко всем вариантам развития событий – рассматривался, в том числе, вариант с выступлением на улице. Штабом безымянные «ОБЭРИУты» назначили хостел. Его самая дальняя комната стояла заброшенной. Ее уже несколько лет собирались отремонтировать, но каждый раз что-то шло не по плану и таинственные владельцы этого места благополучно забывали про нее. И только сейчас стало понятно, зачем судьбе-проказнице понадобился такой долгий и хитрый план.
В первый же день комната в двадцать пять квадратных метров была условно поделена на несколько секций. Самой маленькой был угол слева от двери, в котором засел Даня, принеся в два захода свой компьютер. Здесь он занимался оформлением плакатов грядущего мероприятия. Успеть надо было к вечеру – в десять часов, сразу после закрытия типографии на Садовой, его ждал там приятель, готовый под покровом ночи напечатать пару сотен пестрых листов. На восьмой час работы Даня взвыл. У него постоянно кто-то стоял за спиной и давал советы. Потом этот кто-то уходил, приходил следующий и ему кардинально не нравились решения предыдущего советника. Только походы за энергетиком и периодические перекуры в вентиляцию туалета помогли ему довести дело до конца.
Но буквально в последний момент, когда Берк был готов выбежать с диском из хостела, проскочила мысль, наиболее лаконично выраженная в восклицании Маши:
– Ой, а адрес-то? Ааадреессс!! – кричала она вслед Даниилу.
Действительно, адреса предстоящего действа еще никто не знал. Поэтому Даня махнул рукой, позвонил приятелю, отменив «тревогу», и пошел спать домой.
В тот же день у окна был обнаружен старый диван. Навалив на него досок, взятых на ремонте через дорогу, друзьями была создана пошатывающаяся, но достаточно высокая сцена. Было решено репетировать здесь. Первым на помост взошел архитектор сего творения – Антон Цвет. Его приветствовали горячие аплодисменты. Спев в шутку арию из известного фильма, он констатировал с неким удивлением: «Конструкция держит». Дав последнюю рекомендацию «По двое не вставайте», он скрылся в коридоре, устремившись к новым, ведомым только ему, задачам. В итоге у окна сложился интересный кружок. Окрестности дивана на постоянной основе заняли музыканты из группы Цвета, а также Маша с гитарой и плакатом Леннона. Постоянно туда подходили господа поэты, чтобы взобраться на сцену-диван и прочитать стих, который они собираются закинуть в массы. Музыканты оценивали. Это был контроль качества. Они учитывали всё: сюжет, образность, мелодичность, выразительные средства, интонацию, позу, стойку на одной ноге, сбивчивость и внешний вид выступающего. Это был строжайший контроль качества. В случае с поэмой они с удовольствием подыгрывали на инструментах, порой приводя читающего в состояние тихой злобы, потому что «Ну как можно в этот момент брать такую высокую ноту?!» И тогда уже их мастерство ставилось под вопрос. Это был контроль с обеих сторон. Но по итогам совместное творчество приносило всем удовлетворение.
Центр комнаты заняли художники. Изначально ответственным за этот сектор был назначен Златоусцев, однако приходил он всего два раза и ненадолго. Зарёв еще тогда не знал причины такого поведения Кирилла. Таким образом, художники творили в полной свободе, редко прислушиваясь к советам. Их главной задачей были декорации. Стайка девушек-студенток третьего курса художественного института при поддержке праздно шатающихся творцов, среди которых был и Николай, с энтузиазмом взялись за дело. Еще вечером было решено: программа максимум = чтения стихов + инсценировка отрывков прозы (каждая сцена должна переходить из одной в другую) + танцы (не важно какие, не важно как, не важно с кем, главное – танцы) + кинематограф (минут на -дцать) + салют в честь проигравших. И декорациями ко всему этому должны были заняться художники. Как же хорошо, что через дорогу всё еще делали ремонт – гора фанеры и палок быстро таяла под напором искусства.
Декорации нужно было где-то сушить и составлять. Поэтому в первый же день весь внутренний двор был заставлен сохнущими пестрыми фонами, накрытыми сверху прозрачной плёнкой, позаимствованной всё у тех же строителей. Здесь на первый план выступил принцип: мы сами несем ответственность за свои культурные объекты. Выставлять творческие работы на улицах очень небезопасная для них затея. Однако творцы свято верили в свою удачу, порядочность людей, и сами периодически поглядывали во двор из окон кухни.
– Давайте снимем фильм! – раздалось в дверях комнаты.
Зарёв сразу же подключился:
– У меня есть кое-что лиричное.
Он мечтал увидеть экранизацию своей работы.
Вечером, после десяти, все стали расходится. День был скомканный, самый первый, потому все брали его напором. Уставшие, допившие чай и доевшие обед (растянувшийся на весь день и усиленный бубликами и печеньками), творцы шли на метро. Завтра должен был начаться новый сверкающий день.
Цвет вернулся поздно, сообщив Зарёву, что место пока точно не нашли. Они сели на кухне, попили сока и молча посмотрели в темное окно. Обоим не верилось, что такая грандиозная задумка нашла настолько стремительную реализацию.
Вы не представляете, как быстро пролетели эти дни. Словно щелчок пальцев – и уже премьера. Четыре левых часа, наши четыре левых часа! Про эти подготовительные дни надо будет написать отдельный роман. Столько произошло! Все передружились, или переругались, но потом всё же передружились. Даже молчаливый Зарёв уже на третий день, крася лодочку-декорацию, громко и с чувством рассказывал забавные случаи и своей жизни; как оказалось, он очень любил рассказывать истории. Радость охватывает при виде того, как кипит работа, как друзья, перекидываясь фразами, устают за своим трудом с улыбками на устах, все вместе, в едином порыве. Ничто не могло сплотить нас вместе так, как это.
Так где же должен был пройти этот судьбоносное представление? «О, Рама!» слишком маленькое кафе, нужен зал – это был самый первый тезис, который вывели собравшиеся. И результат деятельности Мира поразил всех. Да, здание бывшего дома печати на набережной реки Фонтанки было занято музеем и, к сожалению, воззвать к ОБЭРИУ там в этом месте не представлялось возможным. Но Мирон сразу смекнул: не одним жилым фондом богаты, есть же и брошенные шедевры архитектуры.
На третий день во все стороны города стали расходится плакаты с примерным содержанием:
Здание Банка для внешней торговли
16 августа
Театрализованное представление
Лучших творцов Санкт-Петербурга
Четыре левых часа!
Музыка – танцы – литература – театр – кино
Здание банка внешней торговли находилось всего в нескольких домах от Адмиралтейства. Самое сердце города – никому не верилось, что это происходит.
И наконец, настал тот самый вечер. Весь день перед премьерой в здании бывшего банка кипела работа. Его главная жемчужина – великолепный зал с круглым балконом-галереей на металлических подпорках и огромным куполом из стекла – стал главной сценой предстоящего торжества. Когда в него в числе первых ласточек грядущего события вошла Маша, она сразу же протянула:
– Огооо!
Выбежала в центр, раскинула руки и начала кружиться, смотря на грязные стекла купола. В их заброшенности было свое очарование – листья, земля, дождевая вода, вечно серое небо и редкие солнечные лучи образовывали невероятно насыщенную палитру цветов: от иссиня-черного по краям к бледно-бирюзовому в центре. Отсутствие людей пошло этому месту на пользу.
Также в доступе у труппы оказалось несколько залов с протекшими потолками, плесенью по углам и разлетающейся по кусочкам отделкой. В одном из них подъехавший Златоусцев узнал помещение с той самой фотографии: множество черно-белых столов, стульев, изразцовая печь в углу и портрет Николая Второго на темной стене. Из всего этого остались только стены, да и те покрасили белой краской.
– По пути сюда зрители должны будут пройти несколько залов, – сказал Мирон, прохаживаясь под куполом. – Надо будет их чем-то занять.
– Ты скажи, что делать, и сделаем, – бросил на ходу Даниил, пронося охапку цветастых платьев, доходившую ему до очков.
– Что делать, что делать… – грустно протянул мыслитель, развел руками и с поникшей головой покинул центральный зал.
В это время по балкону ходил Цвет и думал, где взять около двухсот стульев для зрителей. Хоть безымянные творцы и не рассчитывали на такое количество зрителей, но Антону в голову взбрела именно эта цифра. Он размышлял об этом вслух, делая предположения:
– «О, Рама!» сможет дать, наверное, стульев 10–15, хостел стульев 10, но кто их оттуда потащит? По два стула в руке, минимум десять человек, через весь Невский…
– Антон!
– Потом знакомые могут подвезти на метро, тут рядом…
– Антон!
Цвет отвлекся и повернулся на настойчивые возгласы Николая. Тот стоял у открытой нараспашку комнаты:
– Там, – сказал поэт и показал на дверной проем.
Цвет нахмурил лоб и медленно подошел. Вся комната была заставлена старыми деревянными стульями до самого потолка.
– Ха-ха! – громко рассмеялся Антон, постучал Николая по плечу и добавил. – А теперь выносите.
И был таков.
В десять часов он покинул здание, пообещав вернутся к полудню.
А потом отключили свет.
В итоге, в три часа дня всех собравшихся и постоянно пребывающих интересовал только один вопрос: «А где Цвет?» и где свет? Только зачинщик всего этого мог прийти и железной рукой навести порядок. А пока все пребывало в хаосе. Декорации сменяли друг друга с пугающей скоростью, девушки-художники выносили морские пейзажи, но через минуту музыканты Цвета во главе с Машей убирали их, пытаясь расставить на импровизированной сцене свои усилители и динамики. Бек в это время пытался записать все подготовленные номера и систематизировать их, но постоянно сбивался из-за «этих активных, не сидящих на месте людей» и начинал опрашивать всех заново.
В четыре часа в зал влетел Цвет, схватился за голову и начал бегать по кругу, то ли давая указания, то ли злопыхая и громко удивляясь. Но шум стоял такой, что лишь немногие его заметили. До представления оставалось три часа.
А с приходом Цвета дали и свет.
Антон и Даня судорожно пытались разобраться в нескольких десятках заявленных сценок. В итоге Берк махнул рукой и пошел двигать декорации. В это время Николай Зарёв уже несколько часов пытался украсить парадные залы. Но кто-то постоянно доносил новые вещи, атрибуты, одежды и замысел приходилось переделывать. Вешая на стену новогоднюю гирлянду с помощью скотча, Николай заметил вошедшего через распахнутые двери Антона, который молча сел на стул и опустил руки.
– Всё по плану?
Цвет поднял глаза на друга и помахал бумажкой:
– Вот план. И в нем такая мама-анархия, не менее анархичная, чем сейчас та в главном зале. И что-то мне стало страшно.
Зарёв вдохнул, оставил наполовину висящую гирлянду в покое, положил скотч на пол и подошел к другу.
– Ну, давай разбираться.
Они вместе взялись за листок, по очереди читая вслух каждый пункт.
– Смотри, начнем со стихов, допустим, Машиных, моих, Златоусцева… кто там еще… А Игнатьева, допустим, оставим на потом. Лучше начинать с чего-то легкого, в некоторой степени комедийного и постепенно подходить к тяжеловесам-трагикам. Так… А танцевальные объединим с песнями… Как у нас много танцующих, да мы можем целый бал устроить!.
Этот спокойный и уверенный тон Зарёва, будто решающего обыкновенную школьную задачку, приободрил Антона. Ему стало даже немного стыдно за свой упаднический настрой.
– А вообще, нужно смотреть по факту. Пошли смотреть номера – подытожил Коля.
Цвет хотел было его поблагодарить, но в этот момент за стеной раздался неимоверный грохот, который моментально стих. Друзья, опрокинув стул, ринулись в главный зал. Все стояли по краям помещения и изумленными глазами смотрели в центр.
– Да что такое… – прошептал Антон, всплеснув руками.
Старинная тяжелая люстра, провисевшая более века и за своё существование особо не привлекавшая ничьего внимания, рухнула именно сейчас. Потемневшая, в несколько ярусов, проведшая уже несколько десятилетий без ламп, она лежала огромным камнем на чахнущей с каждым часом тропке, ведущей к великолепному дебюту наших героев.
– Так… Ну-ка, взяли! – резво скомандовал Цвет, подходя к люстре и засучивая рукава.
– Стой!
Зарёв встал у него на пути.
– Это будет нашим центром. Фонтаном, вокруг которого всё будет происходить.
Он оперся одной ногой на нижний ярус люстры, как охотник, вставший на свою добычу для памятного снимка. Откинул в сторону руку и начал громко декламировать стихи:
Вот и зима наступила,
А мы всё не верим.
Едем в поезде, чувствуя сырость.
Откуда ей взяться
В металлических коробах
На чугунных колесах?
Мы не знаем.
Ноябрь быстро прошёл,
Как всегда.
Была ли осень
В наших местах?
Под толщей снега
Не верится в лето.
Стук колёс,
Монотонный и мерный –
Это всё, что мы слышим
На протяжении года.
Столько знаем об этих краях,
Вон там речка, холмы,
Слева – город.
На лыжах самое то.
Никто не взял лыжи?
Может, санки достанем?
Покатаемся с горки.
Ах, и санок здесь нет,
Только двери и чай
В гранёных стаканах.
Печально, печально,
Останемся тут.
Нам не верится,
Что наступила зима.
Ладно, в конце месяца выйдем!
Насладимся природой, свободой
От мерного стука колёс.
А поезд наш едет
Всё вперед и вперед.
Мы всю жизнь пассажиры
Непонятных дорог.
Он опустил руку и улыбнулся: все стояли также на своих местах и смотрели на него в полной тишине.
– Зачаровывает, правда? – уверенно сказал Николай и посмотрел на Цвета.
Тот закивал головой и захлопал первым. Окружающие подхватили, и общее оцепенение наконец-то спало: работа закипела вновь.
Полтора часа усиленных репетиций, восклицаний Цвета «Всё не так и всё не то!», его размашистые «дирижёрские» движения руками, беспрерывные зачеркивания и переписывания последовательности номеров, воодушевляющие речи Зарёва, советы, эффектные прыжки и появления – всё ради того, чтобы выступающие знали, как зажечь глаза зрителей; он постоянно начинал говорить стихами и благодарил всех и каждого за это чудесный вечер. Два друга ходили вокруг «сцены», неосознанно держа между собой дистанцию и действия, подобно инь и янь: каждый со своих полюсов, со своей энергетикой, к которой никто не мог остаться равнодушным.
А тем временем город надел вечернюю мантию, пестрящую миллионами огней торопящихся машин и неспешных ресторанов. Музеи закрываются, старинные дворцы остаются в молчаливой темноте. Пришло время зрелищ.
Даня Берк сидел за столом в парадной и продавал билеты. На другой стороне помещения стоял очень серьезный человек в сером пальто и скрещенными на груди руками; он был посланником Министерства культуры и зорко следил за продажей цветастых бумажечек. В тот вечер он должен был стать самым настоящим инспектором мероприятия: проверить сцену, закулисье, присутствовать в зале во время представления и оценивать происходящее с точки зрения господствующей в те годы морали. Но в те годы на этом нельзя было сделать хоть какие-то деньги: цензура, ранее властвующая безраздельно, была наглухо забита под полы редакций, местами – закопана без оказания каких-либо почестей, а «Тропик Рака» стоял в каждом уважающем себя книжном магазине. Так на что жаловаться, за что штрафовать? Если что и произойдет, то это будет очень громко и не ускользнет от внимания министерства. Потому человек в сером пальто покинул здание с последним проданным билетом, изъяв необходимый по закону процент от выручки.
Все двести стульев из мечтаний Цвета были заняты. К тому же общее их число составило даже на 23 стула больше, и сегодня впервые с 1917 года в главном зале бывшего Банка был ажиотаж. Зрители сидели полумесяцем перед красным занавесом, скрывающим круглый центр помещения. Было тесно, но разговорчивая публика не жаловалась, активно обсуждала первые комнаты, через которые она попала сюда. Люди со смешками проходили через первый зал, где по обе стороны от красного ковра-дороги праздновали Новый год. Были наряженные елки, гирлянды, китайские фонарики, сугробы с детских утренников и самые настоящие Дед Мороз и Снегурочка в синих шубах, белых меховых шапках, розовощекие и с магнитофоном в руках: лучшие песни «детей цветов» 60-х доносились из него. Дед с внучкой приветливо махали всем проходящим, поздравляя с самым лучшим праздником в году. Тут зрителей нагоняла напудренная балерина, в белой пачке, белых пуантах, с тонкими белыми ножками и хрупкими белыми ручками, даже волосы были белые-белые с одним воткнутым в них черным пером. Она плавно танцевала по красным дорожкам от входа до главного зала, почти не обращая внимания на проходящих мимо зрителей. В следующей комнате на благородных бордовых шторах, закрывающих стены, висели сабли, мечи, луки, арбалеты, топоры, знамена и прочая бутафория, которую смогли взять студентки из своего института. А смогли они взять только реквизит для Шекспира. Тут было без сюрпризов (на них не хватило времени) – просто красивая комната.
За несколько минут до представления из-за занавеса выглянул Антон и с выражением самого Маяковского произнес:
– Товарищи! Кто-нибудь играет на скрипке?
Из самой гущи зрителей уверенно встал мужчина:
– Дааа! – протянул он с немецким акцентом.
Антон махнул ему рукой. Мужчина, извиняясь, стал пробиваться через узкие ряды. Перед тем, как впустить его в закулисье, Цвет спросил, чтобы убедиться:
– Точно на скрипке играешь?
– Конечно, я отлично умею играть на скрипке.
Внешний вид незнакомца не внушал опасений: черный костюм настоящего блистательного франта, красная гвоздика украшает нагрудный карман, высок, строен, плечи расправлены, волосы уложены назад, тонкие элегантные усы, большой острый нос и карие глаза настоящего прусского гусара.
– Пошли.
И они скрылись за занавесом.
– Нашел? – подбежал к Антону Зарёв.
– Угу.
Николай посмотрел на мужчину:
– Играть умеешь?
– Да что же это такое! – развел руками гость. – Дайте мне уже скрипку, и я вам всё покажу!
– Хорошо, сейчас всё объясню. Для начала: я Николай.
– Вильгельм, – ответил скрипач, пожимая протянутую руку.
– Гость города?
– Гость его лучших театров!
Зарёв улыбнулся: как амбициозен!
С момента, когда упал занавес, и до мгновения, когда взмокший Цвет, допев последнюю песню, широко развел руки в сторону, и музыка окончательно стихла – прошло почти три часа. Ослеплённый яркими прожекторами, Антон замер, не видя лиц зрителей, совершенно не зная, к чему готовится. Совершенно измученный, не имеющий права стереть пот со лба, он тяжело дышал, прокручивая в голове весь этот вечер. Несколько часов как одно мгновение – вышел на сцену, улыбнулся спадающему занавесу и… теперь он здесь. Выдав всё по максимуму, он чувствовал себя голым и сгорбленным пластилиновым человечком, тающим на ярком свете. Так что же это было?
Щелчком рубильника в электрощитке погас свет в зале. Зрители мгновенно стихли. Занавес светился изнутри тревожным красным цветом, и чья-то большая тень по ту сторону становилась всё отчетливее и отчетливее, стремительно уменьшаясь в размерах. Раздалась команда: «Занавес!», и красная стена спала. Антон Цвет в цилиндре и зеленом фраке с заплатками стоял, опершись на почерневшую от копоти кочергу, и приветствовал зрителей радостными возгласами и своим головным убором.
– Этой звездной ночью, – торжественно начал он после аплодисментов. – Под куполом истории мы совершенно случайно встретились с вами. Наш мир и ваш. Боже, какая встреча! Не знаю как вы, но мы сразу заявляем: мы к этой встрече не готовы. Виной тому этот холодный гранитный пол. Вы спокойно сидите и свободно ставите на него ноги, не понимая самой сути камня.
Он резко развернулся и ушел назад за угловатые декорации домиков. Зрители остались один на один с упавшей люстрой, на верхнем ярусе которой сидело пять поэтов, грустно смотрящих на пол под приглушенным холодным светом. Зарев начал:
Гордые лица смотрели на камень,
Громко смеясь над каждым мгновением.
Что здесь творится? – нищий спросил.
Смотрим на камень, он очень смешон.
Нищий смотрел и на них, и на камень,
Потом рассмеялся и быстро ушел.
Лица переглянулись: он понял
В чем заключалась камней красота.
Это и последующие стихотворения про камень плавно вводили зрителей в прекрасный мир этого Безымянного объединения. После последнего стиха на сцену вспорхнула, словно бабочка, та самая балерина с черным пером. В тишине она сделала несколько пируэтов и начала кружится вокруг упавшей люстры. Завыли ветра, сверху полетел неровный, бумажный снег и где-то в глубине сцены заиграла скрипка.
Поэты встали и медленно пошли. А скрипка всё нагоняла и нагоняла снега, метель становилась всё сильнее и сильнее… И вот мы уже видели, как в этой вьюге, пошатываясь на улицах Ленинграда, на перегонах под пристальными взглядами конвоя, на тюремном дворе «Крестов», изнывая от холода, голода, собственного непонятному большинству безумия, трясясь в лихорадке, кашляя кровью, задыхаясь шли бок о бок ОБЭРИУты: Хармс, Введенский, Вагинов, Владимиров, Дойвбер. Умершие за сотни километров друг от друга, погибшие, репрессированные, загнанные и затравленные, только после смерти они наконец-то смогли встретиться в эту безжалостную стужу, пробирающую до костей. Взглянули друг на друга и молча пошли, шарфами от ветра лица закрыв. И белый Ангел Смерти витал вокруг них, поочередно касаясь каждого. И падали они на заснеженные кровати – последние свои пристанища, но вновь вставали и шли вслед за товарищами. Так и скрылись они в истории, ушли из-под нашего фонарного света. И только Ангел один остался. Долго смотрел он вслед поэтам, но так никого и не смог забрать. Наутро потух фонарь. А вместе с ним и Смерть обмельчала.
Балерина медленно опустилась на пол, словно засыпающий цветок. Цвет дочитал текст. Скрипка стихла, свет погас, и весь зал замер в темноте. Тишина мягко обняла всё вокруг.
Вспыхнул прожектор, установленный на балконе: его прозрачные лучи проходили через центр зала сверху вниз и падали на белый экран позади сцены. Появилось название фильма: «Зимний дождь».
– Посвящается ушедшим музыкантам, которые были для нас в первую очередь добрыми друзьями.
Зарёв, темным силуэтом взошедший на стремянку справа от больших букв, сказал посвящение и, вглядываясь в текст, освещенный блеклым кинематографическим светом, начал с первой стихотворной строки:
А над городом дует ветер,
А над нами осенний дождь,
В нашем городе снова Питер,
В нашем городе снова дрожь…
Несколько секунд показываются неподвижные надгробия. Следом на экране во вполне обыкновенном кафе за столиком у окна сидят молодые люди, сжимая в своих руках белые картонные стаканы с напитками. У них всех был потерянный вид: поникшие головы, потухшие глаза, молчание и какая-то серая задумчивость, из тех, которая бросает на лицо блеклую тень.
Что-то снова пошло не так. Ещё недавно смеялись, а теперь сжимаем зубы, чтобы не дать чувствам выплеснуться наружу. Вести о потерях с фронта всегда так приходят. Вернее, некоторые называют это фронтом, кто-то сценой, кто-то музыкой или искусством, а некоторые просто молчат.
Один из героев смотрит в окно. А за ним – бушующий дневной Невский в приглушенных цветах. Пробки, толпы людей, группы туристов, по нескольку бедняков у каждой достопримечательности. Это обычный городской день.
Если посмотреть в окно, то увидишь всё
и ничего. Я понял это ещё в самом начале. Некоторые из собравшихся не поняли это до сих пор. Сейчас я хочу видеть жизнь, а не слышать о смерти. И я вижу жизнь. В этой толпе, которая идёт по бульварам, в людях, что останавливаются у высоких прозрачных окон гостиного двора. Я вижу хмурые лица, смущённые глаза, скованные скупые движения, я вижу разноцветные шапки и грязные ботинки, хромых псов и дорогие иномарки, проезжающие по главной улице города. Но эту ли жизнь я хочу увидеть?
– Ну так что? – спрашивает один из сидящих.
Тишина.
– Как так?
Тишина.
Вот один уже посыпался.
– Чёрт, помолчи уже, – ответили ему.
Вот и второй.
Я назвал это: двойственность жизни. Ты можешь увидеть в глазах человека целый мир, а можешь ничего и не заметить.
Молодые парень и девушка стояли где-то далеко отсюда, смотря на величественно проплывающие из порта корабли. На берегу им махали толпы, провожая криками, улыбками и слезами пожилых матерей. На девушке капитанская фуражка из сувенирного магазина. Ветер развевает ее длинные волосы. Парень обнимает за талию свою спутницу и оборачивается к ней.
Ты способен почувствовать любовь, а можешь испытать страх. И это неразрывное целое. А есть вариант наплевать на всё и пройти мимо, даже не посмотрев на то, что может тебя спасти.
Оператор снимает лица матросов на корабле: старые, морщинистые, загорелые, напоминающие старый сапог лица морских волков и юные, мягкие, с покрасневшими от северного жесткого ветра щеками, – юношей, отправляющихся в свой первый рейс. Первые смотрят вперед – на расстилающийся перед кораблем залив, вторые на берег – на людей, с которыми жили и мечтали.
Мы смотрим вперёд и видим разное, причём настолько, что не укладывается в голове, как такое может происходить. И самое прекрасное никогда не узришь глазами, эта истина будет всегда.
Мы то падаем, то взлетаем,
Но нам не нужны высоты,
Рвём свои крылья и продолжаем
Свой путь, не думая о Боге.
А герои всё также сидят в кафе и молчат. Их любимый столик на четверых. Свободных мест нет. А на улице льёт дождь, барабаня по всему, что не успевает спастись, он как будто безжалостный охотник в логове зверей. Он жаден и хочет достать до всех.
– Дождь в январе! – воскликнул один из героев, – Неплохо.
Никто не отвечает. Все смотрят в окно и видят только то, что хотят. Иногда мы тайно желаем себе несбыточности наших мечтаний и грёз. Мы часто запрещаем себе видеть своё счастье.
Наблюдательный герой продолжает смотреть на дождь. Он поднимает глаза к небу, падая в водоворот воспоминаний. О чём он думает?
Если бы я мог летать,
Я бы не прилетел к тебе,
Я стараюсь сидеть и забывать,
Что всегда умел летать.
На экране в полутьме спальни перед окном обнаженный мужской силуэт. Накидывает на себя халат, разворачивается, делает шаг, неожиданно хватается за грудь, рукой придерживается за стену и медленно опускается за кровать.
Горячий капучино холоден, как эти слёзы за стеклом. Они падают, падают на головы прохожих, приобщая их к своему горю, к горю героев. Перед кафе проходят несколько мужчин в кожаных куртках и ковбойских шляпах. Герой напевает:
If the stars fall down on me
And the sun refused to shine
А Зарёв вторит ему по-русски:
Если звезды упадут на меня
И солнце откажется сиять,
Друг героя дернул головой и тихо присоединился:
Then may the shackles be undone
And all the old words cease to rhyme,
Оковы, возможно, будут разрушены,
И все старые слова потеряют рифму.
Остальные переглянулись и подхватили:
If the sky turned into stone
It would matter not at all
For there is no heaven in the sky…
Если бы небо превратилось в камень,
Это не имело бы никакого значения,
Ибо нет Рая в небесах…
Друзья ободряюще хлопают друг друга по спине, смеются, поднимают свои стаканчики, говорят тосты.
Проскальзывают кривые улыбки, мы оживляемся.
И через несколько минут уже вовсю говорим. Ведь молчание – это одна из страшных вещей на свете. Мы не говорим, а жизнь проходит и люди вместе с ней. Надо говорить. И верить. Ибо нет Рая в небесах, и мы уже не встретимся никогда… Мы ещё долго говорили. И даже радовались, что собрались. Странно. Недавно сжимали зубы, чтобы не дать чувствам выплеснуть наружу, а теперь смеёмся. И горячий кофе снова горячий. Но от холодноватого привкуса уже не избавиться никогда.
Герой снова смотрит на улицу. Он думает о девушке, которая сейчас вернулась домой, снимает капитанскую фуражку и устало садится на табуретку в прихожей. Она грустно смотрит на подошедшего к ней кота.
Я смотрю на серое небо. В тот день, когда мы познакомились, над нами светило солнце. В тот день не могло быть другой погоды. Интересно, что ты сейчас делаешь? Хотя, нет, не надо. Я не хочу знать.
Иначе полечу,
Иначе приду,
Иначе скажу,
Что люблю.
Герой фильма думает про себя:
– А сегодня ушли две легенды, и очередь наших смертей продвинулась ещё на два пункта.
И смотрит на зрителей.
Это не может радовать.
Это не может огорчать.
Про всё, что здесь написано,
Можно понятно сказать:
Это жизнь и только она.
Только одна, как всегда,
Она слишком сложна,
Она слишком проста,
Всё это жизнь,
И она у меня одна.
Поэтому я боюсь,
Поэтому я молчу,
Я вижу в твоих глазах
Больше мира, чем хочу.
Кадр темнеет, темнеет, становясь серым, темно-серым, черным.
Ибо нет Рая в небесах, и мы уже не встретимся никогда…
И поэтому я лечу…
И поэтому я пою…
Зал снова погрузился в темноту.
Раз, два, три. И заиграла Машина гитара.
Зарёв нырнул в закулисье и выдохнул, вытирая пот со лба.
– Это было что-то! – похлопал его по плечу Цвет.
Он уже успел где-то растрепать свои волосы, так аккуратно зализанные в начале.
– Я старался. Водички бы.
– Конечно!
И, продолжая держать друга за плечо, Антон подвел его к столику с 19-литровой бутылью.
Одновременно со сценой закулисье жило своей жизнью. Девушки-гримеры работали не покладая рук, рассадив своих клиентов на зеленые деревянные ящики, которых здесь оказалось великое множество. Комната-гардероб превратилась в одну большую пеструю свалку одежды, реквизита, украшений. Все куда-то бежали, торопились, паниковали, и чем дальше это отдалялось от сцены, тем становилось громче.
– Сколько здесь людей? – спросил Николай, надевая коричневый вельветовый пиджак, который кто-то бросил на соседнем столе.
Подумав, Цвет ответил:
– Ну, человек семьдесят… Я не знаю. Я даже не со всеми знаком.
– Чудно.
– А мои услуги вам еще понадобятся? – раздался слева знакомый акцент.
– Ах да, Вильгельм, это было прекрасно! – обрадовался Зарёв, пожимая ему руку. – Как вы играли!
– Я признанный мастер своего дела, можете не сомневаться, – широко улыбнулся скрипач.
– А как вы здесь оказались? В смысле, пришли к нам.
– Ох, я шел по городу, приехал выступить и прогуляться по любимым местам. Так вот, я шел по городу и увидел ваше неказистое объявление. Позвонил знакомому и спросил, что это есть такое? Он ответил, что это русский андеграунд. Я не мог не посмотреть на эту забаву.
– Да какой мы андеграунд, нам до него расти и расти! – потряс пальцем Антон и пошёл в сторону сцены.
– Я рад нашему знакомству, и если вас не затруднит, то останьтесь с нами до конца. Думаю, ваша игра еще внесет свой вклад в этот вечер.
– Конечно, я с удовольствием помогу. Покажете мне на плане, когда я должен выходить?
– На плане?
– На плане мероприятия, последовательность номеров.
– Понимаете ли, Вильгельм, это хаос. Один сплошной перформанс.
К ним подошел низенький мужчина с большой плешью:
– А вы знаете, что у вас тут происходит?
– А вы кто?
– Я фотограф.
– Тогда хорошо, а что происходит-то?
– Эта картина запрещена к демонстрации на территории Российской Федерации, – как робот отчеканил он и показал в сторону гардероба.
Там, опершись на фанерные декорации, стояла картина в тяжелой раме. На ней русская тройка неслась по заснеженной деревенской улице и крестьянин, стоя в санях, размахивал американским флагом. Народ вокруг ликует и машет платками. Зарёв вспомнил, что слышал про это полотно когда-то, но сейчас не знал, откуда взялась эта копия. У него в голове сразу же созрел план, который окончательно убил свойственную ему робость. Азарт поглотил его.
Он медленно повернулся к фотографу и спокойно, с прищуренным взглядом Остапа Бендера, сказал:
– Так значит, будет. Как часть декораций. Что ж, мы не украсим помещение Айвазовским только из-за того, что он нарисовал не море, а голод на суше? Стыдно прятаться от своей истории.
Оппонент хотел что-то сказать, но Николай уверенным шагом отошел от него, взял картину, понес ее на сцену и замер в ожидании окончания очередной песни. Плешивый фотограф поспешил скрыться.
Нет, право, тот вечер был действительно сплошным хаосом. Хорошо упорядоченным хаосом, снятым с первого дубля. Музыканты прочно заняли свои позиции на сцене и пели всё, что хотели. Танцевальные номера врывались на сцену и пытались, с одной стороны, показать то, что планировали, а с другой, попасть в ритм музыкантов. Положение стало комичным, когда часть артистов во главе с Зарёвым стала таскать мебель и декорации прямо во время выступлений, постоянно преобразовывая сценическую реальность. Двигающиеся стены, стулья, стулья, торшеры – сами того не заметив, музыканты и танцоры влились в этот мир, настроившись на его волну. Николай летал в вельветовом пиджаке на сцене, пытаясь слиться с танцорами, и раздавал команды предметам интерьера. На сороковую минуту эта ситуация достигла апогея: инструменты набрали мощности и были готовы взлететь вместе со своими хозяевами в стратосферу, уличные танцоры, балерины, дамы и господа и прочие танцующие образовали один дружный бешеный круг. На сцену вбежал Цвет и всучил Зарёву картину, которую тот так и не вынес на сцену. Друзья переглянулись, и Николай, зажав раму под мышкой, юркнул в самый центр хоровода. Антон стал прыгать перед музыкантами, руками направляя их музыку как можно выше к звездам, ведя Банковскую симфонию хаоса к поистине вагнеровскому завершению. И… резкое движение руками вниз – и тишина. Только танцоры как по команде упали на пол. И вот в самом центре сцены среди тишины и лежащих тел стоял Зарёв с высоко поднятой картиной Айвозовского. Секунда, две, три – снято! Занавес.