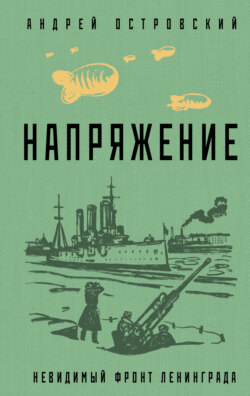Читать книгу Напряжение - Андрей Островский - Страница 6
Напряжение
5. Где он живет?
ОглавлениеТо, что называлось хлебом, начинали выдавать в семь утра. Бенедиктов подошел к булочной на углу Большого проспекта, где мог брать хлеб Лукинский, незадолго до открытия.
Еще издали он увидел в темноте реденькую толпу, облепившую вход. Женщины в ватниках, в платках, туго затянутых на пояснице, противясь стуже и ветру, не стояли на месте – пританцовывали, постукивали ногой о ногу, но не удалялись далеко от дверей. Мужчин было немного, и никто не опирался на костыли.
Бенедиктов выбрал место под аркой в доме напротив – не самое удобное и на ветру, зато оно позволяло, не привлекая к себе внимания, видеть каждого, кто подходил к булочной.
Вскоре стукнула дверь, мелькнул слабый, колеблющийся огонек внутри, и толпа, быстро разредившись в цепочку, почти целиком исчезла.
Где-то далеко щелкал из динамика метроном, отсчитывая секунды, минуты, часы… Хвост у магазина то увеличивался, то сокращался, потом и вовсе никого не осталось на улице.
Холод проник сквозь шинель, мелкая дрожь начала дробить тело. Собираясь покинуть неуютное убежище, Бенедиктов осмотрел напоследок надоевшую ему улицу и тут совершенно неожиданно для себя услышал за спиной тихий размеренный стук. Стук костылей – ничего другого быть не могло. Бенедиктов напрягся, задержал дыхание, соображая, как поступить.
– Товарищ капитан-лейтенант, махорочкой не богаты? – Голос простуженный, немолодой.
Бенедиктов обернулся, словно выведенный из глубокой задумчивости. Мужчина в драповом пальто и матерчатой рваной ушанке с торчащей из дыр ватой висел на костылях – плечи вздернуты, голова опущена.
– Махорочкой?.. Гм-м… Найдется. – Бенедиктов охотно закинул полу шинели, полез в карман брюк; лицо его выражало приветливое простодушие. – Особо раненому братишке. Раз такое обращение – «капитан-лейтенант», стало быть, свой, флотский?
– Это точно… – Зажав под мышкой костыли, инвалид снял рукавицы, запустил грубые пальцы в кисет.
Бенедиктов не курил, но махорку держал при себе, и она не раз выручала его в самых непредвиденных обстоятельствах. Свернул самокрутку сам, похлопал по карманам.
– А, чч-черт побери, кажется, спички забыл…
– Не беда, у меня есть.
Он приладил к белому камешку сплетенный из ниток жгут, сильно ударил по камню железной пластинкой. Щурясь от едкого дыма горелой тряпки, Бенедиктов сумел разглядеть худое, с впалыми щеками лицо в морщинах, желвачок на лбу справа, над самой бровью, нос крупный, широкий.
– Где служил-то?
– На «Октябрьской революции», старшиной команды трюмных машинистов. – Послюнявив пальцы, инвалид придавил раскрасневшийся на ветру трут. – Там и накрылся.
– Ба, на «Октябрьской революции»! – оживился Бенедиктов. – У меня там друг закадычный, капитан третьего ранга Чухнин. Знал такого?
– Чего-то не припоминаю. Да я на линкоре недолго пробыл, перед самой… – вдруг закашлялся, по-лошадиному кивая, – перед самой войной перевели с «Кирова»… Ну, спасибо, капитан-лейтенант, а то со вчерашнего утра не куривши. Думал, подохну… Пойду за пайкой, пока не заперли.
Скрючившись, он осторожно переставил костыль на промерзлую, скользкую землю, едва прикоснулся больной ногой и, подпрыгнув, ступил здоровой. Бенедиктов выплюнул окурок.
Светало. Казалось, кто-то незаметно вливал в густую темень свет, перемешивал и разбавлял ее. Снег представлялся уже не черным, а синим, проявились кирпичи стен с квадратиками изразцов, дверь булочной оказалась коричневой, обрели объемность дома, сугробы. Поприутих ветер.
Бенедиктов быстро пересек улицу, скосив глаза на магазин, замер возле уцелевшей стены разбомбленного особнячка.
Вскоре появился инвалид. К удивлению Бенедиктова, он заковылял не к подворотне, где они только что повстречались, а к проспекту. «Куда же это ты пошел, а? Посмотрим, посмотрим», – думал Бенедиктов, двигаясь за ним по противоположной стороне Большого, к Гавани.
Проспект был широк, настолько широк, что Бенедиктов обострившимся зрением едва различал темное подрагивающее пятнышко – голову и плечи, – мучительно медленно плывущее за кучами снега.
А когда оно пропало, он все же не заметил. Бенедиктов ругнулся и, пригибаясь, увязая в снегу, перебрался к большому серому дому. Никого… Ворота наглухо заперты, завалены снегом… А вот и выдавленные кружочки. Они вели в парадное, оказавшееся проходным. Дверь со двора была распахнута настежь. Бенедиктов с облегчением вздохнул: в глубине узкого дворового садика хромал человек на костылях…
У заднего крыльца четырехэтажного флигеля он долго лающе кашлял, прижав руку к груди, потом осмотрелся и исчез внутри.
Выждав с минуту, Бенедиктов последовал за ним, прислушался. Наверху, на третьем или четвертом этаже, хлопнула дверь, и все стихло. Тогда он неслышно выбрался обратно во двор, скользнул глазами по крышам. Одно слуховое окно его особенно заинтересовало, и он поспешил к соседнему дому.
Чердак продувался насквозь, но чердачный запах так и не выветрился. После улицы здесь казалось темно – пришлось достать фонарь. Возле кирпичной трубы стояла ржавая бочка с песком. Из песка косо торчал стабилизатор «зажигалки». И рядом с брошенной лопатой валялись недогоревшие, как сигары, огрызки маленьких бомб..
Перелезая через пыльные стропила, Бенедиктов устремился к присмотренному им окну и чуть не споткнулся обо что-то. Бросил под ноги луч света, невольно отпрянул, увидев окоченевший труп женщины. Женщина лежала ничком, раскинув ноги и сжимая в белевшем кулачке длинные щипцы; развязавшийся платок на голове еле заметно колыхал ветер…
Бенедиктов обошел труп и, взобравшись под крышу, примостился у полукруглого окошка. Отсюда была видна часть кирпичного, без штукатурки, флигеля, крыльцо, где скрылся инвалид; не весь, но просматривался и двор. Почерневшие, с поломанными рамами окна, забитые где фанерой, где железом, заткнутые тряпьем, подушками или вовсе пустые, не позволяли видеть происходящее внутри и казались безжизненными. Бенедиктов попытался уловить хоть какой-нибудь шорох, но тщетно: тишина стояла устрашающая.
И вдруг густой, липкий гул вырвался откуда-то, заложил уши, нарастая, и отозвался громом в другой стороне. Качнулась земля, вздрогнули стены. Бенедиктов выругался про себя расхожим русским словом, прижимаясь бессознательно к стене. Гул не стихал, он как бы пульсировал; с ним слышался другой, такой же мощный и тяжелый, – ударили в ответ корабли с Невы. Теперь стены дрожали не переставая, один раз что-то рассыпалось по крыше. Бенедиктов посмотрел вверх и только сейчас заметил, что крыша вся в мелких дырах, как звездное небо, а в глубине чердака зияет огромная брешь. Невольно перевел взгляд на женщину и покачал головой.
Стрельба прекратилась неожиданно, как и началась. За время обстрела из дома никто не выходил. От неудобного положения у Бенедиктова затекли и стали мерзнуть руки и ноги. Ветер с колючей снежной пылью резал лицо. «Что он там делает так долго? – думал Бенедиктов, растирая перчаткой щеки и нос. – Или здесь его дом? Тогда откуда он шел спозаранок?»
Прошел еще томительный час и еще… Если бы Бенедиктов не осмотрел флигель, убедившись в отсутствии черного хода, можно было предположить, что инвалид ушел. Нет, он был тут. Терпение, только терпение. Бенедиктов заставлял себя думать о чем-нибудь приятном, хорошем, восстановить в памяти, например, какой-нибудь случай, когда ухаживал за Тасей… Не получалось – холод глушил все. И хотелось есть. Это давно уже ставшее обычным чувство обострилось, напоминая о былом времени обеда. Бенедиктов знал, что скоро оно пройдет, сменится слабостью и повлечет за собой сонливость. Заснуть же он боялся больше всего.
Было совсем темно, когда дверь приоткрылась и инвалид боком пролез в щель. Его никто не провожал. Промерзший до костей Бенедиктов скатился на засыпанный гарью пол и, разминая на ходу онемевшие руки, побежал к выходу.
Теперь незачем было переходить на другую сторону, – темнота укрывала его. Отпустив инвалида шагов на пятьдесят, насколько позволял глаз, Бенедиктов тащился за ним по знакомому пути, пока не дошел до той самой подворотни. Во втором дворе инвалид вошел в дом. Бенедиктов прикинул, что жить он мог либо в восемьдесят шестой, либо в семидесятой квартире, но на всякий случай запомнил все номера на лестнице.
В жакте, сыром и холодном подвале, пропахшем копотью, он застал дворничиху и девушку из МПВО. Облокотясь на старый канцелярский стол с грязной пустой чернильницей, девушка называла дворничихе какие-то квартиры и загибала пальцы перед самым ее носом, та согласно кивала.
– Как бы повидать вашу паспортистку? – спросил Бенедиктов. Девушка через плечо кинула на него взгляд и отвернулась.
– Паспортистку?.. А никак. – Дворничиха поерзала на крутящемся табурете. – Нет у нас паспортистки, убило нашу Галочку на прошлой неделе бонбой. Пошла домой, может, еще и спать не улеглася, и налет… Бонба аккурат в самый ихний дом угодила. Одни черепки… Ах ты господи, фашист проклятушший, душегуб…
– И кто же теперь?
Дворничиха пожала острыми плечами, закатила маленькие глазки.
– Поди знай кто… Сама Клава, наверно.
– Кто это – Клава? Управдом? Где ее найти?
– Дома, где же еще, час-то уже поздний. Она тут недалече живет, на Двадцатой линии, дом одиннадцать, квартира тоже одиннадцать.
Петракова – так дворничиха назвала фамилию управдома Клавы – за порог его не пустила. Она лишь приоткрыла дверь на цепочке и спросила настороженным шепотом: «Кто?» Бенедиктов едва устоял на ногах от потекшего на лестницу вместе с теплом сладкого, головокружительного запаха печеного теста. Это было так неожиданно и так невероятно, что он, глотнув слюну, отступил на шаг.
– Энкавэдэ, – ответил он, испытывая безотчетное чувство неприязни к женщине, и направил свет фонаря на свою красную книжечку. – Нужно посмотреть домовые книги, быстро.
Испуганно пробормотав: «Обождите минутку, я сейчас», она поспешно захлопнула дверь и заперла на крюк.
По дороге Петракова начинала что-то говорить, но Бенедиктов хмуро отмалчивался. Проклятый запах горячего печева не давал ему покоя, и он думал о том, как бы поскорее добраться до жакта.
– Вот, Егоровна, какого я мужчину привела, – сказала, входя, Петракова съежившейся в углу и, казалось, дремавшей дворничихе.
Та хихикнула:
– Ах, Клава, Клава… О хлебце бы думала…
Девушки из МПВО уже не было. Бенедиктов заметил, что Петракова недурна собой – это открытие безотчетно еще более усилило неприязнь к ней.
Она достала из сейфа четыре толстые потрепанные книги с загнутыми и засаленными углами. Бенедиктов сел за стол.
– Вот здесь отмечены выбывшие, – сказала она из-за спины, налегая на него грудью, – и проставлено число. Можете не сомневаться, у нас все в полном порядочке.
– Разберусь, разберусь, – Бенедиктов резким движением расправил спину; ему показалось, что он уловил запах вина, – не в первый раз… – И принялся выписывать ненужные ему фамилии, делая вид, будто внимательно просматривает все квартиры.
В семидесятой мужчин не оказалось, в восемьдесят шестой жил монтажник. И в других квартирах по той лестнице списанные с флота военнослужащие не значились. «Вот так компот! – обескураженно подумал Бенедиктов, перевертывая страницу. – Выходит, инвалид прописан в другом месте, если он вообще прописан. У кого же он живет?..»