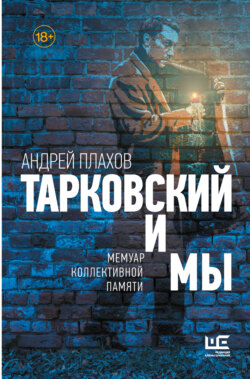Читать книгу Тарковский и мы: мемуар коллективной памяти - Андрей Плахов - Страница 8
«Москва слезам не верит»
Тарковский и СССР
ОглавлениеВайда, род трав сем. крестоцветных.
Советский энциклопедический словарь, 1984
Фильмы Бергмана смотреть стыдно, они неприличные.
Из лекций во ВГИКе
Название этой главы отсылает к одному из самых известных фильмов позднего советского периода. Он был снят режиссером Владимиром Меньшовым и в 1981 году сенсационно выиграл «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Сенсация была тем круче, что в число пяти номинантов входили «Кагемуся: Тень воина» Акиры Куросавы (снятый им в СССР «Дерсу Узала» был награжден «Оскаром» пятью годами ранее) и «Последнее метро» пионера французской «новой волны» Франсуа Трюффо, чрезвычайно популярного в Америке.
В отличие от этих прославленных режиссеров, Меньшова за границами России никто не знал. Знали Сергея Бондарчука, чья «Война и мир» двенадцать лет назад завоевала «Оскар»; знали и Андрея Тарковского – но ни один его фильм в качестве оскаровского претендента даже не рассматривался. Не удивительно: в основные (почти стопроцентно англоязычные) номинации картины Тарковского в те годы почти не имели шансов попасть, а кандидатов на лучший иностранный фильм выдвигали сами страны. Обычно советские чиновники от кино предлагали кого-то из «генералов», типа того же Бондарчука или Станислава Ростоцкого, но на сей раз сделали исключение для сравнительно молодого и необстрелянного Меньшова. Он был к тому времени уже довольно известен как актер, а в режиссуре совсем недавно дебютировал школьной мелодрамой «Розыгрыш».
Именно съемки этого фильма стали для нас с Еленой объектом первого журналистского задания: одна из московских газет заказала нам репортаж. В этот день снимали сцену школьной вечеринки. Дело никак не клеилось, Меньшов кричал на исполнителей-подростков чуть ли не матом, требовал нескончаемых дублей минутного эпизода. Нас, неофитов, сразу резанула исходная фальшь ситуации. В комнату входит девушка с подносом, на нем – бокалы с каким-то красным напитком. «Даша принесла крюшон. Это очень хорошон!» – произносит парень. Как говорил Станиславский, «не верю!». Чтобы старшеклассники на вечеринке в отсутствие родителей пили какой-то крюшон… В общем, нам не понравился ни сам этот эпизод, ни методы, которыми Меньшов добивался достоверности исполнения там, где ее вообще быть не может по определению.
Мы решили, что попали к какому-то на редкость бездарному режиссеру, и были уверены, что фильм получится совсем беспомощным. Каково же было наше удивление, когда «Розыгрыш» с помпой вышел на экраны, собрал довольно большую аудиторию и оказался не так уж безнадежно плох. Потом мы многократно убеждались, что по впечатлению от съемок нельзя предсказать конечный результат. Многие великие фильмы рождались в муках, в атмосфере непонимания, а то и ненависти, – даже уморительный «В джазе только девушки» Билли Уайлдера. А бывает, что съемки оставляют самое приятное послевкусие, фильм же выходит посредственным. Кино – великая тайна, и как смешаются компоненты, из которых оно готовится, никто не знает до последнего момента – даже не до окончания монтажа, а до премьеры на публике. Опыт первого репортажа со съемок оказался полезен: он развеял романтические иллюзии и заставил почувствовать зазор между процессом и результатом.
Это было подтверждено судьбой следующей картины Меньшова. Как розыгрыш воспринял он весть о том, что «Москва слезам не верит» победила на «Оскаре». Характерно для советских нравов тех лет, что режиссер узнал о своем успехе от знакомых, а те – из сводок радионовостей. А когда на сцену в Лос-Анджелесе получать статуэтку вышел работник советского посольства, американские газеты язвили: впервые американский «Оскар» достался сотруднику КГБ. Кроме шуток, это и впрямь было невероятно: «Оскар» присудили советской картине вскоре после вторжения в Афганистан и бойкота, которому был подвергнут Советский Союз на спортивном и прочих фронтах.
Фильм Меньшова попал в яблочко ожиданий американской аудитории на тему странностей русской души. Поэтические аллегории Тарковского были для этой аудитории слишком сложны, а мелодрама Меньшова о трех девушках-провинциалках – в самый раз. Жесть неприступной столицы ломалась под напором их молодой энергии; в лучших традициях голливудских сказок Золушка мало того что из простой работницы превращалась в директора завода, так еще и обретала своего принца. И ключевой момент – экзотика советского быта. Американцев очаровало, что московские девушки ищут женихов не на дискотеках, а в библиотеках: это ведь так мило. Есть легенда, будто Рональд Рейган перед встречей с Михаилом Горбачёвым в 1985 году по совету помощников восемь раз посмотрел картину Меньшова, чтобы постичь загадку русского менталитета.
Впрочем, и в России, где для зрителей в этом фильме особых загадок не было, он оказался рекордсменом проката: на него купили билеты почти 85 миллионов человек – треть населения СССР. В кинематографических кругах «Москву» сначала восприняли скептически, а лучшие критики, включая Майю Туровскую, автора книги о Тарковском, предлагали изменить финал, считая его «неправдоподобным до невозможности».
Я уделяю столько места не самой любимой из своих картин по двум причинам. Во-первых, она стала визитной карточкой позднесоветского кино, формально продолжавшего следовать партийным догмам, но по сути взявшего курс на коммерциализацию а-ля Голливуд. Этот путь претил Тарковскому: его одинаково отталкивали идеология и коммерция; вскоре, в 1982 году, он уехал в Италию на съемки «Ностальгии» и больше в СССР не вернулся. И «Сталкер», и «Ностальгия» были апофеозом авторского кино; советские чиновники люто ненавидели его и с трудом терпели. Оскаровский триумф фильма «Москва слезам не верит», поднятого на щит и на родине, стал для Тарковского лишним свидетельством того, что со своим подходом к кино как высокому искусству он России не нужен. Не факт даже, что он смотрел меньшовский опус, но ему и так все было ясно.
Во-вторых, фильм Меньшова может служить своеобразным маркером нашей с Еленой судьбы. При всей прелести и очаровании львовского бэкграунда в Москве мы чувствовали себя провинциалами, как и героини этой картины, и так же пробивались сквозь жесть столичных иерархий и порядков. У нас не было ни высоких связей, ни умения дружить с «нужными людьми» – только авантюрная жилка и мечты о кино.
Жили мы сначала в подмосковном городке Домодедово, недалеко от аэропорта. Только там смогли получить прописку через обмен нашей львовской квартиры, и то при условии, что в Подмосковье въезжает лишь один человек (поскольку во Львов выезжал тоже один). Нам с Еленой пришлось оформить фиктивный развод, а ей – даже отказаться на суде от сына. Официально он оставался на моем попечении, судьи испепеляли презрительными взорами «плохую мать». Через два месяца мы снова заключили брак, и я смог приблизиться к вожделенной Москве.
Квартира, которую удалось выменять на нашу – маленькую, но вполне приличную львовскую (родители отписали ее Елене), – только называлась квартирой. Это была комната в коммуналке, в двухэтажном здании, похожем на барак, на окраине Домодедова. Чтобы добраться из центра Москвы в этот медвежий угол, надо было ехать на метро до Павелецкого вокзала, потом почти час на электричке, потом на автобусе; иногда его приходилось ждать по полчаса на морозе. Предпоследняя автобусная остановка называлась «Рабочий городок», конечная – «Рабочий поселок». Там и стоял наш дом: с одной стороны – кладбище, с другой – коллективный сад «Мечта».
Это была задница мира, хоть и всего в сорока километрах от Москвы. Если вы оказывались здесь ранним вечером, когда уже закончился рабочий день, у вас возникало ощущение ирреальности: перед глазами плыл тусклый подмосковный пейзаж, народ кучковался возле подъездов и тащился к магазину, пьяных вроде видно не было, но и трезвых тоже. Все покачивалось и шевелилось, как в фильме, снятом неопытным оператором: тогда такое дрожание еще не вошло в арсенал художественных средств кинематографа как осознанный и модный прием.
Впервые увидев эту «квартиру» и войдя в нее уже хозяйкой, Елена, по натуре вовсе не чрезмерно ранимая, даже всплакнула. Нас, наверное, охватила бы острая ностальгия по родному Львову, но времени тосковать не было. Мы были устремлены к новой московской жизни и ехали за ней в манившие нас культовые точки – например, в кафе Нового Арбата, знакомые по фильму «Еще раз про любовь» с Татьяной Дорониной.
Чего только стоили московские театры! Попасть на Таганку, в «Современник» или «Ленком» было непростой задачкой, но, став студентами ВГИКа, мы могли претендовать на стоячие места. Так, пристроившись на балконе и даже не заметив никакого неудобства, я наслаждался «Тартюфом» с дивной Аллой Демидовой (ее Раневскую в «Вишневом саде» Эфроса спустя несколько лет смотрел уже сидя в партере); «Десять дней, которые потрясли мир» Любимова – даже близко к сцене. Высоцкий, игравший Матроса, запустил деревяшкой от разборной табуретки в классового врага – и чуть не попал в зрительницу рядом со мной.
Гафт, Кваша, Неёлова в «Современнике», Караченцов в «„Юноне“ и „Авось“» в «Ленкоме» – тоже незабываемые театральные обретения тех лет. Отдельным номером шли постановки с Инной Чуриковой. У Марка Захарова она гениально играла чеховскую Сарру в «Иванове»; в «Гамлете», который поставил Тарковский в «Ленкоме», – Офелию. Не очень убедительным для меня принцем Датским был Солоницын, Гертрудой – как всегда, восхитительная Терехова. Видел и ее роли в театре Моссовета, но все же кино («Зеркало» в первую очередь) ярче всего проявило харизму Тереховой. А для Тарковского, с моей точки зрения, театр так и остался чуждой территорией.
Особенным везением стали два спектакля гастролировавшей в Москве, в новом МХАТе, французской труппы Мадлен Рено – Жан-Луи Барро. Мне удалось купить с рук билеты на «Гарольд и Мод» и «Христофор Колумб». «Колумб» с Лораном Терзиевым в главной роли буквально заворожил: впервые я так остро ощутил магию театра. Потом в жизни было много мощных театральных впечатлений: Лепаж, Кастеллуччи, Варликовский, Серебренников, Черняков, – но такой восторженности, как в юности, я больше не испытывал.
Еще одной культовой точкой был кинотеатр «Иллюзион». Однажды мы узнали, что там пройдет ретроспектива Анджея Вайды, и купили билеты на фильм «Лётна», которого раньше не видели. Смогли достать только на девятичасовой утренний сеанс. За стенкой нашей комнаты жил добрый, но беспробудно пивший сосед – татарин Федя. Стараясь не разбудить его и другую соседку, мы тихо встали в полшестого, побежали на автобус, потом на электричку, потом на метро, наконец сели в трамвай. В электричке я обнаружил, что один ботинок на мне желтый (мой), а второй – черный (Федин), – так я спросонья обулся в общем коридоре, где стояла обувь жильцов. Возвращаться было бессмысленно и позорно. Когда мы выходили из трамвая на Котельнической набережной, на нас набросились человек десять с надеждой, нет ли лишнего билетика. Я гордо прошествовал сквозь толпу фанатов с билетами в руках и с разными ботинками на ногах. Вот так любили Вайду и польское кино. Было девять утра, кажется, март, 1976 год. Вайде тогда было пятьдесят.
Вскоре он снял дилогию «Человек из мрамора» и «Человек из железа» – гимн польской рабочей «Солидарности». После этого главный режиссер Польши стал нежелательной персоной в нашей стране, а посвященная ему статья в третьем издании «Советского энциклопедического словаря» (1984 год) была заменена другой, равной по объему (чтобы не переверстывать все издание): «ВАЙДА, род трав сем. крестоцветных. Ок. 60 видов, в Евразии. В СССР ок. 40 видов. В. выемчатую и др. виды иногда разводят на корм. В. красильную прежде культивировали в Зап. Европе как красильное растение». Студенты ВГИКа шутя говорили, что Вайду обозвали сорной травой – по аналогии со знаменитой статьей, где Бориса Пастернака назвали «литературным сорняком».
Если бы не Вайда, не импульс, полученный от польского романтизма, кто знает, пришла ли бы мне в голову идея бросить надежную профессию математика и ринуться в темные воды кинематографа, испробовать себя на сомнительном поприще критика. И моей жене тоже: она, поступая вслед за мной во ВГИК, написала работу именно про Вайду, а вот диплом про него ей защищать не разрешили; пришлось заменить Вайду на Отара Иоселиани, еще одного нашего фаворита.
На вступительных вгиковских экзаменах будущих студентов выбирали по принципу «чтобы не слишком умничали». Выходившие с собеседования (а оно считалось главным экзаменом) предупреждали других абитуриентов: будут спрашивать про любимых режиссеров – не называйте Бергмана и Годара, тут же срежут. И ни в коем случае – Тарковского. Между прочим, его дальняя родственница поступила со мной на один курс, но и она это имя вслух упоминать не решалась. Я же вышел из положения, назвав в качестве «любимого» Висконти, что было полуправдой. Меня действительно очень интересовал великий итальянец, хотя к тому моменту я не видел ни одного его фильма, а все знания о нем почерпнул из великолепной книги Веры Шитовой.
Шитова (вместе с Инной Соловьёвой и Майей Туровской, лучшими критиками-шестидесятниками) была, может быть, еще в большей степени персоной нон грата во ВГИКе, чем неугодные режиссеры, но мне простили это невинное увлечение. Набиравший курс Сергей Васильевич Комаров, наверное, решил: парень молодой, неиспорченный, ну, случайно налетел не на ту книжку. С ним можно работать. Так я прорвался сквозь идеологические бастионы советской кинокритики, моим талисманом стал Висконти.
Вообще-то надежды на ВГИК не вполне оправдались. Классическую историю кино мы худо-бедно как-то изучили. А вот современное зарубежное киноискусство, не хочу обижать педагогов, преподавали там крайне поверхностно: в основном пересказывали содержание скандальных фильмов, запрещенных в СССР, и подвергали их критике с позиций марксизма-ленинизма.
Увидеть эти фильмы воочию и вынести свое суждение было совсем не просто. Однажды в институт привезли (очевидно, ворованную) копию «Крестного отца» Копполы – и ректор дал указание пускать на просмотр только педагогов! Студенты выстроились у входа в кинозал в надежде все же просочиться, но их оттеснили, а в образовавшийся коридор стали – под негодующими и презрительными взорами своих учеников – проходить преподаватели. Среди них – дама-киновед, предупреждавшая на своих лекциях, что «фильмы Бергмана смотреть стыдно, они неприличные». Какой-то иностранный студент забрался на подоконник и стал сверху снимать происходящее на видеокамеру – тогда это было еще далеко не вошедшее в быт техническое новшество. В конце концов кто-то умный убедил ректора все же пустить студентов, чтобы не доводить ситуацию до открытого бунта, и зал тут же заполнился до отказа.
Новые зарубежные фильмы привозили во ВГИК редко; обычно, чтобы посмотреть их, приходилось ехать в Госфильмофонд – в подмосковный поселок Белые Столбы, недалеко от моего Домодедова. Это было странное чувство. Ты выходишь из электрички, бредешь по унылой советской улице среди чахлых деревьев среднерусской полосы – и вдруг оказываешься в темном зале и с помощью волшебного луча кинопроектора попадаешь в американскую прерию, на неаполитанскую площадь или в аристократический французский замок. Перед тобой проходят и становятся близкими тебе чужие жизни, далекие страны, где, ты думаешь, никогда не побываешь, потому что еще не знаешь, что железный занавес падет.
Но жизнь все равно не прошла мимо: благодаря кино ты уже в этих странах побывал, уже прожил множество других жизней. Ограбил банк и переспал с Брижит Бардо – ну и что, если это был не ты, а киногерой, с которым ты на два часа отождествился.
И был день, что остался в моей памяти навсегда. Мы поехали в Белые Столбы, и нам показали три фильма 1960-х, из них по меньшей мере два революционизировали язык кино. «В прошлом году в Мариенбаде» Алена Рене, «8Ѕ» Феллини и – как прокладка между ними – «Полуночный ковбой» Джона Шлезингера. Это был невероятный эмоциональный удар, культурный шок. А вечером, чтобы окончательно «добить» себя, мы пошли в кинотеатр и посмотрели только что вышедшее «Зеркало» Андрея Тарковского – столь же революционный фильм 1970-х.
К концу обучения я уже знал – и не только по книгам – почти всего Висконти. О нем решил написать дипломную работу, он же стал героем моей кандидатской диссертации. Но надо было пересмотреть некоторые картины, а для этого требовалось разрешение ректора ВГИКа. Моя жена зашла к нему в кабинет, чтобы подписать заявку на просмотр в Госфильмофонд. Ректор взглянул на список («Гибель богов», «Смерть в Венеции», «Людвиг»), и его внимание привлекли «Туманные звезды Большой Медведицы». «Это югославский фильм?» – спросил доктор искусствоведения (видимо, спутав с юго-вестерном «Сыновья Большой Медведицы», хотя как он мог затесаться в список Висконти?). Жена, почуяв опасность, соврала: «Кажется, да».
Разрешение ректора было получено, и я поехал с подписанной бумагой в Белые Столбы. В просмотре «Людвига» мне все равно отказали. «Этот фильм вообще нельзя смотреть, – сказал ведущий сотрудник ГФФ, пронзая меня из-под очков строгим и как будто насмешливым взглядом следователя. – А „Гибель богов“ вы уже видели, ведь правда?» Кажется, он был хорошо информирован. Пришлось признаться, что видел, но… «Такое сложное кино надо смотреть не один раз», – лепетал я. К слову, шедевры позднего Висконти, как и многие другие фильмы, показывали на черно-белых (нелегально отпечатанных) контратипах. Я запомнил и полюбил их такими, и, когда позднее увидел «Гибель богов» в цвете, он показался мне лишним – верите или нет.
Спустя несколько лет тот же самый сотрудник Госфильмофонда позвонил мне по поводу моего письма с просьбой показать фильмы Пазолини для киноведческой работы, которой я был в то время занят. На письме поставил свою визу сам Филипп Ермаш, в то время министр кинематографии, но даже это не удовлетворило архивного «следователя», хотя с точки зрения субординации он должен был взять под козырек. Человек в очках сказал: «Вы сделали большую ошибку: включили в письмо один фильм, чего ни в коем случае нельзя было делать. И этим уже заинтересовались товарищи из одной организации». Какая организация имеется в виду, я сразу понял, а вот какой фильм, решил уточнить. Ответ превзошел все ожидания: «Не могу произнести это название по телефону. Да вы и сами знаете какой». Я не знал, но догадался: речь шла про «Сало, или 120 дней Содома». Рассказывали, что эта и еще с десятка три картин с перверсивным сексом хранились в Госфильмофонде в особом «моральном спецхране», куда ни одному киноведу не было доступа, даже тем официозным критикам, что ездили в те годы на западные фестивали и потом разоблачали в своих статьях «деградацию буржуазной идеологии и морали». Собственно, на основе таких заметок и формировался моральный спецхран, даже более запретный, чем политический. При этом ходили слухи, что фильмы, хранившиеся там, показывали рабочим, ремонтировавшим дачи крупных киночиновников, – как порнографию!
Лицемерие и двойная мораль были неотъемлемыми атрибутами советского образа жизни. Наверное, лучше всего эту тему иллюстрирует история отношений с Москвой знаменитого итальянского режиссера Бернардо Бертолуччи. Его фильм «Конформист» стал одним из тех мощных юношеских впечатлений, что определили мою дальнейшую судьбу, – и даже странно, что я еще не успел хотя бы упомянуть его раньше. Прошло время, на Московский фестиваль 1977 года Б.Б. привез свой пятичасовой фильм-гигант «Двадцатый век». На пресс-конференции Бертолуччи метал громы и молнии в адрес США, где прокатчики вы́резали из картины несколько эпизодов, усмотрев «слишком много красных знамен».
Однако, если бы гость был внимателен, он мог бы заметить, что «цензура» московской публики была направлена в ту же сторону: зрители впивались в экран в ключевых эротических сценах (тут Бертолуччи не было равных в мировом кино) и отсиживались в буфете, когда нагнетались эпизоды революционной борьбы – кстати, не менее вдохновенные.
У советских же властей были противоположные предпочтения. Бертолуччи попросил показать ему прокатную копию «Конформиста», неведомо как попавшего на советский экран.
Результат интуитивного эксперимента превзошел все ожидания. Официальные лица занервничали и повели автора в зал с явной неохотой. «Мы должны предупредить вас, – сказал один, – в Советском Союзе не существует такого явления, как гомосексуализм. Поэтому в прокатной версии купированы некоторые сцены». Бертолуччи насторожился. «Выпали также частично мотивы, связанные с лесбиянством», – продолжал журчать вкрадчивый голос. Режиссер уже догадался, что находится в стране чудес, и деликатно молчал. При входе в кинозал его огорошили сообщением о том, что порядок эпизодов слегка изменен – для удобства зрителей. Совсем убийственно прозвучало последнее предупреждение: фильм выпущен на черно-белой пленке. «Вот этого Бертолуччи уже не понял», – так завершался рассказ очевидцев этой истории. Услышав ее, Андрей Тарковский сказал: «Он все понял». Во всяком случае, итальянец Бертолуччи (бывший в ту пору коммунистом) больше не искал приключений в России и покидал ее в не самых оптимистических размышлениях. Именно тогда мы с ним и познакомились.
Мне, начинающему кинокритику, получить легальным путем интервью у знаменитого Б.Б. было нереально. Я подкараулил его сидящим на чемоданах в холле гостиницы «Россия» в день, когда фестиваль уже завершился и журналисты, потеряв к событию всякий интерес, сняли круглосуточную осаду отеля. Из «Шереметьево» сообщили, что рейс на Рим задерживается. Делать гостю было нечего, мы пошли в бар и проговорили два часа обо всем на свете.
С гостиницей «Россия», где проходил в те годы Московский кинофестиваль, у меня связано много воспоминаний. Самое смешное датировано 1979 годом, когда в концертном зале «России» состоялась советская премьера фильма Фрэнсиса Форда Копполы «Апокалипсис наших дней» (мировая пару месяцев назад с триумфом прошла в Каннах). Из-за технических проблем (проекция фильма требовала особой аппаратуры) вечерний просмотр задержали часа на три, и закончился он глубокой ночью.
Утром пришлось опять мчаться в гостиницу. Чтобы проснуться после двух часов сна, я взял в баре кофе и стакан апельсинового сока и вышел со всем этим делом к балюстраде над входным холлом. На правом плече у меня висела сумка, она предательски соскользнула – я сделал судорожный жест рукой, чтобы удержать стакан с соком, но капли, взметнувшись, полетели вниз с балкона. В это время прямо подо мной проходил Коппола с кинокритиком газеты «Правда» Георгием Капраловым, который расспрашивал режиссера про новый финал «Апокалипсиса». Я похолодел, облитый Коппола с удивлением взглянул вверх.
Отель «Россия» занимал целый квартал в центре Москвы, где легко было заблудиться. По сути, это был отдельный город – с магазинами, кафе, ресторанами, парикмахерскими и кинотеатрами; тут можно было жить, неделями не выходя вовне. При этом сами номера – кроме специальных «люксов» – были крошечные, потолки низкие, кондиционеров не было, летом там стояла страшная духота.
В один из его приездов на Московский фестиваль я встретился в «России» со своим другом Иштваном Сабо. Мы вышли на улицу, и он рассказал, как его замучили в номере small animals (мы говорили по-английски). Речь шла о тараканах. «Это стыдно для такой великой страны», – сказал Иштван, и мне как ее представителю тоже стало стыдно. Этот разговор поставил последнюю точку в сюжете, который связывал нас с Иштваном: оба мы были уроженцами почившей Австро-Венгрии, оба оказались свидетелями блеска и нищеты советской империи. Вскоре империя развалилась, а гостиница «Россия» как один из ее символов была снесена с лица земли. Сейчас там разбит большой парк.
В прошлом году в Белых Столбах
Мне октября знакома комбинация:
чахоточный в очах природы блеск,
опутанная проводами станция,
просвеченный дневным рентгеном лес.
Дорога распирает зыбь осеннюю,
ты вместе с ней войдешь в который раз
в квадрат экрана, населенный тенями:
у каждой своей объем и свой окрас.
И каждой жить во времени, которого
отпущено лишь полтора часа.
Но мало жизни для кинематографа,
и девственны окрестные леса.
Гуляют тени в нежном микроклимате
пустых мариенбадских анфилад.
Как будто бы осины опрокинуты
зеркальной силой бликов и прохлад.
И томный взгляд аристократа-зрителя
становится осмыслен, как стрела.
Как будто бы строка путеводителя
француза в Подмосковье привела.
Обратный путь проделаем до станции
сквозь тьму времен и почерневший лес.
Сюда не стоит ездить с иностранцами
в кинематографический ликбез.
Оставьте нам простительную манию
теряться в этих дебрях серебра
и отдаваться играм подсознания,
не доверяя проискам добра.