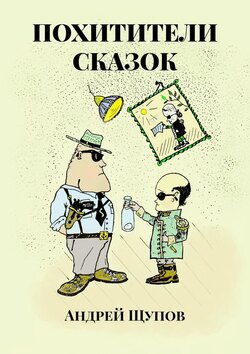Читать книгу ПОХИТИТЕЛИ СКАЗОК - Андрей Щупов - Страница 2
ПОХИТИТЕЛИ СКАЗОК
Оглавление«Человек без чувства юмора полностью безоружен. Для жизни это кошмарно, а для меня такой человек – практически калека».
Пьер Ришар
Притулив папку с бумагами на голых коленках, я терпеливо выводил чернилами строку за строкой. Занятие – более чем странное, но вот уже полвека любителям компьютеров был объявлен бойкот. Организаторы выставок отказывались принимать фотографии и картины, изготовленные цифровым способом, а издатели упорно игнорировали тексты, сработанные на компьютерах. Может, в чем-то они были правы, хотя лично мне прогресс всегда нравился. Согласитесь, тот же суп удобнее хлебать пневмоподсосом, нежели примитивной ложкой, а обучаться приятнее во сне, как и выступать с трибун исключительно виртуальных, дабы не получить за сказанное вполне реальных тумаков. Я и рыбачить предпочитаю исключительно в ночное время, заранее настраивая индуктор на ловлю щук, акул и гигантских кальмаров. Тем не менее, тоска по древним архаизмам, нет-нет, да и дает о себе знать. Вот и мне, детективу с двухлетним стажем, иными словами – человеку исключительно мирной профессии, смерть, как хотелось писать. Разумеется, о себе, о своих приключениях, о верных друзьях и непримиримых врагах. Я читал, как пишут об этом другие сочинители, и, чего греха таить, многим из них смертельно завидовал. Конечно, они врали, но ведь читалось-то взахлеб! Когда-то и кем-то. Сегодня читатели, понятно, перевелись, но ведь было времечко!
Если честно, работа частного детектива скучна и монотонна, но тем сильнее мечталось сочинить что-нибудь этакое, чтобы хоть на кроху проникнуться к профессии сыскаря должным уважением. Словом, я писал. Мозолил пальцы и вовсю напрягал голову.
«Итак, я был голубоглазый блондин роста весьма немалого, а именно – шести футов и…» – на минуту задумавшись, я прикинул, какой рост по нынешним критериям – весьма немалый и вместе с тем – устрашающий и привлекательный. Ни к чему так и не придя, вывел наугад: «семи дюймов. Стальные бицепсы, трицепсы, а также плечелучевые мышцы украшали мои довольно рослые руки. Орлиный нос наделял загадочностью мой профиль. А поджарый живот…» – я опять задумался, потому что живот, пусть даже самый поджарый, украсить мог только живот, но никак не грудь и не ноги. Чего греха таить, писать было трудно. Прямо зверски и адски. Под темечком у меня гремели бодрящие песни, успокаивающе тикал встроенный таймер, специальный чип начинал уже перегреваться, дозу за дозой впрыскивая в кровь стремительно убывающие эндорфины, серотонины и еще около десятка разнообразных гормонов счастья. Но всего этого было мало, я продолжал мучиться, путаясь в словесных оборотах, словно младенец в средневековых простынках.
«Поджарый живот» застрял в голове подобием занозы, и все же, совершив над собой усилие, я кое-как выкрутился из положения:
«..а мой поджарый мускулистый живот в дополнении к ухмылке полярного волка приводил в трепет всех жаждущих взглянуть на них средь бела дня и ночи».
Облегченно выдохнув, я посмотрел на написанное и заменил финальную точку на восклицательный знак. Именно этот знак был моим любимым. Если честно я бы только его и ставил повсюду, а запятые с точками и двоеточиями попросту запретил как заведомо ненужные. Рука моя дерзко продолжала:
«И это было правильно! Поскольку я защищал закон и порядок! А они – то есть те, что были по другую сторону баррикад и окопов – как раз защищали то, что сеяло зло. Грязненько и ехидно ухмыляясь, они трепетно лелеяли мечту стереть наш мир с лица земли, заставив всех трудиться в поте лица своего и во благо их гнусных мыслей…» Два раза повторялось слово «лица», но я не мог уже остановиться. Вдохновение несло и крутило меня в лексических водоворотах…
«Именно по этой простой причине – даже в свободное от работы время я продолжал охоту, время от времени закуривая ароматные сигары и в окрестных барах танцуя с тамошними цыпочками. У последних я исподволь и ненавязчиво выведывал информацию о местных правонарушителях. В сущности, при моем гигантском опыте это было не столь уж сложно. Следовало только вовремя подливать в их богемского хрусталя граненые бокалы двойную порцию виски и обаятельнейшим образом улыбаться…»
Сделав паузу, я взглянул на себя в зеркало и, с силой растянув губы, попробовал изобразить искомую улыбку. Зеркало меня чуточку напугало, и я поспешно вернулся глазами к строкам…
«Ну, а между танцами я сидел в резном кресле времен династии Дзинь-Дзюнь и, забросив левую ногу поверх правой коленки, цедил роскошный двойной скотч. При этом я ни на секунду не забывал о своей миссии, с усмешкой наблюдая за готовящимися справа и слева от меня кознями…»
Гмм… Забавное такое слово – козни. Знать бы еще – что оно в точности означает. Кто их столько навыдумывал – эти слова… Но я так понимал, что для того и существовали сыскные агентства, чтобы заниматься разгадкой зловещих ребусов под названием «козни», поскольку именно они затеваются против честных граждан. Ну, а далее все как правило заканчивается для злодеев плачевно. Я даже придумал соответствующий эпиграф: «Любишь козни, готовься к казни». Неплохо, да? Кстати, я вполне допускал, что «козни» и «казни» некогда были вполне однокоренными. Это уж потом все в мире настолько перемешалось, что и самые бородатые филологи путались в расшифровке подобной терминологии…
Я вновь принялся за письмо.
«Должно быть, некие флюиды правды, в самом деле, истекали от моего гордого чела, потому что подобно железным опилкам ко мне, как к могучему магниту, притягивались силы зла. Один за другим справа и слева к моему столику подбредали мрачные типы и, сплевывая на пол едкими плевками, сипло спрашивали у меня закурить. Конечно, это был всего лишь повод, и, не дожидаясь, когда мне плюнут на отутюженную брючину, я бодро вставал и отвешивал им сдачи.
Отвешивал – и сдачи… Я призадумался. Даже моя феноменальная память начинала временами давать сбои. Я точно помнил, что в драках былые герои непременно друг другу что-то отвешивали и навешивали. А еще они при этом постоянно давали сдачи, после чего происходило нечто, ведущее либо к чудовищным синякам, либо к кровопролитию. Но лишней крови я тоже не хотел! Надо было как-то обосновать свою готовность к регулярной сдаче и загадочному отвешиванию. Поэтому я терпеливо записал:
«Нет, правда! Я же видел, как они ухмылялись за моим затылком! При этом я никогда не начинал первым! Они сами лезли, а я, вежливо отслонялся, пытаясь до последнего избегать грязного побоища. Но из моих благих пожеланий ничего не выходило. Они липли на меня, как мухи на мед, как железные опилки на…»
Тьфу, ты! Опять полезли опилки, и я решительно зачеркнул повтор.
«С обломками мебели они заходили со всех сторон, зловеще кривясь и продолжая сплевывать. Это было очень некрасиво! Они заплевали все пространство, в котором еще минуту назад я отдыхал телом и душой. И вот тогда я напрягал свои мышцы и прыгал. С легкой улыбкой на тонких, не лишенных изящества губах, я падал в гущу плюющихся врагов, отвешивая кулаками искомую сдачу направо и налево. И это было страшно, потому что действовало безотказно. Враги рассыпались по углам, как гнилой горох, как жалкое крошево от чипсов, как бильярдные шары. Схватка выходила отменная. Но когда умолкала музыка и против меня выходило сразу человек этак…»
Я шумно выдохнул, выбирая между желанием поскромничать и соблазном приукрасить, но, в конце концов, избрал среднюю арифметическую величину, вписав в рукопись «с дюжину», что звучало вполне литературно. – «И вот тогда вашему покорному слуге приходилось несладко. Ног и рук для сдачи просто не хватало, и, приходилось выхватывать из-за пояса свой любимый шестизарядный револьвер системы «Холмс энд Ватсон. Грохотал гром, и я в мгновение ока укладывал всех противников на заплеванный ими же пол…»
Я крякнул. Опять получалась некоторая нестыковка. Пол заплеван – это как раз логично, но как быть с шестью зарядами против дюжины злодеев?.. Я догрыз бедное перо, и оно распалось на две половинки. Действительно, опять выходило не то. Уже больше недели я писал главный роман своей жизни, а мне начинало казаться, что я работаю над ним уже долгие годы. Воистину труд писательский был мне не по силам!
Покусывая губу, я отложил папку с исписанными листами, устало похлопал себя по поджарому животу. Грудь у меня, тоже была поджарой, а вот бицепсы… Я внимательно оглядел свои руки и сумрачно вздохнул. Бицепсы у меня тоже, верно, относились к категории поджарых. Впрочем, не подумайте обо мне совсем плохо. Бегать я умел весьма прилично. Это признавали все в нашем отделе, и если другие отличались в компьютерных ралли или забегах виртуального свойства, я, к сведению некоторых, пару раз участвовал в настоящих эстафетах, выходя на дорожки вполне реальных стадионов. К сожалению, успех в эстафетах не решал главной проблемы, а потому в свободное от работы время я страдал – и страдал вполне искренне.
Нет, ребятки, двадцать первый век – это вам не шутка. Начинался-то он дымно и весело, – тут вам и тотальное чипирование, и удалое освоение планет, и внедрение нанопротекторов, роботы-андроиды на каждом шагу, а потом… Потом человечество скисло. Все равно как стайер на последнем круге. Верно говорят, двадцать один год – переломный возраст для людей. Нечто подобное, вероятно, испытывала и наша перенаселенная планета. Согласитесь, одно дело – наблюдать ренессансы и освоение новых земель, крестовые походы с запада на восток и с востока на запад, и совсем другое – созерцать унылое благополучие обленившегося человечества. Разве не скучно? Еще как! А уж потом – поначалу робко, а после и во весь голос последние из уцелевших педагогов начали вопить, что человечество стремительно деградирует. И честное слово! – мне следовало родиться значительно раньше – лет этак на сто или двести. Тогда, может, и не пришлось бы писать про самого себя романы. Но кто же знал, ребятки? Падаем-то все, а чтобы соломки подстелить – об этом вспоминаем, лишь крепко ударившись…
Я достал из стаканчика новенький карандаш, и в этот момент вызов материализовался прямо в кармане моего халата. Одновременно пискнул в углу подаренный шефом дистанционный куратор. А ведь я только-только вкусил курортной свободы, преисполнившись решимости довести свой первый детективный роман до конца. Но, увы, мне снова напомнили о треклятой работе. Шеф был в своем амплуа. Еще один минус нашего времени. С некоторых пор телефоны пихали куда только можно – в часики, сережки и клипсы, а то и вовсе прямо в головы в виде миниатюрных чипов. То же самое происходило и с письмами, – они беспрепятственно проникали в карманы курток и халатов, а то и вовсе вспыхивали голографическими видениями перед глазами в самую неподходящую минуту. От этого было невозможно спрятаться, от этого трудно было отмахнуться. Общество стало чудовищной мелкоячеистой сетью, в коей и билось-трепетало попискивающее рациями, телефонами и прочими дивайсами человечество.
Не переодеваясь и не утруждая себя лишними сборами, я спроецировался через репликатор прямо в кабинет НОРа – начальника отдела расследований, моего шефа и моего безраздельного хозяина. Приветственно помахав рукой, я плюхнулся в низенькое кресло и, подражая герою своего романа, забросил ногу на ногу. С удовольствием закинул бы ноги и на стол шефа, но это было бы явным перебором. А потому я ограничился тем, что шумно и не без вызова прокашлялся, оттопыренным мизинцем потерев сначала кончик носа, а потом и затылок. Шефу ничего не оставалось, кроме как, полюбовавшись моим курортным видом, в свою очередь свирепо потереть огромную, покрытую седым ежиком голову.
– Привет, – пробурчал он. – Неплохо выглядишь.
– Мерси, – скромно поблагодарил я.
– Ну, а для тех кто неплохо выглядит, у меня всегда отыщется заковыристое дельце. Так вот, Шерли, слушай меня внимательно!..
Видали?.. Вот так плюнут в душу – и не заметят. Мало того, что сказано это было совсем неласково, вдобавок ко всему и имя мое в очередной раз переврали. Шерли меня звали месяца четыре назад. Шерли Холмсон. С тех пор я успел сменить три имени, которые шеф беспрестанно путал, чем раздражал меня до чрезвычайности. Может быть, шеф и запамятовал мое нынешнее имя, но я-то все свои имена помнил прекрасно. Мегре Хил, Шерли Холмсон, Арчи Голдвин… Впрочем, неважно. Куда важнее было то, что шеф упорно игнорировал мое исконное право выбирать себе имя по вкусу.
– Джеймс, – угрюмо поправил я. – Джеймс Бондер.
– Ах, да, – НОР поморщился, словно на его глазах я лизнул дольку лимона. Прости, Джеймс. Понимаешь, эти Бендеры, Бондеры, Шмондеры… Ну, не у всех такая феноменальная память, как у тебя.
Насчет памяти он не врал. Я и впрямь умел запоминать любую чепуху. Мог только раз взглянуть на человека, а после назвать точное количество прыщей и веснушек, описать каким узлом завязаны шнурки и сколько ниток к какой брючине прилипло. Словом, тут НОР ничуть не преувеличивал. Хотя и здесь я ощутил непонятный подвох. На всякий случай я счел за лучшее промолчать.
– Конечно, – прогнусавил он, – нашей конституцией честным гражданам гарантирована свобода имен и фамилий, но… – он хмуро покосился на мой халат и, потерев переносицу, проворчал. – Что у тебя под мышкой? Опять двуствольный «Магнум»?
Я покраснел. Дело в том, что, по моему мнению, настоящий сыщик не должен никогда расставаться с оружием. Даже в ванной и даже на пляже. Дома у меня хранилась целая коллекция кинжалов и пистолетов. Понятно, что долбили они исключительно шумовыми патронами, но разве в этом дело? Мужчина, если он мужчина, обязан любить оружие, и на каждое задание я тщательно подбирал что-нибудь новенькое. Для меня это было почти святым, но мой шеф!.. Мой шеф этого абсолютно не понимал! В чем-то мы были союзниками, а в чем-то полнейшими антиподами.
Скрежетнув зубами, я процедил:
– Всего-навсего «Парабеллум».
– Так я и думал. В халате и с «Парабеллумом». Замечательно! – он всплеснул своими маленькими ручками, словно собирался поаплодировать. – Впрочем, могу тебя успокоить: с теперешней задачей ты справишься без оружия.
– Помнится, вы говорили это и в прошлый раз.
– Разве я не оказался прав?
В ответ я только издал невнятное мычание. Логика моего начальника порой доводила меня до белого каления.
– Ладно, ладно… – шеф кивнул на листок у самого края стола. – Ознакомься. Имена и прочие данные так называемых жертв.
– Так называемых?
– Вот именно, – шеф слез со своего плюшевого трона и, враз превратившись в низенького человечка с необычайно большой головой, прошелся-прокатился этаким колобком по кабинету. – Дело достаточно деликатное. Кроме того… – он остановился и пристально оглядел меня, – им должен заниматься человек, хоть что-то смыслящий в искусстве.
Не так уж часто шеф одаривает нас комплиментами, поэтому вполне объяснимо, что я ощутил прилив горделивой застенчивости. Вместе с тем я постарался изобразить на лице скромное удивление. Шеф огорченно кивнул.
– Верно, ты тоже в нем ни черта не смыслишь. Но выбирать не приходится. Твой сменщик надумал справлять именины на спутниках Сатурна, мой первый зам раскручивает бухгалтерскую недостачу на Арктическом побережье. Ни у того, ни у другого – ни слуха, ни голоса, а ты, я заметил, частенько насвистываешь какие-то куплетики. И голос у тебя громкий… Кстати, приготовься! Возможно, придется влезать в тайну личности.
– Ну, уж нет! – я решительно отодвинул от себя листок. – Это похуже змеиного яда. Если хотите нажить врагов, лучший способ – покопаться в чужом белье.
– Я же сказал – возможно. Так что – глядишь, и пронесет.
– Пронесет, это точно, – пробубнил я.
– Не ворчи, Бондер, тебе это не идет. Впрочем… – НОР плотоядно улыбнулся. – Ты ведь все равно запомнил информацию?
Он неспешно упрятал листок в стол. Тут он снова угодил в яблочко. Способность запоминать все с первого прочтения иногда здорово подводит. Все восемь «так называемых» жертв оказались надежно впечатанными в мой мозг, а стало быть, снизились шансы отвертеться от дела. Меня уже ПОДКЛЮЧИЛИ.
– Итак, один небезызвестный художник внезапно разучился рисовать картины…
– Писать, – машинально поправил я. – Корабли ходят, картины пишут.
– Да? – шеф с подозрением посмотрел на меня. – Гмм… Хорошо, возможно, и так. Так вот, по прошествии энного времени он надумал обратиться в одно из наших агентств…
– Разумнее было бы обратиться к врачу.
– Не волнуйся, он побывал и у врача. Но позже все-таки обратился к нам. Заметь, художник, человек искусства, – и к нам! Случай, безусловно, редкий, и естественно, мы оказали ему повышенное внимание. Так вот… В присутствии наших людей художник попытался для примера что-нибудь нарисовать или написать, но вышло у него все равно как курица лапой. Даже наши пинкертоны это разглядели. А до этого он был знаменитостью, соображаешь? Создавал монументальные полотна. Скалы рисовал, ящерок каких-то палеозойских, пальмы с дворцами… А теперь вдруг разучился.
Я недоуменно приподнял брови.
– Вот-вот! Выглядит первоапрельской нелепицей, но вся беда в том, что верить этому художнику можно. Словом, дело поставили на контроль, переслав выше, то есть – нам. А вернее, к тебе.
– Я буду учить его рисовать?
– Не ерничай, – шеф заложил руки за спину и косолапо прошелся по кабинету. – Дельце, конечно, странное, если не сказать больше, но… Случайно мне пришла в голову мысль запросить полную статистику происшествий. Заметь, – полную! Включая медицину и так далее. Представь себе, оказалось…
– Что с подобным недугом, но только не к нам, а к медикам обращались другие знаменитости. Те самые, что указаны в вашем списке, – я по памяти перечислил всех восьмерых.
– Верно, – шеф удовлетворенно хмыкнул. – После чего мне пришлось чуточку сократить твой отпуск. А теперь, когда ты все знаешь, – последнее… Постарайся работать в основном через художника. Все-таки он сам обратился в наше ведомство. Единственный из пострадавших. Жетон допуска у тебя, конечно, имеется, но тайна личности – это тайна личности, сам понимаешь. Так что держись от информаториев подальше. Держи связь и сообщай обо всем, что заслуживает внимания. Дело может оказаться серьезным.
– Инопланетный удар по земным гениям?
Шеф кисло улыбнулся. Мои шутки ему определенно не нравились. Я думаю, у него отсутствовало чувство юмора.
– Что ж… Кажется, мне пора? – я вежливо приподнялся.
– Подожди, – шеф приблизился к столу и неторопливо извлек пустую бутылку и яйцо. Судя по всему – обыкновенное куриное, может быть, даже сваренное вкрутую.
– Ты можешь заставить заскочить яйцо в бутылку? – НОР пытливо посмотрел на меня и, не дожидаясь ответа, начал с сопением очищать яйцо от скорлупы. Оно и впрямь оказалось сваренным, дедукция меня не подвела. Очистив яйцо, шеф зажег клочок бумаги и кинул в бутылку. Влажно поблескивающее яйцо положил поверх горлышка. Хлопок, и яйцо шмякнулось на дно бутылки.
– Видал-миндал?
– Так это без скорлупы, – самоуверенно заявил я.
Молча забравшись в свое троноподобное кресло и снова став великаном, шеф отодвинул бутылку и, разложив на столе локти, с грустью воззрился на одного из лучших своих агентов. Глаза его глядели с глубокой укоризной. Черт возьми! Я мысленно разволновался. Ну, разве можно пререкаться с начальством? Тем более – с НОРами, у которых по уставу во лбу должно насчитываться не менее двух пядей. У моего НОРа их было куда больше! Поэтому я виновато потупил взор и принялся усиленно соображать. Никогда и ничего шеф не делал просто так. Он давал мне ключ, подсказку, а я ничего не видел.
– Вот теперь можешь идти, – шеф устало вздохнул. – И учти, яйцо можно заставить и выскочить из бутылки.
Я тупо кивнул. Действительно, почему бы и нет?
***
Сменив «Парабеллум» на плоскую и менее заметную «Беретту», а халат на строгий костюм-тройку, я долго озирал себя в зеркале. Чинный, серьезный господин…
Поработав немного над мимикой, я остался доволен. Поскольку внешность штука капризная и зыбкая, на цыпочках отошел в сторону. Дабы не расплескать слепленную мимическими мышцами гримасу. Что поделать, я отправлялся к людям в некотором роде загадочным, не укладывающимся в известные характеристические каноны. Возможно, мне следовало одеть фрак и прихватить тросточку, но я боялся переборщить. Общеизвестно, что люди искусства ненормальны. Все поголовно. Хотя возможно, что загвоздка кроется в точке отсчета. Никто не знает, что такое норма. Даже мой шеф. Может, и славно, что не знают…
Продолжая размышлять о человеческих нормах, о курьезах внешности и всей нашей парфюмерной костюмерии, как особо изощренной и законом не наказуемой форме обмана, я сунул в карман жетон допуска и, помешкав, добавил к нему музыкальный кристалл. Помнится, один из восьмерых значился композитором, и не ознакомиться предварительно с его творчеством было непростительной оплошностью. Увы, шеф был не так уж далек от истины, высказываясь о моей компетентности в искусстве. Насвистывать я действительно любил, но свист и мелодия не всегда знаменуют одно и то же.
В кабинке репликатора, снабженной круглым, почти карманным зеркальцем, я еще раз заглянул серьезному господину в нахальные глазки и сколь мог постарался напустить в них глубины и ума, после чего, стыдливо отвернувшись, набрал на пульте реквизиты жертвы номер один, а именно – нашего небезызвестного художника. Пульт заговорщицки подмигнул огоньками, и через секунду я уже стоял посреди огромной квартиры.
Объяснюсь сразу: слово «огромный» было вовсе не преувеличением. Куда более нелепым казалось именовать это обширное пространство квартирой. Для данного помещения, вероятно, имелись другие подходящие наименования. Например, стадион, театр, колизей… Во всяком случае, каждая из комнат этой квартирки ничуть не уступала по размерам какой-нибудь молодежной танцплощадке. Пословицы «в тесноте, да не в обиде» мой художник, должно быть, никогда не слышал. Впрочем, уже через пару минут я сообразил, что наличие столь великого объема диктовалось жестокой необходимостью. В иное помещение стоящие тут и там, в специальных станках и просто у стен, гигантские полотна попросту бы не влезли. Пустые, ослепляющие первозданной белизной и чем-то непоправимо замазанные, они гнули своим весом золоченый багет, и я нисколько не удивился, рассмотрев блочные механизмы, струной натянутые тросы и напряженные стрелы автокранов.
Шеф упомянул в разговоре о монументализме. Теперь я, по крайней мере, знал, что это такое. Чтобы угадать изображенное на картинах, нужен был разбег – да еще какой! Я решил про себя, что выставки подобных картин должны проводиться на равнинах вроде Западно-Европейской или в пустынях вроде Гоби, Каракумов, Айдахо… Ничего не попишешь, великих всегда тянуло в крайности. Кто-то, очертя голову, бросался выкладывать из валунов свой профиль на гигантском плато, а кто-то с остервенением вырезал собственное имя на человеческом волосе или выпиливал из фанеры микроба в натуральный размер…
Художника я нашел в гостиной перед жарко пылающим камином. В ярком пламени скручивались и догорали какие-то эскизы. Естественно, камин напоминал размерами мартен, но гигантизм меня более не пугал. К некоторым из чудачеств иммунитет приобретается быстро. Кроме того меня крайне заинтриговала процедура сожжения картин. Багровея от натуги, художник разрывал цветастые холсты на части и трагическими взмахами швырял в огонь. Сомневаюсь, что таким образом он хотел согреться. Вероятно, все мы в глубине души – немножечко разрушители. Как известно, сжигать – не строить. А тем более – не живописать.
– Я по поводу вашего заявления, – деликатно откашлявшись, сообщил я.
Художник повел в мою сторону рассеянным взором. Странно, но выражение его лица совершенно не соответствовало драматичности момента. Он словно и не рвал свои творения, – так, прибирал мастерскую от ненужного хлама.
– А-а… Очень кстати, – удивленно проговорил он. – Впрочем, весьма рад. Присаживайтесь, пожалуйста. Чего уж теперь-то…
Признаюсь, я запутался в этом человеке с первого захода, заблудился, как в трех соснах. Его слова, интонация в совокупности с манерой поведения моментально сбивали с толку. Вот вам и гений! Поймите такого! Содержимое его фраз не соответствовало содержимому мыслей, ну а мысли шагали вразброд, то и дело обгоняемые сердцем, интуицией и всем, чему не лень было двигаться в его внутреннем царстве-государстве.
Выжав из себя улыбку, я с видимой робостью пристроился на скрипучий стул, который немедленно пополз куда-то вбок. Взмахнув руками, словно птица, я едва успел подскочить. Художник невозмутимо сграбастал обломки стула и со словами «грехи предков – нам замаливать» скормил все тому же камину.
– Итак, отдел расследований, если не ошибаюсь? – он наморщил тощенький лоб. – Что-то я читал про вас. Изрядно похабное, – он весело гоготнул, но тут же нахмурился. – Скверная статейка. Потуги графомана, плод измышлений бездаря. Но темы затрагивались серьезные. Я бы, признаться, не замахнулся. Честное-благородное! Впрочем… Возможно, это была обыкновенная реклама. Да, да! Дешевенькая реклама. И вы здесь совершенно ни причем. Хотя и могли бы приструнить. Потому что кое-кого не мешало бы, – он переломил о колено одну из багетин и, метнув в огонь, приставил ладонь ко лбу, как сталевар на фресках минувшего века.
– А может, простить? – он глянул на меня вопросительно. Только-то и есть добрых дел на Земле, что любовь и прощение. Два маленьких слова против пудового словаря грехов. Кстати, не вы его сочинили?
Я ошалело кивнул. И тут же замотал головой. Возможно, я подсознательно начинал перенимать его стиль, и сами собой, откуда ни возьмись, в голове запрыгали несуразные фразы. Хлорофилл – это жизнь вприщур… Витамин Д спасёт от рахита, но не спасет от колес… Генная доминанта растит мышцы и убивает пророков… Одним из этих генов был, по-видимому, я. То есть, не был, а стал… Ешкин кот! Я потер пальцами виски и, припомнив, зачем пришел, неуверенно открыл рот:
– Я, собственно… – слова неожиданно выпрыгнули из головы и предательской гурьбой разбежались по кустам. И было – с чего. Огромные глаза художника смотрели на меня с лютой свирепостью. Что-то вновь приключилось с ним. А точнее, с его настроением. Ох, не драли его ремнем в детстве! Или наоборот – драли слишком много.
Я молчал, а сбоку гудел и потрескивал зловещий камин. Ситуация становилась все более двусмысленной. Чем бы это завершилось, не знаю, но во взгляде художника в очередной раз произошла революционная перемена, – водруженным на сковороду айсбергом строгость потекла и растаяла. Теперь он смотрел на меня, как смотрят на своего дитятю нежнейшие из родителей. Я полез за платком, чтобы утереть с лица пот. Этот гений был абсолютно непредсказуем!
– Так на чем мы остановились? – ласково спросил он.
Я снова прокашлялся. Настолько гулко, что прокатившееся между стен эхо напугало меня самого. На далеком чердаке что-то скрежещуще опрокинулось.
– Простите…
Художник протянул руку и участливо похлопал меня по спине.
– Наверное, пища не в то горло попала, – пояснил он. – Такое бывает…
«Маразм!» – сверкнуло в моем мозгу. «Неужели они все такие?!» Я по-прежнему не забывал, что впереди у меня семь кандидатов, а значит, еще семь подобных встреч.
– Да! – всполошился художник. – Я ведь давно обещал вам показать. Узнать мнение свежего человека всегда бывает интересно. Вот, взгляните, – он сунул мне под нос пару листов, исчерканных рожицами и нелепыми фигурками. – Неплохо, да?
– Неплохо? – я нервно рассмеялся. Да, да, рассмеялся! И не спешите осуждать меня. Этот тип меня просто доконал. Боже мой! Только сейчас я понял, как, оказывается, люблю обычных людей! Самых что ни на есть ординарных, простоватых, пусть даже без царя в голове. Здравый ум подсказывал, что смеяться в данном случае – грех, но я не мог остановиться. Мне следовало изобразить скорбь, хоть какое-нибудь сочувствие, но у нервов своя жизнь, своя политика. Глядя на эту мазню, я хохотал все громче и громче. Самое интересное, что вместе со мной начал потихоньку смеяться и художник. Лицо его сияло, он энергично потирал руки.
– Здорово, да? Рад, что вам понравилось.
От подобных его изречений впору было свалиться и не вставать вовсе, но титаническим усилием я все же сумел с собой справиться. Как-никак я был сыщиком, агентом отдела расследований.
– Ммм… В общем, да… Но раньше, если мне не изменяет память, вы трудились в ином стиле?
– Увы, – он досадливо крякнул. – Когда-то я писал большие картины.
– Даже очень большие…
– И не говорите! Стыдно вспоминать. Цистернами краску изводил! Кисть двумя руками поднимал. Зато теперь – другое дело!.. Поймите, сейчас так никто уже не рисует! Никто в целом мире! Перед нами нехоженая тропка. В некотором смысле – заповедник.
– То есть?
Он нетерпеливо зажестикулировал. Надо признать, жестикуляция у него оказалась выразительнее слов.
– Согласен! Меня можно критиковать, можно поносить и втаптывать в грязь. Есть еще недочетики, есть отдельные неудачки, но в целом… В целом это должно производить впечатление! Непременно! Потому что классицизм умер. Он набил оскомину, перебродил, как старое вино, и вышел в отставку. Его уже не хочется пить, понимаете? – художник ударил меня указательным пальцем в грудь. – Вот хотя бы вы! Скажите нам всем честно и откровенно: хочется или не хочется? Пить старый перекисший квас?
– В известном смысле… То есть, вероятно, не совсем… – я осторожно пожал плечами и сморгнул.
– Вот видите! И вам не хочется! Оно и понятно. Регресс – это регресс, а эволюция – само собой, правит бал. Большие картины писали и пишут тысячи мастеров. Миллионы! Это конвейер, понимаете? А истинное искусство не терпит конвейеров. Оно – штучно, оно обязано быть оригинальным. Иначе бесконечные людские колонны будут проходить мимо и мимо, а глаз не будет задерживаться.
– Да, но вы сами обратились к нам. Мы вынуждены были заняться вашим делом…
– Согласен! – фальцетом выкрикнул художник. В глазах его заблестели святые слезы. – Долг не всегда трактуется правильно. И я тоже совершаю порой ошибку! Но когда?! Когда я это сделал?
– Судя по дате заявления…
– Чушь! Я совершил это в час малодушия, в секунду позорного отступления! Но разве за это судят? В конце концов, я прозрел, разве не так? – он схватил меня за руку, горячо зашептал: – Сама судьба вмешалась в мою жизнь. Я был одним из многих. Теперь я – одинокий крейсер в океане. Яхточка среди волн.
– Я бы сказал – ледокол среди льдин.
– Именно! – воскликнул он.
Кажется, я начинал угадывать верный тон.
– Но ведь это непросто! Решиться и изменить все разом.
– Не то слово, мой дорогой! Чудовищно непросто!
Я покачал головой и с силой наморщил лоб.
– Но как? Как вам это удалось это?! Чтобы вот так – взломать и вырваться?
– О, если бы сам я знал, дьявол меня забери! – заблажил он дурным голосом. – Я же говорю: это рок, судьба, лотерея! Что тут можно еще сказать?
Сказать тут и впрямь было нечего, а перекричать художника было еще сложнее, но я честно постарался это сделать.
– И все-таки – как?! Умоляю, скажите!
– Я расскажу. Вам! – подчеркнул он, – я расскажу все!
Сумасшедшие глаза излучали преданность и обожание, а указательный палец клювом дятла долбил и долбил в мою грудь.
– Только вам и никому более!
– Разумеется, никому!
Художник пересел на диван, закинув ногу на ногу, разбросал словно крылья свои длиннопалые руки.
– Вы знаете, конечно, как обучают в современных школах. Психотесты и профориентация с младенческих лет, гипновнушение, ускоренное развитие биомоторики. Уже в три года ребенок способен в минуту перерисовать фотопортрет. Дальше – хуже, он учиться выписывать светотени, распознает семь тысяч цветовых оттенков. Рисовать становится просто невозможно! И поэтому повторяю: ТАК сейчас никто не рисует. Это первичное изображение окружающего. Рука и глаз пещерного человека! Хомо новус!.. – художник достал маленький исчерканный вдоль и поперек календарик и нервно помахал им в воздухе. – Вот он! Этот магический и светлый день!.. Все началось сразу по приезду в Знойный, пару недель тому назад. Я тогда забегался со всеми этими подъемниками и автокранами, устраивал выставку, и лишь позже заметил, что за целый день не сделал ни одного эскиза. Понимаете, ни штришка!
– Но вы были заняты…
– Чепуха! – художник притопнул ногой. – Даже на том свете, в адском котле я буду черкаться в своем блокноте. И не смейте сомневаться в этом! Настоящего художника не способны отвлечь жизненные пустяки. День без карандаша и кисти – это нонсенс!
– Согласен…
– Словом, я тут же ринулся в мастерскую и сел за холст. И вот… Я вдруг понял, что разучился рисовать. Совершенно! Вы не поверите, но это фантастическое ощущение! Я словно потерял в себе что-то объемное и привычное. Пестрый пласт навыков… Можете себе представить, что я тогда пережил. Кое-как довел злосчастную выставку до конца. А после бросился по врачам.
– И в результате? – осторожно вопросил я.
– В результате я прозрел, – художник опустил голову, как опускает голову трагик, дочитав до конца последнюю строку. – Я оставил позади подготовительную часть жизни и на виток вознесся вверх.
– Значит, эти палочки и кругляшочки… Хмм… Они вас вполне устраивают?
– Ну, конечно же! Неужели вы еще не поняли? – художник сладострастно зарычал и, подобрав с пола длинную кисть, переломил ее об колено. Было не очень ясно, что же издало столь громкий треск – берцовая кость или древко кисти. Ноги у художника были страшно худые.
– А знаете что! – вскричал художник. – Пожалуй, я подарю вам что-нибудь на память. Прямо сейчас! – он протянул мне рисунок с рожицей какого-то головастика. Уверяю вас, скоро за этим будут гоняться. За это будут платить несусветные деньги! Не упускайте момент.
– Не упущу, – я благодарно прижал руку к груди. Подарок пришлось запихать во внутренний карман, отчего бумажнику и другим документам стало тесновато. Но я не в состоянии был отказать художнику. Он мог и убить меня. Посредством того же камина.
***
На десерт здесь подавали кутерьму солнечных бликов и воробьев-горлодериков за окном. Симфонии Ажахяна – одного из восьмерых потерпевших – преподносилось как главное блюдо…
«Цыпочка была грудаста и длиннонога. Она подмигнула мне левым глазом и чуть вильнула правым бедром. Но я на такие штучки не клевал, я был парнем тертым. А главное – я знал, что банда, которая подослала ко мне эту девицу…» – я тупо уставился в окно… Подослала ко мне эту девицу… Банда… Вот же странная штука. Зачем им понадобилось подсылать мне эту девицу? Может, я что-то такое знал, чего не знали они? Или знала девица, но не знал я? Если же я не знал, а она знала, какого лешего она ко мне прискакала? Обмануть, запугать, выдать секрет в обмен на мой старый детекторный приемник – один из раритетов нашей семьи?
Размашисто я перечеркнул страницу черным крестом и начал снова:
«– Эй, приятель! – окликнул меня гориллоподобный громила. – Обожди чуток. Имеется крупный разговор.
– Размером с яблоко? – пошутил я.
– Размером с твою тыкву. – Не принял шутки громила. – Дело в том, что я брат твоей невесты. И как старший брат я публично клянусь отомстить за поруганную честь сестры, пусть даже на это потратится вся моя долгая и оставшаяся жизнь.
– Проспись, амиго, – я презрительно усмехнулся и сунул в зубы сигару. От этих мексиканских бандитов можно было ждать чего угодно, поэтому незаметным движением я перевесил плащ с левой руки на правую и, еще более незаметно оглянувшись, пересчитал количество скопившихся за спиной злодеев. А их было никак не менее дюжины. Увы, додумать эту невеселую мысль я не успел. Правый кулак громилы просвистел в паре миллиметров от моего правого уха. Я выставил блок и, выкрикнув «йаа!», вонзил левую пятку в солнечное сплетение негодяя. Его пропеллером крутануло в воздухе, и, опрокинув по пути два столика, три стула и восемь тарелок с дымящимися бифштексами, он рухнул на обагренный кровью пол. Затесалась схватка, постепенно перешедшая в полный разгар…»
Я перечел написанное и остался недоволен. Какая-то чертова путаница: громила-горилла, голые пятки, восемь бифштексов, кровь на полу… Все вроде бы раскручивалось как надо, но что-то при этом явно хромало. Что именно, я никак не мог раскусить. Со вздохом украсив листок очередным крестом, я вернулся к своим служебным баранам.
Было скучно и жарко, но долг обязывал повиноваться и, обосновавшись в информатории города Знойного, я занимался тем, что нарушал старинную заповедь, советующую не гоняться за двумя, а уж тем более за тремя зайцами одновременно. Но кто же не хочет походить на Юлия Цезаря! Пытаясь завершить главу из детективного романа, я раскачивался на ножках стула и, поскрипывая извилинами, гадал о странной подсказке шефа. Через вставленный в ухо музыкальный кристалл слух мой внимал симфониям Ажахяна, пальцы лениво мусолили подшивки с результатами медицинских освидетельствований всех восьмерых потерпевших. По сути дела я уже влез в тайну личности – и влез по самую маковку. Осознавать это было крайне неприятно, но, увы, иного пути я не видел. После бурного свидания с художником мозг мой трезво рассудил, что лучше занырнуть в святая святых моих подопечных, нежели встречаться с каждым из них тет-а-тет.
Заниматься делом следовало, конечно, там, где все и свершилось. Поэтому, покинув художника, уже в 12—00 посредством репликатора я переместился в городок Знойный – эпицентр минувших событий. Кроме маузера и набора испанских стилетов я прихватил с собой кое-какой инструментарий оперативника, однако главным моим инструментом оставался ум, и уже в 12—30 я сидел в информатории, положив себе задачей не выходить из зала до тех пора, пока что-нибудь не проясниться. При этом я всерьез рисковал застрять здесь навечно. Стрелка на моих часах приближалась к шести, а желанным прояснением по-прежнему не пахло. Трижды я обращался к медкартам клиентов и трижды начинал закипать от всех этих терминов, психотестов и фигограмм энного рода. В ухе надрывно звучали фанфары, и вихляющимися созданиями мысли дергались и изгибались под музыку Ажахяна. Единственное, что я уяснил, это то, что все мои гении с точки зрения медицины оставались совершенно здоровы. Отклонения в ту или иную сторону не превышали известных пределов, – меланхолия, флегма и раздражительность присутствовали, как и должно присутствовать подобным качествам у всякого нормального гения. А более тесты ничего не выявляли.
Словом, я буксовал разом во всем, включая и написание любимого романа. Разумнее всего было встать и уйти, но я сделал это только тогда, когда стрелка достигла шестичасовой отметки. Что поделать, моя слабость – круглые цифры. Я ухожу и прихожу только под бой часов, и, глядя на мои отчеты, шеф цокает языком, начиная ерзать в своем троноподобном кресле и терзать пером свою макушку. Он не верит в мою скрупулезность, и бесконечная вереница нулей приводит его в ярость.
Мой шеф – и в ярости! Вообразите себе эту картинку, и вы поймете мой восторг!.. Впрочем, я, кажется, отвлекся.
Итак, ровно в 6—00 я покинул здание информатория и оказался на остывающей после жаркого дня улице. Рассерженно шипел перегретый мозг, внутренний голос, к которому я тщетно взывал, позорно помалкивал. К слову сказать, перечитав несколько тонн детективной литературы, я так и не докопался до главного секрета всех сыщиков. Каким образом распутывали дела знаменитые герои, оставалось для меня по-прежнему загадкой. Поскольку треть книги они ели, курили и пили, еще треть скандалили с тупоголовым начальством и последнюю треть выходили на финишную прямую, вступая в бой с долгожданными злодеями. Эта последняя треть меня и била обычно под дых. Поскольку все происходило само собой, и все главные противники точно по единому сигналу вылезали из своих берлог. Единственное, что требовалось от лихого героя, это с должной скоростью и в должном направлении поливать пространство смертоносным свинцом, после чего наступала блаженная тишина, и благодарные красотки толпами бросались в объятия своих усталых спасителей. Вот такие вот пироги – без малейшего намека на какой-либо анализ, на мысленное напряжение и психическую атаку. То есть, я тоже мечтал работать подобным образом, но заранее знал, что ничего путного из этого не выйдет, и потому действовал по старому и проверенному рецепту. А именно – пихал и пихал в себя все без разбора, читал, расспрашивал и вынюхивал. Так в костер несмышленыши вместе с прутиками кидают, гаечки, фольгу от шоколада и гвоздики. Меня интересовало все, мало-мальски касающееся дела. И длилось это до тех пор, пока не наступал момент истины. Точнее, сперва я чувствовал, что еще немного – и меня разорвет на части. И тогда, останавливаясь, я замирал в ожидании. Всякой пище требуется время для добротного усвоения. Главное – чтобы среди проглоченного не оказалось откровенной отравы. Чем доброкачественнее информация, тем быстрее можно было ожидать результата. И чудо чудное в итоге происходило! В конце концов, просыпалось то, что я называл внутренним голосом. Этот самый голос и выдавал мне пару-тройку неплохих идеек. Шеф поднимал большой палец, и дело уходило в архив. Вот, в сущности, та куцая методика, на которую я опирался и которую не возьмется описывать ни один из литераторов. Потому что – утомительно, нудно и тоскливо…