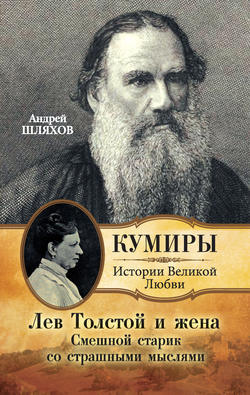Читать книгу Лев Толстой и жена. Смешной старик со страшными мыслями - Андрей Шляхов - Страница 4
Глава вторая
Младший брат
ОглавлениеПосле смерти Марии Николаевны обязанности хозяйки дома сами собой перешли к Татьяне Ергольской. Спустя шесть лет Николай Толстой предложит ей выйти за него замуж, но она откажется, пообещав, что по мере своих возможностей будет и впредь стараться заменить мать его детям и никогда не покинет их.
Отдав всю свою нежность детям любимого человека, Татьяна сумела если не заменить им мать, то окружить их не менее сильной любовью. Дети платили ей взаимностью, не чая души в тетушке Туанет, таково было домашнее прозвище Ергольской. Лев Толстой отметит огромное влияние, которое тетушка Туанет оказала на его жизнь. «Влияние это было, во-первых, в том, что еще в детстве она научила меня духовному наслаждению любви. Она не словами учила меня этому, а всем существом заражала меня любовью. Я видел, чувствовал, как хорошо ей было любить, и понял счастье любви. Это первое. Второе то, что она научила меня прелести неторопливой, одинокой жизни… Главная прелесть этой жизни была в отсутствии всякой материальной заботы, добрых отношениях ко всем, твердых, несомненно добрых отношениях к ближайшим лицам, которые не могли быть нарушены, и в неторопливости, в несознавании убегающего времени».
Ранние детские воспоминания Льва Толстого полны переживаниями по поводу собственной несвободы. Не в этом ли крылись истоки его вечного стремления идти наперекор всему, всегда поступать так, как хочется, как диктует собственная воля, без оглядки на окружающих, да и на все общество в целом?
«Я связан, мне хочется выпростать руки, и я не могу этого сделать. Я кричу и плачу, и мне самому неприятен мой крик, но я не могу остановиться. Надо мной стоят, нагнувшись, кто-то, я не помню кто. И все это в полутьме, но я помню, что двое; и крик мой действует на них: они тревожатся от моего крика, но не развязывают меня, чего я хочу, и я кричу еще громче…»
«…Посещение какого-то, не знаю, двоюродного брата матери, гусара князя Волконского. Он хотел приласкать меня и посадил на колени, и, как часто это бывает, продолжая разговаривать со старшими, держал меня. Я рвался, но он только крепче придерживал меня. Это продолжалось минуты две. Но это чувство пленения, несвободы, насилия до такой степени возмутило меня, что я вдруг начал рваться, плакать и биться».
До пяти лет Леву воспитывала няня при участии тетушки Туанет, занимавшейся со всеми мальчиками французским языком, а затем он был отдан в руки воспитателя Федора Ивановича Росселя, добродушного и снисходительного немца. Лева поначалу побаивался нового воспитателя, но быстро привык к нему и даже полюбил. Позже, в повести «Детство», Лев Николаевич не оставит без внимания своего первого воспитателя и опишет его таким, каким помнил, не забыв ни домашнего халата, в котором тот имел обыкновение расхаживать, ни смешного колпака с кисточкой. Писатель лишь сменит имя своего героя с Федора на Карла. «Его доброе немецкое лицо, участие, с которым он старался угадать причину моих слез, заставляли их течь еще обильнее: мне было совестно, и я не понимал, как за минуту перед тем я мог не любить Карла Иваныча и находить противными его халат, шапочку и кисточку; теперь, напротив, все это казалось мне чрезвычайно милым, и даже кисточка казалась явным доказательством его доброты».
Из братьев он был самым младшим, что обрекало его на вечное им подражание. Братья были разными, и каждый из них был дорог Левушке по-своему. Дмитрий, то ли в силу своего мягкого характера, то ли из-за минимальной, в сравнении с другими братьями, разницы в возрасте, был ближе всего ему по духу. Сергей восхищал множеством своих талантов и некоторой загадочностью. Старший брат, Николай, был неистощим на выдумки и любил изобретать новые игры и забавы. Он весьма увлекательно рассказывал братьям обо всем, что приходило ему на ум, будь то таинственная зеленая палочка, хранящая секрет всеобщей любви, или путешествие на Фанфаронову гору. Братья тотчас же загорались идеями Николая и были готовы пойти ради них на великие жертвы. Так, например, на Фанфаронову гору вместе с Николаем мог отправиться лишь тот, кто выполнит ряд условий. «Условия были, во-первых, стать в угол и не думать о белом медведе, – вспоминал Лев Толстой. – Помню, как я становился в угол и старался, но никак не мог не думать о белом медведе. Второе условие я не помню, какое-то очень трудное… пройти, не оступившись, по щелке между половицами, и третье легкое: в продолжение года не видать зайца, все равно, живого, или мертвого, или жареного. Потом надо поклясться никому не открывать этих тайн».
Отец, Николай Ильич, детям много времени не уделял. Мог под настроение заглянуть в детскую, посмеяться вместе с детьми над рассказанной им же самим историей, мог попросить прочитать стихотворение и, похвалив за старание, удалиться. Он никогда не был близок к своим детям, так же как и его сын Лев. То ли наследственность сказывалась, то ли маленький Левушка неосознанно скопировал отцовскую манеру поведения и перенес ее в свою семью.
«Помню его в его кабинете, куда мы приходили к нему прощаться, а иногда просто поиграть, где он с трубкой сидел на кожаном диване и ласкал нас и иногда, к великой радости нашей, пускал к себе за спину на кожаный диван и продолжал или читать или разговаривать с стоящим у притолки двери приказчиком или с С. И. Языковым, моим крестным отцом, часто гостившим у нас. Помню, как он приходил к нам вниз и рисовал нам картинки, которые казались нам верхом совершенства. Помню, как он раз заставил меня прочесть ему полюбившиеся мне и выученные мною наизусть стихи Пушкина: “К морю”: “Прощай, свободная стихия…” и “Наполеон”: “Чудесный жребий совершился: угас великий человек…” и т. д. … Его поразил, очевидно, тот пафос, с которым я произносил эти стихи, и он, прослушав меня, как-то значительно переглянулся с бывшим тут Языковым. Я понял, что он что-то хорошее видит в этом моем чтении, и был очень счастлив этим. Помню его веселые шутки и рассказы за обедом и ужином, как и бабушка, и тетушка, и мы, дети, смеялись, слушая его. Помню еще его поездки в город и тот удивительно красивый вид, который он имел, когда одевался в сюртук и узкие панталоны. Но более всего я помню его в связи с псовой охотой. Помню его выезды на охоту. Мне всегда потом казалось, что Пушкин списал с них свой выезд на охоту мужа в “Графе Нулине”».
Детство Толстого в Ясной Поляне было веселым, и, если бы не ранняя смерть матери, его можно было бы назвать безоблачным. Все вокруг было наполнено любовью, нежностью, счастьем. «Вернутся ли когда-нибудь та свежесть, беззаботность, потребность любви и сила веры, которыми обладаешь в детстве? – писал во взрослом возрасте Лев Толстой. – Какое время может быть лучше того, когда две лучшие добродетели – невинная веселость и беспредельная потребность любви – были единственными побуждениями в жизни?»
Детям в Ясной Поляне жилось вольготно. Игры, прогулки и всяческие развлечения занимали гораздо больше времени, чем учеба. В особый восторг Левушку приводили ночевки у бабушки Пелагеи Николаевны, выпадавшие поочередно каждому из пяти детей. Бабушка долго мыла руки, пуская при этом презабавнейшие мыльные пузыри, а затем начиналось подлинное волшебство – слепой сказочник из крепостных заводил свой рассказ: «У одного владетельного царя был единственный сын…»
Лева не слушал сказки, его завораживал таинственный вид бабушки, лежавшей в постели, завораживали тени, колеблющиеся на стене в дрожащем свете лампады, завораживали непонятные и оттого казавшиеся торжественными слова. Слова убаюкивали, и Левушка засыпал.
«Бывает за обедом и еще удовольствие, – вспоминал Толстой, – когда на меня обращают внимание и выставляют перед публикой мое искусство составлять шарады.
– Ну-ка, Левка-пузырь (меня так звали, я был очень толстый ребенок), отличись новой шарадой! – говорит отец.
И я отличаюсь шарадой в таком роде: мое первое – буква, второе – птица, а все – маленький домик. Это б – утка – будка. Пока я говорю, на меня смотрят и улыбаются, и я знаю, чувствую, что эти улыбки не значат то, что есть что-нибудь смешного во мне или моих речах, а значит то, что смотрящие на меня любят меня. Я чувствую это, и мне восторженно радостно на душе».
Кроме тетушки Туанет, была еще и тетушка Алин, Александра Ильинична, сестра Николая Ильича, та самая, которая вышла замуж за графа Остен-Сакена. Замужество оказалось крайне неудачным – граф страдал психическим заболеванием, которое делало совместную жизнь с ним опасной в прямом смысле этого слова. Вскоре после свадьбы он попытался застрелить жену из пистолета, а в другой раз вооружился бритвой и чуть было не отрезал несчастной язык. Графа поместили в лечебницу, а беременная Александра поселилась у брата. Пережитые волнения не могли не сказаться на ее ребенке, который родился мертвым. Мать и брат, опасаясь, как бы Александра в отчаянии не наложила на себя руки, солгали ей, что ребенок жив, выдав за него новорожденную девочку, взятую со стороны. Не получив земного счастья, Александра стала искать его на небесах. Она обратилась к Богу, ходила в простых темных одеждах, денно и нощно молилась, строго соблюдала посты, привечала странников, «божьих людей», которые останавливались на ночлег в доме Толстых. От хорошенькой восторженной девушки, какой она была когда-то, остались только голубые глаза, да и они потускнели от горя.
Помещик Темешов, дальний родственник по Горчаковым, живший в сорока верстах от Ясной Поляны, пристроил Николаю Ильичу на воспитание свою незаконнорожденную дочь Дунечку. «Дунечка жила у нас и была милая, простая, спокойная, но не умная девочка и большая плакса, – вспоминал Толстой. – Помню, как меня, обученного уже французской грамоте, заставили учить ее буквы. Сначала у нас дело шло хорошо (мне и ей было по 5 лет), но потом, вероятно, она устала и перестала называть правильно ту букву, которую я ей показывал. Я настаивал. Она заплакала. Я тоже. И когда на наш рев пришли, мы ничего не могли выговорить от отчаянных слез… Она была не умная, но хорошая, простая девочка, а главное, до такой степени целомудренная, что между нами, мальчиками, и ею никогда не было никаких других, кроме братских отношений».
Когда Леве исполнилось восемь, семья переехала в Москву, чтобы дети могли там продолжить образование, для которого уроков одного лишь Росселя было недостаточно. Левушку переезд страшил – жаль было покидать родные стены, где все было таким знакомым, таким дорогим, и отправляться в неизвестность. Москва казалась далекой, чужой и даже враждебной.
10 января 1837 года семейство Толстых в полном составе выехало в Москву. Сто девяносто шесть верст «семейный обоз» преодолел за четыре дня – ехали обстоятельно, не спеша.
Москва поразила Леву, мальчику, уютный мирок которого доселе был ограничен Ясной Поляной, открылся настоящий мир! «Мне в первый раз пришла в голову ясная мысль о том, что не мы одни, то есть наше семейство, живем на свете, – писал он в «Отрочестве», – что не все интересы вертятся около нас, а что существует другая жизнь людей, ничего не имеющих общего с нами, не заботящихся о нас и даже не имеющих понятия о нашем существовании».
Поселились в снятом Николаем Ильичом доме Щербачева на Плющихе, ныне это дом № 11. Дом оказался большим – два этажа (правда, один – полуподвальный), фасад в одиннадцать окон, но, в сравнении с яснополянским, казался тесным. Но делать было нечего – пришлось привыкать к московской жизни. К лету мальчик в какой-то мере освоился, но тут пришла новая беда – умер отец. Николай Ильич Толстой не отличался здоровьем и к тому же много пил. 21 июня 1837 года он скоропостижно скончался от апоплексического удара. Произошло это прямо на улице в Туле, куда граф отправился по делам.
«Я очень любил отца, но не знал еще, как сильна была эта моя любовь к нему, до тех пор, пока он не умер», – признавался Толстой в «Воспоминаниях».
Пелагея Николаевна тяжело переживала смерть сына, и хозяйственные заботы приняла на себя Александра Ильинична, в силу своей отрешенности от земной жизни начисто лишенная практицизма. Вскоре финансовые дела семьи пришли в упадок.
«Пришла беда – открывай ворота!» – в том же злосчастном 1837 году на Леву обрушилось новое несчастье. Бабушка, тяготевшая к гувернерам-французам, вознамерилась уволить добрейшего Федора Ивановича и заменить его неким Проспером Сен-Тома, молодым, бездушным и самодовольным. Педагог из Сен-Тома был никудышный – он не воспитывал своих учеников, а обламывал их, причем делал это грубо и безапелляционно. Лощеный француз настолько пленил старую графиню, что она доверила ему не только воспитание внуков, но и общее руководство чуть ли не дюжиной учителей, дававших им уроки. Федор Иванович умолил старую графиню оставить его при детях без жалованья, так как не в силах был расстаться с ними.
Несмотря на взаимную неприязнь, именно Проспер Сен-Тома первым разглядел в Леве будущего писателя. «У этого ребенка голова! – сказал он однажды. – Это маленький Мольер!»
Лева рос задумчивым, всегда был занятым собой, своими мыслями. Его постоянно занимал один и тот же вопрос – что думают о нем окружающие, какие чувства испытывают они к нему. Самый младший из братьев был на удивление честолюбив и всячески старался привлечь к себе внимание. Ради этого он мог даже выпрыгнуть из окна второго этажа.
Лева сильно переживал по поводу своей неказистой внешности, особенно усилились эти переживания, когда он впервые влюбился. Его избранницей стала Сонечка Колошина, очаровательная девятилетняя девочка, приходившаяся Толстым дальней родственницей. Мать Сонечки, Александра Григорьевна Салтыкова, была правнучкой графа Федора Ивановича Толстого, брата графа Андрея Ивановича Толстого, прадеда Льва Николаевича, и, следовательно, приходилась Льву четвероюродной сестрой. Короче говоря – седьмая вода на киселе. В «Детстве» Сонечка Колошина выведена под именем Сонечки Валахиной. «Я не мог надеяться на взаимность, – рассказывает автор устами главного героя Николеньки, – да и не думал о ней: душа моя и без того была преисполнена счастием. Я не понимал, чтобы за чувство любви, наполнявшее мою душу отрадой, можно было бы требовать еще большего счастия и желать чего-нибудь, кроме того, чтобы чувство это никогда не прекращалось. Мне и так было хорошо. Сердце билось, как голубь, кровь беспрестанно приливала к нему, и хотелось плакать».
Спустя пятьдесят с лишним лет Льву Толстому захочется написать роман о целомудренной любви, подобной его влюбленности в Сонечку Колошину, любви, «для которой невозможен переход в чувственность, которая служит лучшим защитником от чувственности». К чувственности у Льва Николаевича отношение было двойственным – то и дело проявляя ее в повседневной жизни, он рьяно открещивался от нее на словах. То ли находил в этом изысканное наслаждение, то ли просто пытался произвести впечатление на окружающих. Привычки, усвоенные в детстве, обычно сохраняются на протяжении всей жизни.
Чувство к Сонечке вскоре сменилось влюбленностью в Любочку Иславину, ту самую, которая впоследствии станет его тещей. Очаровывали Леву и мальчики из числа сверстников, он вообще любил все красивое.
В мужчин я очень часто влюблялся, первой любовью были два Пушкина, потом 2-й – Сабуров, потом 3-ей – Зыбин и Дьяков, 4 – Оболенский, Блосфельд, Иславин, еще Готье и многие другие. Из всех этих людей я продолжаю любить только Дьякова. Для меня главный признак любви есть страх оскорбить или не понравиться любимому предмету, просто страх… Я влюблялся в мужчин, прежде чем имел понятие о возможности педрастии (так написано автором. – А.Ш.), – но и узнавши, никогда мысль о возможности соития не входила мне в голову. Странный пример ничем не объяснимой симпатии – это Готье. Не имея с ним решительно никаких отношений, кроме по покупке книг. Меня кидало в жар, когда он входил в комнату. Любовь моя к Иславину испортила для меня целые 8 месяцев жизни в Петербурге. Хотя и бессознательно, я ни о чем другом не заботился, как о том, чтобы понравиться ему. Все люди, которых я любил, чувствовали это, и я замечал, им тяжело было смотреть на меня. Часто, не находя тех моральных условий, которых рассудок требовал в любимом предмете, или после какой-нибудь с ним неприятности, я чувствовал к ним неприязнь; но неприязнь эта была основана на любви. К братьям я никогда не чувствовал такого рода любви. Я ревновал очень часто к женщинам. Я понимаю идеал любви – совершенное жертвование собою любимому предмету. И именно это я испытывал. Я всегда любил таких людей, которые ко мне были хладнокровны и только ценили меня. Чем я делаюсь старше, тем реже испытываю это чувство. Ежели и испытываю, то не так страстно, и к тем людям, которые меня любят, т. е. наоборот того, что было прежде. Красота всегда имела много влияния в выборе; впрочем, пример Дьякова; но я никогда не забуду ночи, когда мы с ним ехали из Пирогова, и мне хотелось, увернувшись под полостью, его целовать и плакать. Было в этом чувстве и сладострастие, но зачем оно сюда попало, решить невозможно; потому что, как я говорил, никогда воображение не рисовало мне любрические картины, напротив, я имею страшное отвращение».
«Два Пушкина» – это Саша и Алеша Мусины-Пушкины, друзья детства Льва Толстого, выведенные им в повести «Детство» под именем братьев Ивиных. О чувстве, которое испытывает Николенька Иртеньев (то есть сам автор) к Сереже Ивину (прототипом которого послужил младший из братьев Мусиных-Пушкиных – Саша), Толстой рассказывает очень подробно: «Его оригинальная красота поразила меня с первого взгляда. Я почувствовал к нему непреодолимое влечение. Видеть его было достаточно для моего счастия; и одно время все силы души моей были сосредоточены в этом желании: когда мне случалось провести дня три или четыре, не видав его, я начинал скучать, и мне становилось грустно до слез. Все мечты мои во сне и наяву были о нем: ложась спать, я желал, чтобы он мне приснился; закрывая глаза, я видел его перед собою и лелеял этот призрак, как лучшее наслаждение. Никому в мире я не решился бы поверить этого чувства – так много я дорожил им… Я… ничего не желал, ничего не требовал и всем готов был для него пожертвовать. Кроме страстного влечения, которое он внушал мне, присутствие его возбуждало во мне не менее сильной степени другое чувство – страх огорчить его, оскорбить чем-нибудь, не понравиться ему… Я чувствовал к нему столько же страху, сколько и любви. В первый раз, как Сережа заговорил со мной, я до того растерялся от такого неожиданного счастия, что побледнел, покраснел и ничего не мог отвечать ему… Между нами никогда не было сказано ни слова о любви, но он чувствовал свою власть надо мною и бессознательно, но тиранически употреблял ее в наших детских отношениях… Иногда влияние его казалось мне тяжелым, несносным, но выйти из-под него было не в моей власти. Мне грустно вспомнить об этом свежем, прекрасном чувстве бескорыстной и беспредельной любви, которое так и умерло, не излившись и не найдя сочувствия».
Таким уж человеком был Лев Толстой – любовь обычно заканчивалась для него разочарованием. Да и само слово «любовь» великий писатель понимал по-своему. «Всякое влечение одного человека к другому я называю любовью», – писал он в «Отрочестве». И пояснял уже в дневнике: «Я понимаю идеал любви: совершенное жертвование собою любимому предмету. И именно это я испытывал».
Можно вспомнить и о «Казаках», где отношения между Олениным и Лукашкой описываются так: «Что-то похожее на любовь чувствовалось между этими двумя столь различными молодыми людьми. Всякий раз, как они взглядывали друг на друга, им хотелось смеяться». Схожая тема затронута и в «Войне и мире», где молодой офицер Ильин «старался во всем подражать Ростову и как женщина был влюблен в него».
25 мая 1838 года умерла бабушка. «Я не жалею о бабушке, да едва ли кто-нибудь искренно жалеет о ней», – писал Толстой в «Отрочестве». Леву поразила сама близость смерти, мальчик открыл для себя, что все сущее имеет конец, и свыкнуться с этой мыслью, конечно же, было нелегко. «Все время, покуда тело бабушки стоит в доме, я испытываю тяжелое чувство страха смерти, то есть мертвое тело живо и неприятно напоминает мне то, что и я должен умереть когда-нибудь, чувство, которое почему-то привыкли смешивать с печалью».
До нашего времени дошла сводка по основным доходам и расходам по всем имениям Толстых на 1837 год, сохраненная Татьяной Ергольской. Доходы были таковы: по Пирогову общая сумма составляла 10 384 рубля; по Никольскому – 12 682 рубля; по Ясной Поляне – 6710 рублей; по Щербачевке – 5285 рублей; по Неручу – 8958 рублей. Итого – 44 019 рублей.
Расходы же были следующие: взносы в Опекунский совет – 26 384 рубля; подушные за дворовых – 400 рублей; жалованье приказчикам в имениях – 1700 рублей; выдачи по назначению – 400 рублей; разъезды и подарки (не исключено, что речь шла о взятках) – 1200 рублей. Итого – 30 084 рубля.
Остаток составлял примерно 14 000 рублей, но для жизни в Москве этих денег было мало. 8304 рубля, судя по тем же записям, составляло совокупное годовое жалованье учителям, в 3500 рублей обходилась годовая аренда дома. На год жизни в Москве оставалось 2200 рублей. Этих денег не хватало, поэтому после похорон тетушки решили из соображений экономии разделить семью на две части. Четырнадцатилетний Николай и двенадцатилетний Сергей остались в Москве с тетушкой Алин, а Дмитрий, Лев и Мария вернулись в Ясную Поляну с тетушкой Туанетт. Лева был рад возвращению, он скучал по родному дому, а кроме того, ненавистный Сен-Тома остался со старшими братьями в Москве.