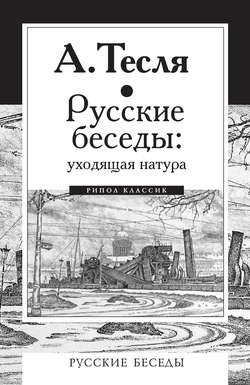Читать книгу Русские беседы: уходящая натура - Андрей Тесля - Страница 5
Часть 1. Конец старого мира
2. Вопрос вины
ОглавлениеВ эти дни сто лет тому назад старая Европа уже была готова покончить жизнь самоубийством: 23 июля Австро-Венгрия предъявила ультиматум Сербии, объявив ее стоящей за убийством эрцгерцога Франца Фердинанда и его супруги Софии, спустя два дня скрытую мобилизацию начала Германия, на следующий день о мобилизации объявила Австро-Венгрия, 31-го всеобщая мобилизация была объявлена Российской империей.
События, приведшие к началу войны, за сто лет детально изучены историками, и не только ими, поскольку после Версаля страны-победительницы некоторое время продолжали еще держаться идеи суда над военными преступниками, которыми в первую очередь объявлялись руководители Германии и Австро-Венгрии, а мирный договор включал в себя утверждение вины центральных держав в развязывании войны. Этот вопрос «вины» окажется рубежным даже для Веймарской республики, которая так и не пойдет здесь на компромисс, отказавшись от выдачи обвиняемых международному трибуналу и настаивая, несмотря на почти безвыходную ситуацию, на своем исключительном праве судить данных лиц, если в их деяниях будет найден состав преступления. Однако в последние недели мира и в первые месяцы войны вопрос вины не представлялся особенно значимым, понятно, что каждая из сторон заявляла о собственной правоте и несправедливости, злонамеренности и т. д. противника, но это не выходило за пределы добросовестной риторики, которой и положено ожидать в подобных случаях.
Для наблюдателей июля 1914 г. разворачивающиеся события представлялись эпохальными, однако истинный масштаб стал понятен лишь значительно позже: современники осознавали наступление мировой войны, но, странным на первый взгляд образом, это не казалось большинству из них особенно пугающим.
Здесь имеет смысл остановиться на причинах отсутствия страха, т. е. страха, соразмерного наступающим событиям. Для одних война была избавлением от пустоты предшествующего времени, моментом истины, для других – кризисом, призванным, подобно грозе, расчистить атмосферу, для третьих – окном возможностей или последним шансом избежать катастрофы.
В катастрофу сбегали как в спасение. Европа давно, еще с 1870-х годов, жила в предчувствии большой войны – происходящее мыслилось как реализация этих страхов и одновременно их преодоление: на место неясных опасений и сложных комбинаций должно было прийти действие, накопившимся сомнениям предстояло решиться на поле битвы, и итог, каким бы он ни был, в любом случае обещал ясность.
Эйфория, с которой во всех великих европейских державах было встречено вступление в войну, «патриотический подъем», о котором привычно пишут как о «захватившим интеллектуалов» (или, что будет, вероятно, едва ли не более верно, подъем, активно поддержанный и стимулированный в своем нарастании интеллектуалами равно Франции, Германии или России, находивших в происходящем искомое «слияние в чувствах» с «народом», казалось бы, данным в этот момент «непосредственно»: его, как утверждали современники, можно было видеть на площадях, слышать его разговоры на улицах и в тавернах, можно было ощущать «биение народного сердца» и наблюдать тот самый «единодушный порыв», избавляющий от сомнений и разноголосицы мнений – больше не было отдельных «людей», был явлен «народ», – достаточно убедительным образом, чтобы переубедить на время не только энтузиастов, но и многих скептиков) – эта эйфория продержалась достаточно долго, по крайней мере еще сентябрьские записи современников полны ею, то есть уже в тот момент, когда становится понятно, что ожидания, разделяемые по разные стороны фронта, не оправдываются. Ведь у отсутствия страха была еще одна существенная составляющая: почти никто не представлял себе характера будущей войны и, что важнее всего, его не представляли и те, кто принимал ключевые решения. Тот опыт «большой войны», окопного сидения, изматывания противника, когда победа определяется не в решающей битве, а в том, у кого окажется больше ресурсов, прочнее тыл и т. д., опыт, который затем, post factum, был опознан в Русско-турецкой (1877–1878), англобурской (1899–1902) и Русско-японской (1904-1905) войнах – тогда оставался по большей части неосмысленным, чтобы затем уже, из перспективы I мировой, быть понятым как первые примеры новой войны.
Слова для выражения этого нового характера войны нашлись довольно скоро – с 1915 г. заговорили о «тотальной мобилизации», «тотальной войне» и т. д. Став тотальной, война стирала границу между военными и мирными лицами: мобилизованный технический персонал уже только административно можно было отличить от рабочих на фабриках, переводимых в режим военного времени, торговые фирмы оказывались неразличимы от правительственных подразделений. Оглядываясь из опыта II мировой, разумеется, ее предшественница была далека от «тотальности» – уже Эрнст Юнгер, один из самых чутких и вдумчивых наблюдателей происходящего, говорил, что в мировой войне (тогда еще не требовавшей уточнения порядкового номера) Германия не проявила достаточной воли к тотальной мобилизации, но это были особенности фактического положения вещей, тогда как логика происходящего была вполне отчетлива. Новая реальность предполагала, что война включает в себя все: больше нет сферы, которая оказывалась бы изъята от участия в войне, все надлежало функционально подчинить ей – от поставок и распределения продовольствия до театральных постановок.
Как подчеркивал Карл Шмитт, война перестала быть «нормальной», она утратила свою «юридическую рамку» – I мировая стала первой войной, провозглашенной в качестве «последней войны», Вудро Вильсон настаивал, что сражение идет ради того, чтобы больше не было никаких сражений. В новой вой не, где сражались уже не государства, а народы, в тотальной войне, мобилизующей все силы соперников, в которой побеждает тот, кто сумел произвести мобилизацию более полную, наиболее приближающуюся к идеалу тотальности – военную, техническую, идеологическую, какую угодно еще (каждый новый найденный ресурс, который возможно отмобилизовать, – это шанс на победу, а, оставленный не мобилизованным, – это упущенная возможность, преимущество, отданное врагу). Прежние войны велись «ради мира», в перспективе мира – при всей непривычности теперь для нас этой формулировки, это означало, что война закончится мирным соглашением, соглашением с тем же самым противником, с которым она велась. Война была способом разрешения противоречий, когда другие способы оказались недействительными, собственно, с таким пониманием великие европейские державы начинали и I мировую. Война здесь была «крайним доводом», но она продолжала оставаться именно в арсенале аргументации – не только угроза войной, но и сама война. Именно это имел в виду Клаузевиц, когда писал: «Война есть продолжение политики другими средствами», т. е. когда прежние средства оказались исчерпаны, и война заканчивается миром, заключаемым между прежними противниками.
До тех пор, пока война ведется между государствами, пока она принципиально ограничена их ресурсами, она сохраняет возможность этой перспективы, в конце концов, «это всего лишь политика». Тотальная война не имеет подобной перспективы – вобрав в себя все, она лишается предела, в этом смысле Вильсон был прав, она не может закончиться «мирными переговорами» между прежними противниками, теперь ее исходом может оказаться лишь капитуляция, а на смену «противнику» приходит «абсолютный враг», с которым невозможно соглашение, его надлежит лишь уничтожить или, по крайней мере, обезвредить. Переговоры, возможные с ним, это аналог переговоров полиции с террористами, где соглашение соблюдается лишь до первой возможности быть нарушенным, это переговоры о сдаче или порядке выдачи заложников – право на существование за ним не признается.
I мировая действительно оказалась последней войной в старом смысле – там, где есть «противник» – и первой полноценной войной нового типа, где противостоит «абсолютный враг»: она начиналась как способ решить политические вопросы, каждый из участников строил свои планы на послевоенное урегулирование, выглядящие, исходя из знания результатов, фантастическими именно в силу своей ограниченности, ведь «общая рамка» предполагалась неизменной. Надеялись занять такие-то территории, взять Константинополь, вернуть Эльзас и Лотарингию, присоединить Триест, установить контроль над Сербией. Закончилась война исчезновением четырех империй (Австро-Венгерской, Российской, Германской, Османской), ликвидацией самих политических субъектов, что дойдет до своей завершенности в 1945 г., когда союзники оккупируют территорию противника и затем, через несколько лет, с «нулевой позиции» сконструируют новые политические тела. Если враг абсолютен, то с ним ведь невозможны переговоры, а раз так, то он должен быть уничтожен, и затем уже, «с чистого листа», возможно новое действие.
Поскольку война тотальна, а враг абсолютен, то вопрос вины приобретает ключевое значение, при этом он может быть решен лишь в рамках однозначного ответа на вопрос, кто начал войну: либо вина лежит на нас, либо виновен враг. Война теперь результат преступления и сама является преступлением, отсюда тот бесконечный спор о вине, который союзники постараются разрешить прямым указанием в Версальском договоре, вынуждая Германию признать свою виновность, и тем самым признать справедливость победителей.
Теперь мы находимся в ситуации, когда слова Вильсона почти оправдались – войн больше нет, «война» сама по себе стала преступлением, ее невозможно объявить, каждая из сторон проводит следствие и настаивает на признании виновной другой стороны, обвиняя ее в начале «войны», а на международном уровне говорят о «конфликтах», «столкновениях» и т. п., проводят «миротворческие операции», поскольку более невозможна и «война ради мира». «Мир» стал тотальным – но сомнительно, стал ли он безопаснее по сравнению с 1914 г., поскольку из этого состояния «мира» невозможен выход в мирное состояние.