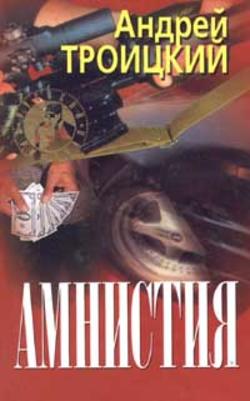Читать книгу Амнистия - Андрей Троицкий - Страница 2
Глава вторая
ОглавлениеИнспектор уголовного розыска Максим Руденко стоял у распахнутого настежь окна и наблюдал, как от дома отчаливает темная прокурорская «Волга». Мальчишки, гонявшие оранжевый мяч у подъезда расступились, освобождая дорогу. Машина плавно набрала ход, покатилась по залитому солнечным светом двору, повернула налево и исчезла в темной глубине арки.
Начальство уехало, это неплохо, это даже хорошо, потому что теперь, в его отсутствии, можно спокойно заняться делом. Руденко выставил локти в стороны, завел их за спину, расправляя плечи.
Итак, что мы имеем на данный момент? Имеем ли то, что имеем. Жаркое утро. Однокомнатная квартира на втором этаже. Двадцатиметровая комната просто завалена тополиным пухом. Последние три дня окна оставались распахнутыми настежь. Пуха налетело столько, что в углах комнаты выросли бесформенные, дрожащие от дуновения ветра, сугробы.
У голой торцевой стены, свернувшись калачиком, спит хозяин этой тополиной берлоги Осипов Герман Николаевич. Теперь он так далек от мирской суеты, что его вечный сон не тревожит, ни присутствие в его жилище посторонних совершенно незнакомых людей, ни жара, ни помойные зеленые мухи, слетевшиеся на сладкий запах мертвой плоти.
Бельевой двустворчатый шкаф с облезлой полировкой, диван, круглый стол у окна, три венских стула с гнутыми деревянными спинками. Даже телевизора нет. Обстановочка, прямо сказать, спартанская. Немного оживляют эту совсем унылую картину беспорядочно развешанные по стенам вымпелы спортивных обществ, плакаты с изображением супертяжеловесов, чемпионов мира по боксу прошлых лет. Плакаты пожелтели, дешевая бумага выцвела и, кажется, готова развалиться, рассыпаться от легкого прикосновения руки. И, наконец, засохший куст герани на подоконнике, а рядом несколько пустых посудин из-под водки.
В прихожей хлопнула дверь, раздались шаги в коридоре, на пороге комнаты возник участковый инспектор Поваляев, последние полтора часа занимавшийся опросом жильцов подъезда. Сняв с головы фуражку, Поваляев задышал глубоко, со странным нутряным присвистом. Руденко посмотрел на инспектора без видимого интереса.
– Ну что? Народ, как всегда, безмолвствует?
Поваляев, вытерев ладонью испарину с горячего лба, лишь обречено пожал плечами. Мол, что поделаешь, раз такой народ
– Вечером, когда люди с работы вернутся, снова пройдусь по квартирам.
– А у этого клиента, – Руденко кивнул головой в сторону скорчившегося на полу Осипова, – у него были тут приятели, собутыльники?
– Вообще-то он жил как-то обособленно. И спокойно. По моей линии на него жалоб не поступало. Ни скандалов, ни драк, ничего такого. Все по-тихому.
– Но ведь ни один же он выпил три пол литры.
Руденко показал пальцем на подоконник.
– Почему не один?
Умудренный жизнью пятидесятилетний участковый помотал головой, выражая несогласие с выводами молодого инспектора, который, по всему видать, в таких вот пьяных делах ещё не нажил опыта.
– Запросто мог и один выпить. Ему не привыкать.
– Это в такую-то жару? Нормальный человек со стакана свалится.
Участковый снисходительно улыбнулся и снова покачал головой, оставляя за собой право на собственное, противоположное мнение.
– Этот не свалится, – сказал он.
– Окурки в пепельнице от разных сигарет. И вообще, сразу видно, что здесь посидели гости. Были у Осипова друзья среди местных?
– Выписал он с одним местным. С Сергеем Пикиным. Сергей не то, чтобы приятель Осипова, скорее так… Он тут через два дома живет.
– Что это за Пикин?
Участковый неопределенно пожал плечами.
– Для меня все они одним миром мазаны, алкаши.
– Тащи сюда этого Пикина. Бери за шиворот и тащи. Понял?
– Так точно.
Поваляев надел фуражку и исчез.
Руденко хотел закурить, но передумал. По словам медицинского эксперта, уехавшего только что вместе с прокурором, смерть наступила три дня назад, в субботу, примерно в шесть вечера, плюс-минус три часа – это поправка на жару. Осипов мастер спорта по боксу международного класса, чемпион страны в первом полутяжелым весе. После окончания спортивной карьеры, работал в Карелии тренером в спортивных обществах «Урожай» и «Буревестник». Не так давно, года три назад, перебрался в Москву. Наставник молодежи, и вообще Осипов заслуженный уважаемый человек.
Правда, все заслуги, все уважение остались в прошлой трезвой жизни. А что в настоящем? Почти ничего. Жалкие останки спортивной карьеры, трагический итог короткой жизни. Вот эти пыльные вымпелы, рассыпающиеся от ветхости плакаты, пустые бутылки на подоконнике. И две проникающие ножевые раны в груди. Пожалуй, все. План места происшествия составлен, труп дактелоскапировали, минут через сорок приедет перевозка, и тело Осипова отвезут в судебный морг.
Руденко отошел от окна, сел на шаткий жалобно заскрипевший под тяжестью человека венский стул, стал листать только что заполненный бланк протокола осмотра места происшествия. «Труп одет в светло-голубую трикотажную безрукавку, серые хлопчатобумажные брюки, светлые сатиновые трусы, – прочитал Руденко. На ногах коричневые бумажные носки и домашние шлепанцы с кожаным верхом. В левом кармане брюк обнаружены: коробок спичек, ключи от квартиры на металлическом кольце, пластмассовая пробка от бутылки, окурок сигареты без марки.
В правом кармане обнаружены: нож выкидной кнопочный с синей пластмассовой ручкой, белая пуговица от рубашки, три зубчика чеснока, стержень шариковой ручки. На ощупь труп холодный. Трупные пятна лилового цвета усматриваются на правой стороне тела, при надавливании пятна бледнеют. Гнилостные изменения выражены не сильно. Кожа бледная, глаза открыты, веки синюшные. У левой ушной раковины кровоподтек лилового цвета размером 4 на 8 сантиметров. В левом ушном ходе запекшаяся кровь, ушная раковина уплотнена. Рок открыт. Язык находится в полости рта, где имеются сгустки крови, а также тополиный пух. В отверстиях носа кровь в виде свертков».
* * *
Руденко перестал читать. Вот они на столе, три зубчика чеснока, пробка, полупустой стержень, ключи, пуговица, окурок и выкидной нож. Руденко повертел в руках нож, нажал хромированную кнопку. Щелкнула пружина, из ручки выскочило хромированное десятисантиметровое лезвие. Руденко дотронулся до острия лезвия, провел подушечкой пальца по клинку. Нож фирменный чешский «Миров», не слишком дорогой, но надежный, прочный, сталь долго держит двойную заточку.
Осипов, находясь дома, в родных стенах, держал нож в правом кармане брюк. Почему? Хозяин квартиры был слишком пьян, чтобы надеяться на свои тяжелые кулаки? Он опасался своих собутыльников? Допустим. Но в таком случае, зачем пьянствовать с людьми, которым не только не доверяешь, которых опасаешься? Зачем приглашать опасных людей в свой дом? Все это очень нелогично, даже с поправкой на замутненное алкоголем сознание бывшего боксера.
Руденко посмотрел на припорошенный тополиным пухом труп так внимательно, словно надеялся, сей же момент услышать от Осипова ответы на свои вопросы. Тишина. М-да, народ, как всегда, безмолвствует. Видимо, события развивались так: Осипова несколько раз ударили тяжелым предметом по лицу и по затылку.
А затем, когда он оказался на полу, отключился, дважды пырнули кухонным ножом в левую сторону груду, в аккурат под пятое ребро. Нож, то есть орудие убийства, не найден. Тут возможны варианты. Скорее всего, его кинули в мусорный бак или опустили под решетку ливневой канализации.
Мотив убийства? Десять к одному: бытовая ссора. Собутыльники не сошлись во мнении по такому важному вопросу, кому достанется последний глоток водки. Короткое выяснение отношений и трагический финал застолья: парка дырок в груди Осипова.
Со своего места Руденко видел, как незапертая дверь квартиры открылась. В прихожую неуверенно ступил щуплый молодой человек в короткой серой курточке, очках в металлической оправе. Видимо, тот самый Пикин, собутыльник. Участковый Поваляев, вошедший следом, толкнул Пикина в спину, придавая его движению некоторое ускорение и правильное направление.
* * *
– Вон, в комнату, – рявкнул Поваляев и снова толкнул Пикина.
– Здравствуйте.
Пикин шагнул в комнату, глянул на труп Осипова и быстро отвел глаза в сторону.
– Садись, – Руденко рукой показал Пикину на свободный стул и кивнул участковому. – Ты пока на кухне посиди. И дверь закрой.
Поваляев снял фуражку, понимающе кивнул и плотно закрыл за собой дверь. Пикин повернул стул спинкой к покойному Осипову, осторожно присел на край сиденья, выставил голову вперед, отвел локти за спину, поджал ноги под себя.
– Ты Пикин?
Руденко внимательно осмотрел скорчившегося на стуле молодого человеке, сразу решив, что Пикин не убийца. Покойный боксер, даже будучи совершенно пьяным, легким шлепком по заднице отправил бы такого кандидата в глубокий нокаут.
– Да, я Пикин, – пискнул Пикин.
– Чего морщишься, нехороший тут запах? Тяжелый, да?
– Тяжелый, – тонкие ноздри Пикина затрепетали, глаза за стеклами очков увлажнились. – Пахнет нехорошо, и мухи со всех помоек налетели.
– А в субботу тут была веселая вечеринка, – Руденко улыбнулся. – Жалко, что ты не заглянул. Или я не прав? Ты заскочил сюда, ну, на огонек?
– Меня тут не было.
Пикин вытер мокрый лоб рукавом курточки.
– Врешь, – продолжая доброжелательно улыбаться, Руденко покачал головой. – Ты алкаш. А все алкаши склонны к вранью.
– Я не алкаш, – не согласился Пикин. – Просто мне не повезло в жизни: я женился не на той женщине. Моя жена шлюха, – Пикин вдруг испугался последнего слова. – То есть, как бы это правильно, грамотно сказать… Она ведет распутный образ жизни. Поэтому я иногда выпиваю.
– А работать ты не пробовал?
– Пробовал, – кивнул Пикин. – Не раз пробовал. Но не нашел счастья в труде.
– Ничего, дурные привычки излечимы. Возможно, тюрьма и зона пойдут тебе на пользу. Там ты забудешь о своей жене шлюхе, о пьянстве и, наконец, найдешь счастье в тяжелом труде. Спрашиваю ещё раз: ты был здесь в субботу?
– Был. Только я его не убивал. Клянусь. Вы мне верите?
– Разумеется. Не верю.
– Осипов сам покончил с собой. Он сколько раз говорил, что жить не хочет. Сам говорил: я повешусь или зарежусь. Он сам это над собой сотворил.
Руденко хохотнул.
– Согласен с тобой. Осипов сам себя избил. Затем лег на пол и ножом нанес себе два ранения в грудь. Каждое из которых – смертельное. То есть второй раз зарезал себя, будучи уже мертвым. Затем он выбросил нож, вернулся на прежнее место, – Руденко кивнул на труп. – И умер в третий раз. Уже окончательно. Так ты представляешь себе эту сценку?
Пикин пожал плечами и опустил взгляд.
– Думаю, тут, в этой комнате, полно твоих пальцев, – Руденко закинул ногу на ногу. – Так что, не беспокойся, обвинение в убийстве тебе предъявят в установленный законом срок.
Пикин вздрогнул, как от удара.
– Я не убивал.
– Это ты уже говорил. Предупреждаю, ещё слово лжи, и я вырву тебе челюсть. Каково жить без челюсти? Хреново без нее. Ну, со временем ты научишься разговаривать через задницу, а пищу станешь употреблять только в протертом виде. Жевать-то все равно нечем.
– Я скажу… Я хочу… Я не вру…
Руденко с брезгливой ухмылкой разглядывал пребывавшего в полуобморочном состоянии Пикина. Капли пота скатываются с острого подбородка на куртку, глаза сияют лунатическим блеском, руки дрожат, как в ознобе. Того и гляди, изойдет потом и превратится в соленую лужицу на полу или замертво свалится со стула. То ли и дальше продолжать этот разговор, то ли отложить это дело до лучших времен, а Пикину принести кислородную подушку.
– Успокойтесь, Пикин, – сказал Руденко. – Расскажите все по порядку.
– Я в субботу пришел сюда, – тополиный пух попадал в рот, мешал говорить. – Дело было во второй половине дня. Осипов открыл дверь, я прошел в комнату. А за столом сидит мужик, совершенно незнакомый. Тут я его раньше никогда не видел. Видимо, промеж них был какой-то разговор. Осипов был чем-то расстроен, но он обрадовался моему приходу. Но я-то понял, что пришел не вовремя.
– Но ты ведь не ушел сразу? Ты посидел здесь какое-то время?
– Посидел минут десять. Но с моим появлением разговор оборвался. Так, общие фразы только. Ясно, что я лишний. Осипов называл гостя Максимом. И фамилию называл… Только я забыл. Может, потом вспомню. Мне налили полстакана, и я пошел по своим делам. А тот мужик, когда я вышел в прихожую, встал из-за стола, подошел ко мне и так тихо говорит: ты, мол, здесь не был, никого не видел, понял? Я говорю, понял. Вот и все.
– Ты хорошо запомнил этого мужика?
– Хорошо запомнил, – Пикин часто закивал головой. – Лет тридцать с небольшим. Довольно крупный. Похож на спортсмена. Плечи широкие, подтянутый. Одет чисто…
– Вот видишь, посвежела твоя память. Сейчас проедешь с ними на Петровку. Все расскажешь подробно. Посмотришь альбомы. Может, узнаешь этого мужика.
– Вы меня арестовываете?
Голос Пикина сделался совсем тонким, беспокойные руки бессильно упали вниз.
– Не арестовываю, а задерживаю до выяснения обстоятельств.
– А я вспомнил фамилию этого гостя, – скзал Пикин. – Тарасов – вот его фамилия. Осипов один раз назвал его по фамилии. Может, хотел, чтобы я фамилию запомнил.
* * *
Закончилось второе действие спектакля. Со сцены раздались финальные реплики артистов, занавес опустился, наступила тишина. Локтев, уже уставший волноваться, пребывал в полуобморочном состоянии. Он, облаченный темный фрак и галстук бабочку, привалившись спиной к стене, стоял за кулисами, то и дело подносил ко лбу пропитанный солью платок.
Вспотевший от жары, от духоты, от затянувшегося напряженного ожидания, Локтев ждет приговора зрителей, ждал решения своей судьбы, судьбы своей пьесы. Рядом, не находя себе места, молча метался из стороны в сторону главный режиссер Старостин. Он тоже ждал приговора своему спектаклю.
Зал, возможно, разочарованный, возможно, потрясенный, молчит. Тишина, гулкая тишина. Шаги актеров, чей-то шепот, короткие неразборчивые реплики.
Первые хлопки зала, робкие, одиночные. Но шум быстро растет, раздаются настоящие аплодисменты. Они становятся громче, прокатываются эхом по залу. Занавес поднимается. На поклон спешат артисты, за ними на сцену выскакивает главный режиссер, нутром почувствовавший: это успех. Не просто успех, триумф, фурор.
«Автора, автора», – кричат из зала.
Режиссер, раскрасневшийся от долгих поклонов, выбегает со сцены за кулисы, хватает Локтева за рукав фрака, тянет за собой: «Ну, пойдемте же, Алексей Павлович, пойдемте». Локтев выходит из своего закутка к актерам. На секунду ослепший от яркого света софитов, он, не зная, что в данный момент прилично делать автору пьесы, долго стоит посередине сцены. Наконец, отвешивает публике три глубоких поклона, снова наклоняется вперед, принимая букет желтых роз.
Зрители, продолжая аплодировать, поднимаются со своих мест. Но тут в зале происходит какое-то неуловимое движение, какая-то невидимая перемена, вдруг раздается знакомый голос. Женщина из первого ряда, возбужденно жестикулируя, что-то громко кричит.
Аплодисменты стихают, женщина продолжает кричать. Локтев вглядывается в зал, вслушивается в слова. Женщина подходит к сцене, показывает пальцем на Локтева. «Он убийца, а не драматург. Он убийца», – кричит женщина.
Локтев выпускает из рук букет желтых роз, он узнает в женщине недавнюю ночную пассажирку.
«Он убил человека. Я сама видела, как он убил человека», – продолжает надрываться женщина. Крик тонкий, истошный, его и на улице, должно быть, слышно. Артисты разбегаются в стороны. Только режиссер Старостин, не понимая, в чем дело, стоит рядом и удивленно пучит глаза. Наконец, он хватается за лысую голову, закрывает ладонями уши и, быстро двигая короткими толстыми ножками, мчится вслед за артистами.
На сцене остается один Локтев. Он хочет уйти, но ноги не слушаются. В зале шум, свист, крики. «Он убийца», – кричат люди. Локтев бледнеет, он плачет, хочется провалиться сквозь землю, хочется умереть. «Убийца, убийца, – кричат зрители. – Верните наши деньги…»
…Локтев сорвал с себя простыню, сел на разложенном диване, потряс головой, силясь стряхнуть с себя ночной кошмар, клочья дремоты. Который час? Он взглянул на настенный часы, ровно полдень. Солнечный свет пробивается сквозь плотно задернутые занавески. Локтев провел ладонью по липкой потной груди, поднялся на ноги, снял трубку телефона, набрал номер и, услышав знакомый голос режиссерской секретарши, попросил позвать Старостина к телефону.
– Герман Семенович, я не смогу сегодня придти, – сказал Локтев вместо приветствия.
– Это ещё почему? – трубка фыркнула. – Сегодня же художественный совет, мы утверждаем твою пьесу. Ты помнишь об этом?
– Помню, поэтому и звоню.
– Ты что, плохо себя чувствуешь?
– Да не то, чтобы плохо, – Локтев постарался собрать мысли, но они разбегались, как тараканы. – Но и не очень хорошо.
– Не очень хорошо, – передразнил Старостин. – Сегодня такой день, такой день… Решающий для тебя день. Ты должен быть в театре, как штык. Понимаешь?
– Понимаю, но я не могу. Может, вы все решите без меня?
– Твою пьесу могут не утвердить, – голос Старостина потускнел. – Спросят: где автор, где наш драматург. Смотри, конечно, но на твоем месте, я бы пришел и, будучи даже мертвым.
– Я, правда, не могу, хотя ещё и не мертвый. Я заболел.
– Ну, ты и выбрал день, чтобы заболеть. А подождать не мог с этим делом?
– Прошу вас, замолвите за меня словечко.
– Боюсь, члены худсовета тебя не поймут.
Старостин бросил трубку.
Локтев принял холодный душ, растерся ворсистым полотенцем. Он прошел на кухню, выпил чашку кофе и попытался съесть пару бутербродов, но еда не лезла в горло. Надев темные брюки и светлую безрукавку, он запер квартиру, спустился вниз. Добежав до остановки, вскочил в отправляющийся троллейбус, покативший по раскаленной солнцем улочке.
* * *
Войдя на территорию гаражного кооператива «Чайка», Локтев бросил взгляд на дремавшего в будке охранника, прошагал вдоль длинного ряда гаражей, упиравшегося в глухой железобетонный забор. Он открыл навесной замок своего бокса и, распахнув настежь обшитые оцинкованным железом ворота, на минуту остановился, разглядывая передок «шестерки».
Надо же, правая фара разбита. Небольшая вмятина на решетке радиатора, переднем бампере и ещё на капоте. Мелкие брызги крови на лобовом стекле. Нынешней ночью, когда Локтев загонял машину в гараж, он даже не нашел сил, чтобы осмотреть повреждения.
Скверно. Значит, осколки фарного стекла остались на месте столкновения. Если так, то милиции известно, какую именно машину следует искать. Но это далеко не простая задача: найти в Москве «шестерку» с характерными повреждениями, проще иголку в стоге сена сыскать.
И свидетелей не было. Если не считать той беспамятной истеричной пассажирки, сбежавшей неизвестно куда. Если она, поразмыслив на досуге, все-таки решит обратиться в милицию, тогда… Что, собственно, тогда произойдет? Для начала Локтева задержат и поместят в следственный изолятор, в переполненную камеру, где в нестерпимой жаре и духоте спят, жуют, испражняются герои нашего времени: бандиты, воры, аферисты, убийцы.
Локтев, покорный злому року, разуется, во все сознается, все подпишет и станет ждать суда. Долгие недели, долгие месяцы, ждать и ждать, мечтая только об одном: скорее попасть из ада тюремной камеры на зону.
Разумеется, судьи примут во внимание, что Локтев за свою жизнь ни разу не привлекался, даже приводов не имел. Интеллигент, высшее гуманитарное образование, драматург, пытается сочинять пьесы для московских театров. Правда, ни одну из этих пьес ещё не поставили, но это к делу не относится…
Судьи все учтут и сбросят годик лагерного срока. А дальше? Колючая проволока, трехметровый забор, запретная зона, долгий срок, испорченное пищеварение, потерянные зубы. Туберкулез, в конце концов. Возможно, он выживет, выкарабкается, вернется обратно. Без здоровья, без денег, без веры в себя, но вернется.
Но куда, к кому, к чему он вернется? К разбитому корыту, к разбитой жизни. Конец карьере драматурга, тщеславным амбициям. Всему конец. Короче – мрак. А что, есть другие сценарии собственного будущего? Нет, других вариантов не видится, только этот, единственный, – честно признался себе Локтев. Но о нем лучше не думать.
Женщина была слишком напугана, потрясена происшедшим. Даже если она и решит идти в милицию, то наверняка сообщит лишь самые общие приметы водителя. Сколько в городе мужчин лет тридцати-сорока, русоволосых, чуть выше среднего роста? Тысячи, десятки тысяч. Ищи, свищи… Женщина была не в том состоянии, чтобы запомнить номер машины, тут уж не до номера.
Если бы не было пассажирки, не было этой бестолковой бабы… Тогда и карты в руки, тогда бы вышел совсем другой расклад. Машину следовало бы оставить, где угодно, в любом районе города, добраться до дома на такси.
А наутро отправиться в милицию, написать заявление об угоне: вечером не отгонял машину в гараж, оставил её у подъезда, утром транспортного средства на месте не обнаружил. Что-нибудь из этой оперы. Машину украли, затем преступники совершили наезд на пешехода и, напуганные случившимся, бросили её прямо на дороге. А Локтев в это время спал и видел двадцать седьмой сон. Но женщина есть, в любую минуту она может отыскаться, тогда обман откроется… И уже не жди поблажек ни от следствия, ни от суда.
Боже, кажется, все это происходит вовсе не с ним, с другим посторонним человеком. Проклятье, только одна минута трусости. Только одна минута малодушия – и вся прожитая жизнь летит к черту.
Но сейчас не до рассуждений.
Локтев достал с металлической полки мягкую тряпку, насыпал из пачки стирального порошка в десятилитровое ведро. Он помоет машину, тщательно, от и до. Затем отправится в магазин и вернется сюда с новой фарой, краской и распылителем. К вечеру, пожалуй, успеет выправить решетку радиатора, вмятины на капоте и переднем бампере. Небольшая рихтовка – и готово. И фару ещё успеет поставить. А завтра перекрасит машину из красного, скажем, в светло бежевый цвет. Неброско и смотрится.
Локтев подхватил ведро и отправился на колонку набирать воду. Когда он вернулся с ведром полным воды, у распахнутых ворот гаража топтались два милиционера. Старший сержант и лейтенант. Локтев остановился, поставил ведро на землю. Лейтенант упер ладони в бока и недобро глянул на Локтева.
– Ваша машина?
Локтев, уже понявший, что случилось самое худшее из того, что вообще могло случиться, молча кивнул головой.
– Документы сюда, – лейтенант протянул вперед руку.
Покопавшись в кармане, Локтев передал милиционеру паспорт и водительские права. Подумав секунду, выплеснул на землю ведро воды, вытер руки о рубашку.
– Запирайте гараж и следуйте за мной к машине, – приказал лейтенант.
…Локтева продержали в отделении милиции двое суток и выпустили под подписку о невыезде. На трех допросах, Локтев честно рассказал все, что мог рассказать.
– Что мне теперь делать? – спросил Локтев у молодого следователя.
– Будьте дома, я вас скоро вызову.
Следователь обманул Локтева. Больше в отделение милиции его не вызывали. Зато через четыре дня позвонил незнакомый мужчина, представился инспектором МУРа Максимом Юрьевичем Руденко и велел прибыть к десяти утра следующего дня по адресу, знакомому любому москвичу.