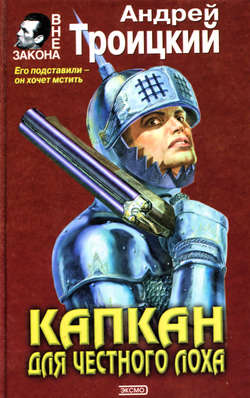Читать книгу Капкан на честного лоха - Андрей Троицкий - Страница 2
Часть первая: Побег
Глава вторая
ОглавлениеВ этот день зэков после подъема, переклички и завтрака не погнали на работы, а снова заперли в бараках. Соболев ждал известий и думал, что слухи о побеге уже расползлись по всей колонии, а заключенные сегодня чувствуют себя именинниками.
Всю первую половину дня Соболев читал донесения стукачей, знакомился с делами беглецов. Он надолго задумывался, разглядывая пустое голое пространство двора перед административным корпусом. Кажется, картина ночного происшествия начала понемногу вырисовываться. Однозначно, это не побег на рывок, не на удачу. По всей видимости, преступление хорошо спланировали и подготовили.
В медсанчасти на ночь остались запертыми пять зэков. Двумя-тремя днями раньше кому-то из них удалось пронести из производственной зоны в жилую, а затем и в больничку пилку от ножовки и металлический штырь, именно эти предметы утром обнаружила во дворе охрана. Припасенным инструментом запертые зэки продолбили торцевую стену медсанчасти, выходившую на помойку на задах столовой.
Пожалуй, ничего удивительного в том нет, что металлический штырь и зубило попали с промки в жилую зону. Ежедневно вахту минуют около трех тысяч зэков, идущих на работу и обратно. Все проходят шмон, но запрещенные предметы, даже оружие, самодельные ножи и заточки, в жилую зону все равно проносят.
Не удивительно и то, что в торцевой стене медсанчасти, на вид толстой, массивной, проделали лаз. Большинство бараков сложены из силикатного кирпича, стоят на основательном глубоком фундаменте. Но барак медсанчасти построили в тысяча девятьсот лохматом году, стены сделаны из шлака и досок, которые внизу прогнили, все на соплях держится. Посильнее ткни в стену кулаком – получится дырка.
Словом, работы было немного. Выпилили небольшой деревянный квадрат под кроватью Климова такого размера, чтобы человек мог ползком проползти. Штырем раздолбили слежавшийся за долгие годы, смерзшийся шлак. С этим в две ночи управились. Перед утренней проверкой, сгребали выделанный шлак, засыпали на прежнее место, вставляли выпиленные доски в пазы. В самую последнюю очередь выпилили доски из наружной стены.
Выбираешься из барака наружу, а место глухое, закрыто от обзора с вышек мусорными баками и кучами гниющей ещё с прошлой осени свекольной и морковной ботвы. Оттуда до предзонника рукой подать. Порезали проволоку кусачками точно напротив сторожевой вышки, проползли пятнадцать метров запретки, забросили на забор веревочную лестницу с крюком.
В это время уже зажгли прожектора на вышках, да ещё белые ночи, светло, словно ясным днем. Побег происходил на глазах сержанта Балабанова, дежурящего в это время на крайней угловой вышке. Да зэки особенно и не старались таиться, не вжимались в рыхлую, вспаханную землю, когда ползли через запретку, прицельно, не торопясь, забрасывали на забор крюк. Потому что Балабанов – свой, потому что ему заплачено. За услуги. Вот же сволочь, солдат…
Первый, кто влез по лестнице на забор, порезал продольные нитки проволоки кусачками, спрыгнул вниз с другой стороны. За ним последовали остальные. Веревочную лестницу охрана сняла с забора только утром. В том месте, где случился побег, забор жилой зоны граничит с зоной производственной, которая ночью не охраняется.
Утром, когда беглецов хватились, пустили по следам собаку, выяснилось, что на промке, на первом этаже недостроенного мебельного цеха, зэки устроили тайник. Скорее всего, в нем прятали небогатый харч, купленный в ларьке, сушеные пайки хлеба. Дальше маршрут беглецов прошел сквозь производственную зону, до дальнего забора. Там поставили друг на друга козлы, положили доски, перемахнули забор.
Следующие двести метров ползли на брюхе в сторону дальней поселковой окраины. Затем встали в полный рост и побежали.
Уже находясь вне поля зрения охраны, спокойно сели в «газик», кем-то оставленный за околицей поселка – и деру, уже на четырех колесах. Номер неизвестной машины, простоявший в непосредственной близости от зоны едва ли не целые сутки, как ни странно, никто не догадался записать или запомнить, хозяина никто не кинулся искать. Вот тебе и бдительность.
Развилки дорог на Ижму и Кедвавом перекрыли где-то в четыре тридцать утра. До этого времени, если в пути ничего не случилось с «газиком», беглецы запросто могли проскочить. Так что, следы их где-то потерялись. Временно потерялись, – утешил себя Соболев.
Пособник беглецов сержант Балабанов полностью изобличен и понесет наказание. Он недолго отпирался, утверждая, что во время дежурства его неожиданно сморил сон. Балабанов показывает, что вошел в сговор с неким мужчиной, который заплатил за то, чтобы сержант буквально на пять минут ночного дежурства потерял зрение и слух. Хорошо заплатил, Балабанов поднялся аж на пять штук зеленых. Деньги были переданы ему за сутки до побега, когда он находился в увольнении и отирался в жилом поселке.
Личность неизвестного мужчины установить не удалось. Со слов Балабанова составили его словесное описание, весьма расплывчатое. Возраст средний, рост средний, волосы с проседью, лобные залысины, особых примет не имеет, приезжий, как понял Балабанов, издалека. Людей подходящих под это описание и в поселке наберется добрых два десятка. Темнит сержант.
Но чутье и опыт подсказывали Соболеву, что этот мужик – фигура вполне реальная, не мифическая. В общую схему вписывается. Возможно, именно этот человек или его сообщник оставили за околицей «газик». Соболев пробежал глазами неровные строчки показаний Балабанова.
Сержант пишет, что не мог отказаться от огромной суммы, потому что мать его больна, ей нужна срочная операция в столичной клинике. Про мать и её болезнь, разумеется, вранье.
Такова уж поганая человеческая натура: прятать самые низменные мысли и поступки за красивые слова. В этот фантик завернута горькая пилюля правды. А правда в том, что Балабанов бескорыстно любит не мать, якобы смертельно больную, а зеленую капусту с портретами американских президентов. Не случайно он путается в дальнейших показаниях. То утверждает, что спрятал валюту в лесу, в дупле дерева и забыл место, где устроил тайник.
Позже меняет показания, утверждает, что собрал посылку на родину, сунул в картонный ящик пластиковый пакет с деньгами, герметично заклеенный утюгом. Посылку якобы отправил с почты вчерашним утром. Проверили, оказалось, Балабанов действительно отсылал в Брянскую область, по месту своей прописки, какую-то посылку с уведомлением. Как назло, эта чертова посылка ушла по месту назначения, вечером вчерашнего дня на Сосногорск отправили почтовую машину.
Ладно, с деньгами Балабанова оперативники разберутся. Нужно сосредоточиться непосредственно на побеге, на личностях беглецов.
* * *
К четырнадцати ноль никаких известий из оперчасти не поступило. Соболев, уставший ждать, надел шинель, отказался от казенного обеда и отправился перекусить к себе домой. Не хотелось разговаривать ни с кем из сослуживцев, отвечать на вопросы, скрывать свое поганое настроение. Но плохие известия разлетаются быстро.
Жена Вера Николаевна, разумеется, уже знала о ночном побеге все то, что знал её муж. Но не стала приставать с вопросами, просто поставила перед мужем тарелку огнедышащего борща. Соболев взял ложку и стал глотать борщ, даже не замечая его вкуса. На второе было вареное мясо с гречневой кашей.
Соболев быстро справился с едой, отложил вилку и печальными глазами стал смотреть через окно кухни на сотни раз виденную картину: вышки, глухой забор, проволоку. Тоска… Так ли много лет осталось ему, Соболеву, жить на этом свете? Неужели весь оставшийся отрезок жизни придется наблюдать все ту же опостылевшую картину?
Вера Николаевна словно прочитала мысли мужа.
– Когда ждешь комиссию из министерства юстиции?
– Через четыре дня прибудут, – без запинки ответил Соболев.
Вера Николаевна кивнула, но не удержалась от нового вопроса.
– И Крылов приедет? – спросила жена.
– Обязательно, – Павел Сергеевич взялся за ручку серебреного подстаканника, без всегдашнего удовольствия втянул в себя крепкий чай. – Куда же ему деваться?
До приезда комиссии он считал дни, лелеял в себе кое-какие надежды. Так было до сегодняшнего утра, до побега. Не без оснований Соболев рассчитывал получить повышение за безупречную работу, и, дай Бог, если лучшее сбудется, переехать с семейством в Москву.
Возглавлял комиссию Евгений Максимович Крылов, старый приятель Соболева, с которым тот свел знакомство ещё в молодости, во время учебы в Высшей школе МВД. Несколько месяцев назад в телефонном разговоре Крылов сказал, что в Москве рассматривают вопрос о переводе Соболева в министерское управление. Мол, ты свой срок на зоне отбарабанил, пора на спокойную солидную работу. Весной проверка в твоем хозяйстве, по её итогам, а итоги, несомненно, будут положительные, просто-таки блестящие, составят представление о переводе Соболева в Москву.
Видимо, сам Крылов замолвил за старого приятеля словечко перед начальством, да есть в Москве, у Соболева ещё пара влиятельных друзей. Но теперь вся эта чехарда с приемом комиссии совсем не ко времени. Лучше бы отложить это дело хоть на пару месяцев, но тут от Соболева ничего не зависит. Придется писать рапорт, как-то объяснять случившееся.
Вот если бы удалось найти хоть последних беглецов по горячим следам… Вот тогда надежды на перевод в Москву обретали некую основательность, правдоподобность. Павел Сергеевич встал из-за стола и пошел в прихожую, обуваться.
Вернувшись в свой кабинет, позвонил в оперчать, спросил, нет ли новостей. Но уже по голосу майора Ткаченко, по первым его словам понял: новостей нет, ни хороших, ни плохих. Чтобы отвлечься от дурных мыслей, Соболев постарался сосредоточиться на работе.
Итак, схема побега более или менее ясна, но личности беглецов вызывают вопросы. Тут ничего не клеится, не складывается.
Зэки не воле не были знакомы, на зоне никогда не поддерживали друг с другом отношений. Вопрос: когда же они вошли в сговор? Уже в медсанчасти? Отпадает. Ведь побег готовили загодя. Пронесли инструмент, устроили тайник на производственной зоне. А уж про тот «газик» и поминать не стоит.
* * *
Соболев стал листать дела, выписывая в блокнот фамилии и имена преступников, категорию их учета и время окончания лагерного срока. Первый – Хомяков Сергей Васильевич, кличка Хомяк. Рецидивист, имеет три судимости, обвиняется в разбое и грабежах, срок заканчивается через пять с половиной лет. От роду тридцать восемь. В медсанчасть попал, получив ножевое ранение в плечо.
Своего обидчика операм не называл, сказал только, что когда оклемается, сам его попишет. Впрочем, веры Хомяку нет, он из тех блатарей, кто сам себе глаз вытащит и на жопу натянет, лишь бы неделю в больничке отлежаться. Очевидно, ножевое ранение в плечо – не более чем членовредительство. И надо было мастырщика Хомяка запереть не в медсанчасти, а в холодном кандее суток на пятнадцать.
Лудник Георгий Афанасьевич, рецидивист, пять судимостей, кличка Морж. Обвиняется в грабеже и убийстве, сорок четыре года от роду, срок заканчивается через пять лет. По всей видимости, именно Хомяков и Лудник стали идейными вдохновителями и организаторами побега. Оба с ранней юности не вылезают из тюрем и лагерей, оба в авторитете, оба способны на решительные, отчаянные поступки.
Цыганков Павел Леонидович… Соболев отложил в сторону ручку, надо же Цыганков – его тезка. Этому обстоятельству Соболев почему-то удивился, долго тер переносицу пальцем, наконец, перевернув страницу блокнота, продолжил делать выписки. Кличка Цыганков – Джем, двадцать четыре года, рецидивист, первый раз судим за грабеж, отбывал срок в колонии для малолетних. Обвиняется в двойном убийстве. Срок заканчивается через двенадцать лет.
Этот Цыганков – личность хорошо знакомая. Несмотря на молодость, закоренелый преступник, злостный нарушитель лагерного режима, отрицала, не выходящий на работы.
Цыганков не вылезал из карцера или барака усиленного режима. Наконец, терпение Соболева кончилось. Из подобных Цыганкову отморозков, нарушителей составили этап, который на днях был направлен в крытую тюрьму под Воркутой. Цыганков прекрасно знал, какие прелести ждут его в воркутинской «крытке». В последний момент хитрый Джем сумел спрыгнуть с этапа.
В карцер, где сидел Цыганков, какой-то гад передал сигарету с фильтром. Хождение по зоне таких сигарет строго запрещено, они изымаются при досмотре посылок. Джем спокойно, себе в удовольствие скурил сигарету, поджег фильтр с одной стороны, прижал его каблуком к полу. Раздавленный оплавившийся фильтр затвердел, сделался острым, как бритва.
Этой штукой Цыганков продольно в двух местах разрезал себе живот, а затем вскрыл вены на руках. В карцере начался кипеш: заключенный покончил собой, испуганные контролеры метались по коридорам и орали: «врача, врача скорее». Цыганков тоже визжал, как свинья: «Я умою этот околоток кровью. Смотрите, суки, бобики драные, как я подыхаю».
Но Цыганков и не думал подыхать. Он-то знал, что раны не опасны для жизни, крови из порезанных предплечий и живота выйдет немного, ну грамм сто тридцать. Кровь быстро запечется, станет свертываться.
Зато зрелище ещё то, не для слабонервных. Вот ты попробуй вскрыть вены, сидя в ванне, или, опустив разрезанные предплечья в тазик с теплой подсоленной водой. Да ещё в нагрузку перед тем, как залезть в воду, прими горсть снотворного. Вот это будет настоящее стопроцентное самоубийство.
Так или иначе, Цыганков добился своей цели – этап ушел без него. В день так называемого покушения на самоубийство с ним возился зонный врач Пьяных. На второй день из района вызвали хирурга. На третий день приехал психиатр, перед которым оклемавшийся Цыганков ломал комедию: глотнув хозяйственного мыла, пускал изо рта обильную пену, симулировал эпилептический припадок. Вместо крытой тюрьмы Цыганков получил чистую больничную койку в медсанчасти и усиленное питание в связи с кровопотерей.
Сволочь, пробы ставить негде на этом Цыганкове.
По наблюдениям Соболева те зэки, кто окончательно решил свести счеты с жизнью, не вскрывают себе вены. Самоубийцы в девяноста случаях из ста вешаются, выбирая местом своей смерти сортир, подсобку каптерки или другое или какое-то уединенное помещение в производственной зоне.
С этой троицей все более или менее ясно. Но вот дальше – полный туман.
* * *
Урманцев Игорь Михайлович, сорок две года, рецидивист, четыре судимости. Кличка Солома. Отбывал срок за вооруженный налет на инкассаторскую машину, осуществлявшую перевозку денег.
Крови на Урманцеве нет. Следствием доказано, что двух инкассаторов убивал его подельник. Но тут опять загвоздка, Урманцеву осталось сидеть одиннадцать месяцев. С чего бы вдруг Соломе уходить в бега, искать амнистии у зеленого прокурора? Мало того, последний год Урманцев был пропускником, то есть бесконвойным заключенным, без охраны ходившим на работу в жилой поселок. О такой жизни мечтали многие зэки. Бесконвойные не бегут.
Перед тем, как залечь в больницу с приступом язвенной болезни, Урманцев в подсобном хозяйстве при зоне чистил коровник и свинарник. На телеге, запряженной старым мерином Казанком, вывозил свиной и коровий навоз в поселок, на огороды жителей. Разбрасывал это добро поверх снега, чтобы с талой водой удобрение ушло в почву.
Здешняя земля сплошной суглинок, холода. Если почву не удобрять, на огородах и лопухи не вырастут. Правда, и с навозом здесь ничего путного не росло, но это уже другой разговор.
Урманцев ежедневно имел с десяток возможностей бежать, но не воспользовался ни одной. Выбрал почему-то самую трудную и опасную стезю. Бежать непосредственно из зоны. Почему? Разумного ответа нет. Ведь за побег в составе группы к его оставшимся одиннадцати месяцам напаяют годков пять, а то и все восемь. Что же двигало Урманцевым? Решил другим зэкам компанию составить? Соболев усмехнулся. Шутки шутками, но разумного ответа нет.
Наконец, последний беглец.
Соболев выписал в блокнот: Климов Дмитрий Юрьевич. Тридцать восемь лет. Ранее не судим. Осужден на двенадцать лет за убийство женщины. До конца срока сталось девять с половиной лет.
В прошлом столичный бизнесмен, на зоне мужик, клички не имеет. В лагере находится больше года. Сначала работал в тарном цехе, сколачивал ящики, но там у него не выходила норма. Он составил просьбу на имя начальника оперчасти, просил перевести его на строительные работы, поскольку знаком со специальностью каменщика. Ткаченко просьбу удовлетворил.
Поначалу Климов и там не тянул норму – одну целых две десятых кубометра кирпичной кладки за смену. Но постепенно набил руку, норма пошла. Бригадир каменщиков дал хороший отзыв о работе Климова.
Если бугор записывает на Климова один и два десятых кубометра кладки, значит, Климов выдавал не меньше, чем один и четыре. Это много. А разница приходилась на какого-нибудь авторитета, приписанного к бригаде, который належивал бока и плевал в потолок, пока мужики упирались.
Лагерного режима Климов не нарушал, даже на построение ни разу не опоздал, сигналов от стукачей на него не поступало. Поэтому как заключенный, прочно вставший на путь исправления, Климов получил за полгода два личника, два длительных свидания с женой. И вот на тебе, побег.
Климов обычный бытовик, он не имел ничего общего с уголовниками рецидивистами. По их понятиям Климов – ушастый фраер, порченый штымп. Такого персонажа, чуждого им по духу, по понятиям, блатные никогда бы не взяли с собой.
Впрочем, есть одно едиственное объяснение того, как Климов попал в эту компанию. Фартовые навешали ему лапши на уши, а воздух близкой свободы ударил в голову, на самом же деле взяли Климова вместо коровы. Возможно, рецидивисты рассчитывали, что придется долго плутать по лесотундре, сутками обходиться без пищи. И когда станет совсем худо, можно зарезарть Климова, разговеться его мясцом.
– А из него хорошая корова получится, – вслух выразил мысль Соболев.
Он долго разглядывал фотографию Климова, вклеенную в личное дело. Приятное лицо, нет болезненной худобы. Соболев поморщился, живо представляя сцену предстоящей расправы над Климовым, закопченный котелок над костром, а в нем кипящее варево из человечины.
Соболев закрыл дела заключенный, сложил их стопкой на краю стола, глянул на круглые настенные часы. Маленькая стрелка приближалась к пяти часам. Тут тренькнул телефон внутренней связи, Соболев сорвал трубку, не дожидаясь второго звонка. Голос майора Ткаченко звучал взволнованно.
– Только что со мной связался капитан Бойков. Так вот, дело какое…
Ткаченко задумался, не зная с чего начать.
– Ну, докладывай, не тяни нищего за нос, – Соболев встал с кресла.
– На въезде в поселок Молчан, это от нас приблизительно в ста пятидесяти километрах с мелочью на северо-запад, найден труп участкового инспектора Гаврилова, – отрапортовал Ткаченко. – Труп уже окоченел, видимо, убили его утром. Нанесли несколько ударов по голове тяжелым предметом. Сбросили тело в овраг, кое-как сверху закидали ветками. Поэтому обнаружили тело только сейчас, да и то случайно.
– Каким образом обнаружили?
– Солдат из кузова грузовика углядел ноги милиционера. Торчали из кучи хвороста. У Гаврилова похитили пистолет Макарова и документы.
– Думаешь, наши постарались?
– Однозначно, – подтвердил Ткаченко. – Есть показания местных жителей. Примерно в полдень по поселку проезжал газик защитного цвета, металлический верх. В машине несколько мужчин.
– Немедленно выезжай на место, – скомандовал Соболев. – Сам выезжай, понял? Собери группу поисковиков, возьми собаку, рацию.
– Слушаюсь.
Соболев неожиданно для себя заговорил с кумом не штампованными казенными фразами, а простыми человеческими словами.
– Боря, сообщай все новости, – сказал Соболев. – Радисту в оперчасть передавай. Сам знаешь, старик, нам до зарезу нужно их взять. Не живыми, так мертвыми. На носу эта комиссия из минюста, будь она неладна. Короче, на тебя вся надежда. И не жалей этих гадов. Добро?
– Эти не уйдут, – ответил Ткаченко.
* * *
Грузовик с военными вышел из ворот зоны ровно в семнадцать двадцать. Температура поднялась до пяти градусов тепла, теплынь установилась такая, что ныли ноги. Последний снег таял на обочинах, темнел на глазах, доживал последние дни в оврагах, грунтовые дороги превращались в жидкое месиво из грязи и воды.
Видавший виды грузовик, в кузове которого тряслись два прапорщика, радист, сержант срочник, и младший лейтенант, проводник собаки, то вползал в хилые северные лесочки, то с натужным ревом выбирался на открытое, ровное, как стол, пространство, тащился к своей неблизкой цели. И хорошо ещё ни разу не застрял, не утонул в глубоких колеях. Кум, сидевший в пропахшей соляркой кабине рядом с вцепившимся в баранку молодым водителем, смолил одну сигарету за другой.
Между перекурами Ткаченко вытаскивал из матерчатого чехла на ремне алюминиевую фляжку, сосал из горлышка воду, снова лез в карман пятнистого камуфляжного бушлата за сигаретами. Кум кашлял, сплевывал под ноги мокроту.
Тяжелая муторная дорога измотала Ткаченко. Он часто поглядывал на наручные часы «Ракета» на браслете из нержавейки и тяжело вздыхал. Дважды дорога пересекла маленькие, утопающие в грязи, деревеньки. Но на улицах не встретился ни один прохожий, не блеснул в окнах свет лампы или телевизора. Не попалось ни одной встречной машины. Казалось, окрестные жители, взрослые, старики и дети навсегда ушли отсюда, ушли куда глаза глядят, на поиски лучшей доли, чтобы больше никогда не возвращаться.
Унылый постный пейзаж, худые заборы, некрашеные избы, сложенные из струганной ели, покосившиеся телеграфные столбы, навевали на Ткаченко мертвенную скуку, он давился зевотой и, чтобы не сморил сон, зажигал очередную сигарету. Зимой в это время суток здесь темнота, как в глубокой могиле, а сейчас с неба медленно спускались на землю светлые сумерки, белые ночи. Дорога уходила все дальше и дальше, то петляла, то шла напрямик, и, кажется, не собиралась заканчиваться.
Ткаченко прибыл на место, в поселок Молчан, гораздо позже, чем рассчитывал, лишь через три с половиной часа после телефонного разговора с Соболевым. Заброшенные дома на окраинах с крест на крест заколоченными окнами, единственная улица, где местами сохранились отрезки разбитого асфальта, говорили о том, что Молчан знавал лучшие времена.
Раньше здесь помещались контора районной кооперации, где скупали пушнину у промысловиков, пункт по лесозаготовителей, лет пять кряду работала центральная база геологической станции. Но то ли не нашли нефть, то ли пушных зверей повыбивали по всей округе, то ли леса все повырубили, только геологи и заготовители подались на юг, в Пермскую область, а жизнь в поселке надолго замерла.
К единственному двухэтажному дому, где помещалась администрация поселка, подъехали как раз в тот момент, когда Ткаченко сладко задремал.
Согнав себя сон, кум распахнул дверцу и с подножки спрыгнул на землю. За то время, что он находился в дороге, в Мовчан прибыли из района следователь прокуратуры, юрист третьего класса Вадим Генкин, в прошлом году закончивший юридический факультет какого-то провинциального вуза. На той же машине приехали медицинский эксперт, фотограф и два милицейских чина из управления внутренних дел.
Не дождавшись Ткаченко, Вадим Генкин дал команду собрать понятых на дальней окраине поселка, в том месте, где был убит инспектор Гаврилов. Но в том не было необходимости, поселковый народ, узнавший о гибели своего участкового, давно потянулся на место преступления. К тому моменту, когда туда прибыло районное начальство, все пространство вокруг трупа было вытоптано, какие-то доброхоты вытащили труп Гаврилова из-под маскировавшей его кучи лапника.
В ближнем овраге поселковые нашли и притащили на дорогу милицейский мотоцикл с коляской, неисправный, весь замаранный грязью. В итого никаких следов преступников следователям обнаружить не удалось. Труп Гаврилова кое-как засунули на заднее сидение машины, перевезли его в здание поселковой администрации, в двух комнатах которого на первом этаже ютилось отделение милиции.
Там, в кабинете участкового, на письменном столе, обнаружили его неисправную рацию, извлекающую из эфира лишь змеиное шипение и потрескивание. Выходит, Гаврилов ничего не знал о побеге заключенных из колонии. Участковый не был настороже.
Гаврилова положили на письменный стол, раздели догола. Залитую кровью милицейскую форму, портупею, ботинки и шапку, пропитанную кровью, сложили стопочкой на табурет. Фотограф сделал несколько снимков, судебный эксперт составил свое заключение, констатировал насильственную смерть от ударов тупым предметом по голове. В это время районные милиционеры опросили свидетелей, которые видели, как ранним Гаврилова утром.
Участковый, жена которого с детьми три года назад уехала к родственникам в Сыктывкар, да так там и осталась, жил один. Примерно в восемь утра он вывел мотоцикл из своего двора и отправился в Лезгино, деревню в пятнадцати километрах от Молчана. То была обычная плановая поездка участкового по вверенной ему территории, о чем свидетельствовала запись в блокноте Гаврилова. Кстати, в той же деревне жил какой-то дальний родственник участкового. Не исключено, что Гаврилов в его компании уже с утра опрокинул стопку самогонки.
Две местные бабы и мужичок, с раннего утра наливший глаза, утверждали, что видели, как приблизительно в двенадцать часов по полудню поселок проехал «газик» защитного цвета с железным верхом. Чужие машины сюда заворачивали не часто, одна из свидетельниц, бойкая баба средних лет, догадалась посмотреть на номер.
«Он весь быль грязью забрызган, – сказала женщина следователю, когда тот сел в правлении, разложил на письменном столе бланки протоколов. – Но первые две цифры я углядела. Кажется, углядела». «И какие же это цифры?» – заинтересовался следователь. «Две восьмерки, вот какие».
«А, может, перепутала ты чего? – допытывался следователь. – Ты говоришь „кажется“, а тут точность нужна. Может, это были две тройки? Или тройка с восьмеркой?» «Может, и так, – тут же послушно согласилась баба, она немного робела перед районным милицейским начальством. – Может, и тройка с восьмеркой. А может, две тройки».
«А если вспомнить поточнее?» – следователь потерял надежду точно узнать цифры. «А поточнее я вам уже сказала, – женщина уперла руки в бока. – Я видела две восьмерки в начале».
Следователь надолго задумался, что писать в протоколе. Вздохнул, перешел на «вы» и снова начла приставать с вопросами. «Понимаете, вы единственный ценный свидетель, вы одна видели эти номера, – сказал он. – Тут нужна точность. Тройка – это тройка, а восьмерка – это другое дело. Вспомните хорошенько: может, в номере шестерка стояла». «Может и стояла, – тут же согласилась баба. – Как пить дать стояла. Даже очень может быть. Но я видела восьмерки. Потому что не слепая».
Допрос свидетеля продолжался ещё более часа и вертелся вокруг двух чисел. В конце разговора следователь охрип и почувствовал во рту вместо языка неподатливый кусок резины. Зато достоверно установил, что номер машины начинался именно с двух восьмерок.
Собственно, на этом работа районных милиционеров и прокурора была завершена. На заднем дворе водители прогревали моторы двух «Нив», собиравшихся в обратную дорогу.
Ткаченко вошел в отделение милиции, когда в первой комнате милицейские чины дописывали последнюю страничку протокола допроса свидетелей. А во второй комнате, не по годам старательный следователь прокуратуры Вадим Генкин в который раз рассматривал телесные повреждения, что убийца или убийцы нанесли участковому: запекшиеся потеки крови на лице, осколки желтоватой кости черепа, торчащие из черной раны, из-под коротких слипшихся волос.
Наконец, Генкин разогнулся, поздоровался за руку с Ткаченко и сделал вывод.
– Вот эти вертикальные потеки крови на лице, они говорят о том, что Гаврилов получил первый удар монтировкой по голове, но сразу не упал. Какое-то время он находился на ногах, кровь хлынула из-под шапки, залила лицо. Он скинул шапку с головы. А потом получил второй и третий удары. Ребром монтировки. И только тогда упал.
– Логично, – согласился Ткаченко.
Он принял следователя прокуратуры под локоть, вывел на высокое крыльцо, пошептаться на свежем воздухе. Генкин подробно рассказал обо все, что удалось накопать следователям, пока Ткаченко находился в дороге. Единственная важная деталь, которую установило следствие: номер машины начинался с двух восьмерок.
– Паршивое дело, – подытожил Генкин.
– Паршивей некуда, – согласился Ткаченко. – Придется нам с солдатами здесь ночевать.
– А мы уезжаем, – сказал напоследок Генкин. – «Скорую», чтобы увезти труп в район, вызвали ещё днем. Может, застряли по дороге. Вы уж тогда проследите, товарищ майор…
– Прослежу, – кивнул Ткаченко.
Настроение окончательно испортилось, беглецов в Молчане нет. Преступники проехали поселок девять часов назад и не оставили здесь ничего кроме трупа участкового. И, судя по всему, давно находятся за пределами района. Остается ждать новых известий. Спустившись с крыльца, Ткаченко подошел к грузовику, открыл борт кузова и приказал подчиненным выгружаться.