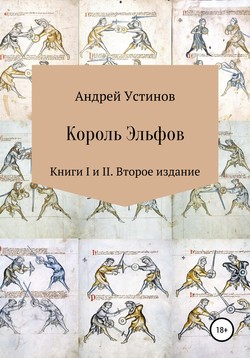Читать книгу Король эльфов. Книги I и II. Второе издание - Андрей Устинов - Страница 3
1
ОглавлениеНаперво мне снились тишина и темнота, в которых я плавал и ворочался, аки нерожденный. Позже привиделось, и весьма явственно, что кто-то упорно светит в глаза огромным оранжевым фонарем, бьет что есть мочи по лицу огромными же – пожалуй, с парадную тарелку! – холодными ладонями и кричит пронзительным голосом, поминая весь небесный пантеон: “Вставай! Бодрись!”…
Неужели продрых молитву в ликейоне? Я поспешно размежил веки…
Вот чудеса! Меня отчаянно хлестал по щекам плосколицый веснушчатый малец с голубыми глазами по восемь севов, истово бубнящий церковный чин:
– Поднимайтесь, сударь. Пожалуйста, поднимайтесь! Во имя Голоха, защитника нашего, и супруги его Метары…
Лучи солнца, которое таилось за затылком парня, обрисовывали вокруг его головы нечто вроде нимба божественного присутствия, точно Метара и впрямь проявила легкий интерес к происходящему.
Ах, не ликейон! Но, видимо, каникулярный день? Все это меня изрядно веселило. Я пребывал в чудеснейшем состоянии, какое бывает лишь в детстве: когда сам ты практически невесом и легко паришь по окружающей действительности, удивляясь любому ее цветку. Я с довольством отметил, что веснушчатый мальчишка (мы таких дразнили рябчиками) ведет себя недостойно, весьма несдержанно, и вот-вот разноется в ручей, тогда как сам я наконец-то абсолютно собран, спокоен и ах как великодушен. Мысли мои были столь быстры и проницательны, вы не поверите, что я заранее улыбался еще не сказанному каламбуру. Мальчишка просит привстать? Стоило ли отказывать малому в столь малой просьбе? Ахаха! Тут я со снисходительным интересом отметил, что не совсем помню, как же это делается, и мир перевернулся: солнце с головою зарылось в лопухи и разбилось в росную россыпь.
Второй раз я очнулся в неком трактире, впрочем, вполне требном, – судя по помпезному очагу из грубых каменьев в центре и ломаному полукругу длинных, изъязвленных кинжалами деревянных прилавков. И сейчас же яркое воспоминание-видение затрепетало в голове, подобно мотылю, пробужденному ото сна. Представлялось, как гудит-беснуется в очаге окованный камнем огонь, как камни сии раскаляются докрасна и яро шипят, если горластый шутник нет да и плеснет на них остатки горького эля из кружки, как слюдяные оконца отражают сию краснотищу и жар обратно в пивной зал, так что разогретые едоки, вовсе дурея, пускаются вокруг очага топтать плясовую. Да! А в очаге – грубо нарубленные вязовые сучья той-дело встрескивались, дрожа… будто всяк из них, оберегая закопчёный бок, норовил трусливо отбиться в угол, но трактирщик-погонщик небрежными тычками мыкал их обратно. Но щас зал был пуст и выстужен, слюдяные оконца блекали тускло, а прямо в очаге, выгребая золу чуть не сопаткой, орудовал давешний плосколицый малый.
Тут из-за шишки очага донесся какой-то шур-шур, всплеск сладкого смеха, и милая румяница выбежала ко мне с медным тазиком парной воды:
– Позвольте, сударь, промыть вашу рану?
– Merci, merci… Чем имею честь? Что же?.. – Я вскинулся было вопросничать, но комната как будто закружилась вокруг ее ясного личика. Я не совсем понимал, что происходит, но девчушка мне с ходу приглянулась.
– Но сударь, ваша рана, такая беда! Изволите ли минутно пригнуться? – Ах, она была вся в прелестном женском нетерпении, вылитая моя сестрица! Знаете: стоит той вбить какую-то заботу в кудрявую головку, и серчать бессмысленно, ведь любые резонации кажутся ей ничтожными!
Тут по-прежнему крылась большая неясность – что же стряслось и с кем, что за пустые отговорки? И крутился на языке не менее животрепещущий вопрос: с кем-то гризетка-плутовка там обжималась? Но пришлось кивнуть ей с дворянским небрежением и, подложив под занывший лоб руки, упереться губами в пахнущий сладким элем стол, пока прислужница мягко ерошила мне затылок теплыми пальцами. То она щекотала шею оборками тонкой холстяной робы, то, сквозь робу, касалась плеча твердеющим соском – это сбивало с мысли не хуже пинты темного! – но едва я разнежился мечтами, как, глухо ворча, явился сам трактирщик – долгопалый бородач, способный уморить не одну райскую птичку одним кислым дыханием. И моя, конечно, немедля упорхнула!
Трактирщик же оказался обрядником, что было видно по его пестрому хитону. Пестрому не цветом, но обилием тщательно вышитых синей нитью сцен, по всем двенадцати деяниям! Есть же такая безобидная заморская секта, мне ли не знать, в ликейоне на богоправии нас мучали ими целый семестр. Вот и трактирщик был нуден и несносен, утомил меня совершенно. К тому же, зудействовал этаким покровительственным тоном, которого даже наш декан себе не позволял, да еще для выразительности прищелкивал сухими пальцами:
– Изволите ли чувствовать улучшение, мой сударь? Разумеется, я немедля выслал мальчонку за стражеским дозором… ну бишь, когда заметили эка поддувает в бочину. И вашенского рыжего компаньона утележили еще тепленьким, так сказать, уж поверьте мне. Или, печальнее сказать, уже тепленьким. Кхм. Наше вам сочувствие и молитва! Но беда-с, что по тьме-то за орешник и не глянули, где вы, так сказать, столовались…
– Ради Глаха, сударь! – воскликнул я раздосадованно, ничего не понимая в его болтовне. – По-вашему, я белка? – Замечание мне показалось весьма смешным, и я даже скорчил беличью морду, но трактирщик стушевался, всплескивая руками:
– Я же от чистого сердца желаю помочь молодому сударю. Ибо, ежели нет авуаров в купеческом доме, то ведь обнесли дочиста!
– Да какому молодому сударю? – я схватил уже трактирщика за пестрый рукав, пытаясь встряхнуть, да куда там! Глаза его… глаза его в тусклом свете будто закатились и желтели одними белками. – Вы мне ли? Я не брезжусь с торгашами! Эй вы! Послушайте, вы прямо как рыночная гадалка, которая не остановится тордычать, не закончив пророчества!
Я не знал плакать или смеяться. Но трактирщик, как и все обрядники, шуток не принимал и продолжил сердито:
– Потому что куда теперь молодому сударю? Куда же? – ах, кажется, он и впрямь тщился докудахтать заявленную речь? Это я легко мог себе представить. Небось, заранее тренировал аргументы на кухарке, потому-то постоянно и сбивался на третье лицо? Так и докончил с ревностным нажимом голоса и еще раз прищелкиванием перстов: – Но ибо есмь искренний скрижальный человек, то готов приютить и по дому как раз бы временный помощник…
Ах! Верно ли я понял сего наглеца, каждое второе слово сдабривавшего тухлой отрыжкой?
– Послушайте, сеньор святоша! Что-то вы расщелкались! Позвольте мне, как говаривала моя почтенная кормилица, сложить мысли в пучок и без обиняков их вам разжевать! – я привстал с любезной улыбкой, опираясь на пошатнувшийся прилавок… Да и комната будто закружилась, сводя с ума, но не праздновать же труса? Я высказался, медленно разжевывая слога, точно скармливая их, посчетно, тугому борову:
– Я дво-ря-нин!
Ай да обиняк! Твердые слова будто бы и миру вернули твердость. Трактирщик, понятно, залебезил, дыхая мне прямо в лицо еще новыми дурными ароматами:
– Да не обиделся бы мастер Гаэл, да верно ли мастер Гаэл хорошо себя чувствует?
Да не объелся ли он сам, с утра-то, квашеной капустцы?! Ей-ей, о ком он все талдычит? Я все-таки не совсем его понимал. Пусть-ка сам разбирается со своими постоялыми собутыльниками! Пришлось выразиться еще прямее, в расчете на прямую извилину собеседника. И пресмешно же вышло:
– Сударь, отобедать с вами я не смею! Благодарю! Дела-с!
Верно кажут – простолюдие страсть как любит, чтобы его величали сударем. И мошенник эка заважничал, зафамильярничал – бросил торжественно, свысока бороды, даже не слишком расходуя отрыжку:
– Ну, ступайте, ступайте, высокий сударь. Было бы предложено, долг мой исполнен, и от души! Дай Голох здоровья!
Ах, я даже не стал тратить на него последнее слово! В ликейоне меня высекли бы за подобный диспут, но каникулы же? И легко – наконец на чистый воздух! – выскочил было, да чертовы дверные створы оказались лишку тяжелы для моей легкости. Но с подмогой подскочившего плосколицего…
Солнечные лучи едва не пожгли очи. Я прикрылся ладошей. В ушах звенели голоса. Почудилось, что, отражаясь от закопченых оконец, от мутных ночных луж, все политические новости, все местечковые сплетни превращались в пытливые искорки света, мельтешащие перед слезящими глазами… Постепенно зрение прояснилось: да что же это? Чуть ли не зеленокожие химы, которыми кормилицы пугают детей, просеменили мимо, разноречиво горлоча. Или солнце отпустило еще одну цветастую шутку? Порывшись в тайном кармашке куртки – пусто! кажется, надлежало бы кинуть плосколицему служке хоть зазеленелую медяшку, эх! – я панибратски буркнул merci, неуверенно махнул рукой и, перезапнувшись раз-другой, обнаружил себя в середке бурлящей улицы. Так вот, увлекаемый водоворотами квартальных интриг (вздорных соседских склок, приветствий с размашистыми хлопками по плечам да тычками в бока – да вы знаете, каково бывает, тут и к обеду до угла не доклячишь) я побрел, полный зевака, незнамо куда, незнамо зачем. На каких-то горелых развалинах стайка плохо одетых и чумазых уже ребятишек пыталась играть в прятки, рассчитываясь. На сохранившейся чудом штукатурке кто-то уже начиркал углем неприличное граффито… Ах, почему и весь мир казался мне карикатурой? Кажется, я действительно был чем-то болен? Но не возвращаться же к трактирщику поваренком?! Так я и побрел, потерянно твердя под нос только что подслушанную детскую считалку: “Это город, в нем живут герцог, стражник, баламут, лекарь, пекарь, поп и плут. Кто в нем я, что я за люд?”.
Вывеска гласила так: “Эл и Пирси”. Буквы были важные: золоченые, с завитушками и оттенением, так что необученный долго бы шлепал бестолково губами, напрягал морщиной лоб и выскребал перхоть из затылка, не в силах понять их склада. Дальше разъяснялось: “Робы и Хламиды. Кафтаны и Камзолы. Прочее”. И здесь тоже крылся расчет на господ с изыском: каждая литера рядилась в соответственные миниатюрные одежды – все робы обернулись куртуазно в розовые полупрозрачные платьица, а семеро камзолов натянули блестящие, иссиня-черные мундиры. Низ вывески украшали заманные иллюстрации грядущей жизни клиентов; тщательнейше, до последней нитки выписанные костюмы, посыпанные при росписи слюдяной крошкой, дабы блеск их вовсе не мерк, полупрозрачные камушки, вкрапленные на места благородных камней в рисунке, – ох, буквально приворожили меня, прервав безвольное кружение по базару.
На центральной сценке богатый кровь-с-молоком кавалер любезничал со смущенной дебютанткой. И восхищала в таланте художника можность мелкими деталями передать прохожему зеваке нечто нетленное – жизненную ауру сих неживых персонажей. Каким не ведающим слова “медь” достатком веяло от серебристого орнамента на вязаных гетрах мужчины! А кованые металлические пуговицы на них вместо банальных тесемок?! И какой таящейся удалью осеняла хозяина фигурка ловчей птицы на церемонной придворной шапочке: пусть сокол смирён и обучен командам, пусть он пока в клобучке, но берегись, добыча! Ужо тебе!.. У девицы же в темную гладь волос под широкими полями плетеной шляпки, укрепленной позолоченными булавками, были вживлены художником еще некие игривые золотинки: угадай вот, то ли пустые искорки солнца, проскочившие сквозь соломку, то ли любовный пламень, как по соломе разгорающийся в дотоле бесстрастной девичьей душе? А ее теплая белая хламида, вдруг наполнившаяся нежно-зелеными переливами от заволновавшейся муравы?!
Но собственно лица были выписаны слабо – телесного цвета пятна, штрихи да полутени, – так что, мысленно воспарив из грязного дорожного прикида, я легко представил там себя. Щурясь на резком, вышибающем слезу ветру, я тщетно ловил ответный взгляд красотки: волнующиеся поля шляпки открывали только дольку щечки, на глазах розовеющую. От свежего ветра, от смущения ли? И еще манил узор на ее робе (и как доселе не разглядел?) – былинный алый пимпернель, вешний цветок, гнущийся стеблем на складках ткани, но вдруг процветший сквозь них, словно сквозь плен девичества, и обещающий… Что и кому? Ах, что за магия?
Но зычный голос какого-то базарного раскупчика вдруг полез мне в уши, размашисто расталкивая волшебные звуки картины:
– Эй, деревенщина! Не разевай-ка зенки попусту! Ба, что я вижу? Стой! Раскрой ладушки – и я отсыплю-те десять монет за порты столь невиданного фасона! Гляди-ж-ка, а мечты твои наслюнявили тебе пригоршню блестящих левов! Откуда же ты, такой карасавчик? Кевлар? Не-е! – ах, я уже откровенно морщился от его криков. О Глаше! Он такожно выговаривал “не”, будто ржал вживую: – Не-е, те мужское достоинство меряют бахромой на лампасах и тебя, друже, они сочли бы природным скопцом! Ха-ха-ха! И ты не из Авенты, ясен гульфик, ибо тем лавласам твой грубый пенал натер бы всю промежность! Ха-ха-ха-ха-ха!
Поневоле причудился – чуть не за шеей! – эдакий торгосвищер в пестром кафтане, потыкивающий сальным пальцем в раззявившегося на местные прикрасы бедолагу.
– Pardon, mademoiselle, – неловко расшаркавшись перед девой, политесно замершей в знак повиновенья, я живо обернулся: неужто товарищ по несчастью? Помочь ли? Но увиденное казалось еще одной фантазией. В какую же потустороннюю историю я попал?..
Дом с вывеской продолжался направо этаким широким подиумом: дощатый щеластый настил под косым навесом, стланым выцветшей вихрастой соломой. Но опять с претензией – с перильцами и лавками вдоль них, позволявшими созерцать широченный цветастый половик в центре… Хотя, не такой уж и цветастый: длинная плешь свидетельствовала о регулярно даваемых лицедействах. Но как и все утро шло наперекосяк, и тут все было наизнанку: на той авансцене, возвышенной над партером площади, двое актеров важничали за всю труппу, потешно изображая толстосумов разного настроя. Один – пузоватый приземистый сударь в знатном кауром кафтане (не с железными пуговицами, ладно, но с костяными уж наверно!) – безлично пялился прямо на меня, поковыривая в зубах острой щепой и смачно сплевывая в партер, чуть не на сапоги, ей же ей! Второй же как раз – точная копия первого, но в кафтане более светлого колёра, – активно скоморошничал… Кажется, я и рот раскрыл аженно-саженно от изумления его искусством. Актер бегал судорожно вдоль противной стороны террасы, смешно спотыкаясь той-раз о малость недобитые до нуля клинья (я-то сходу заметил: доски-то свеженькие, еще перестилать их после усушки!), вздымал стало быть руки и вообще горнольствовал перед совершенно пустой аудиторией – ибо площадку снаружи покрывала мутная лужа с размятыми в грязь берегами. Прохожий поток, голохясь и толкаясь, умело обтекал ее, издали косясь на вспотевшего оратора и ехидно лыбясь. Актер же – к чести его искусства – пустой грязной лужи и гнусных химских ухмылочек в упор не чуял, а только выражался с еще большим апломбом. Так что натурально чудилось: да где-то рядом он, тот бедолага, адресат послания, надо лишь оглядеться попристальней. Мнимый купчик меж тем, вобрав в легкие побольше воздуха (да еще за щеки прибрав по довесочку – ну чистый торгаш! брависсимо!), продолжал – то возвышая голос в басы, то артистично снижая до мечтательной вкрадчивости, маня и ошеломляя:
– Ты ведь из-за Коголана, а? Из-за Коголана! Да, впечатлительный у вас там крой. Пополнить, что ль, мою коллекцию провинциальных прикидов? Ты же за десято́к звонких левов взымешь се живую дамочку, разодетую пояре сей картинной красотки, да притом обученную особым манерам! Десять могучих львов за проношенные штаны, это ли не щедрость?! Не-е?! – О Глаше! Конец ли? Но актер перевдохнул и продолжил галоп: – Порты не стоят того, конечно, но что золото? Богатство не мальчика, но мужа нам знамо в чем, и твое-то немалое будет! Может, дело-таки в волшебном гульфике? Ха-ха-ха! Давай их сюда!
У меня уже цветасто мутилось в глазах и переливчато звенело в ушах от его похотливого крика. Что же, в самом деле, за уличный фарс и для кого играемый? Какие штаны, какие переодевальные маскарады? Голова моя горела, мысли смещались и путались друг за дружку: и красотка, где красотка?! Ах! – вот ее платье теряет ветер, блекнет, замирает заскорузлым пятном на вывеске, а цветок с груди вовсе исчез, будто и не прорастал. И что я намечтал! И все же – так торгашествовать, толковать о снятии штанов в присутствии придворной дебютантки? Мужланы!
– Э-э! Да ты того! Фьюить! – вот кто это сказал и кому, да еще с выразительным фьюить пальцем у виска? То ли тот актер-пустозвон, то ли… сей вынырнувший откуда-то сбоку, чуть ли не из той пузырящейся лужи, подозрительный хлыщ-шпынарь, с тихим смешком потянувший меня за рукав (и что за несусветное панибратство опять? таковы ли местные манеры?) и чуть не силком усадивший с разгону на какую-то вонючую селедкой бочку… мерзость! мерзость! мерзость!
Так вот, полуприсев-полупритершись к низковатому бочонку, до того отсырелому, что отдаться ему всею задницей мое естество никак не хотело, хватанул я полные легкие маринадного дурмана и мир… свернулся вокруг меня во что-то вроде кокона. Ей-глаху, будто бочка вокруг селедки! Мерзость! И лишь собственные мои сапоги маячили понизу, трепыхаясь-переминаясь в мерцающей рыбной чешуей луже. И разум мой все пытался зацепиться за знакомые понятия, как за наживку: в левом-то сапоге сквозь трещинки в подошве уже сочилась вода – зябко! – а вон на правом суровая нить разошлась и размахрилась – неприятно! А тот добрый дружок, товарищ по несчастью, что завел меня, так сказать, в эти воды ради минутной отдышки, сам дрожа и прижимаясь ближе, чтобы быстрее вдвоем отогреться, все подбадривал вымученными хохмами, словно за леску вываживая обратно к миру живых слов и красок:
– …приваряжили рисовальщика авентийца. Экая высокая краса вышла, приезжие все в ряд стоят и роты разевают! А у них и материалов-то таких нету. Шерстяные гетры – да где видано? Вона одни суконные! Ты ему свой штанец не продавай, дюже знатный, – тут в поле зрения возникла грязная ладонь с обгрызенным ногтем, деловито пощупавшая материал поверху и даже приятельски влезшая в мой карман, чтоб оценить подкладку, – нешто передерет фасон и такой же ты сам у него еще купишь!..
– А Пирси-то опять облажался, опять глаза перепутал! А ты не знаешь?!.. – рука так нежданно-дружески ткнула меня в сплетение, что даже икнулось и в глазах завечерело, но тут же мой приятель сообразил ошибку и быстрее-быстрее распустил мне пояс, кинулся тщетно растирать грудь, чтоб задышалось ровнее. – Дыши сюда!
И полился такой рассказ с чесночными придыханиями, что я диву давался: что за рассказчик! Али тоже из актеров? Али рассказ, заранее меряный для путников, чтобы пожертвовали стотинку? Но разум мой слабел с каждой фразой и даже ноги уже никакого холода не чувствовали. А слова лились и сливались в блестящий ручей сказочного бытия:
– Эл и Пирси… вышлепки от одной матери… ага!.. Голох знает ской лет назад. Бабы-соседки стой уж лет шушукают, что в пай к портомастеру вошел-де ушлый купчик с базара… А муж-то с той радости начал поколачивать женку со всякой проданной хламиды. А как был он человек работящий, той гуленка вскоре и преставилась. А щенки точно выжились разные: крепыш-смолянец и верткий рыжеморыш… и в кого бы? – хех! И в манерах той же: Эл все прибирал-прилаживал отцовы лоскутки, тачая кукловые кафтанцы, а Пирси все шастал по округе, выменивая у девонек местных (все им деревянных пупсов нянчить! нештоб взрослое ремесло освоить… хех) самое святое – златы нитки, знаешь ли, кои любы-девицы прянут в волос, чтобы суженому прынцу… хех… было чем приворотиться…
Но тут ласковый ручеек будто пересох и сбился на смутное бормотание (“так, тут нет”), расстроенный вздох (“что ли в дальнем”), а потом шпынарь, точно прощеваясь в крайнем дружеском порыве, навалился всем телом спереди, чуть меня не целуя, тыча в нос неухоженными усами и источая изо рта тот самый дурман селедки в чесноке. И тут-то меня аж проняло на ровном месте, – а подлинно люд ли это, а не сказочный морской хват, о коем тоже говаривала кормилица, что ловит рыбу вниз, водит кружевами до изнеможения и тянет на тёмно дно, пожирая с икрой и молоками? Трепыхаться, впрочем, не было мочи, и вражьи уста бесспросно протискивали мне в уши складную заманку:
– Но теперича-то наши братцы просто в дупель близняшки – глянь-ка! И то сказать, древним колдовством кровь себе перемешали. Экий чудный заговор заказали, от недоверия друг дружке, чтобы братовыми глазами подглядывать и пользоваться – о как! В четыре глаза дурачин стоеросовых ищут, иноземных и пришлых! Да ведь тут не гнилушки на пуговицы сверлить – вечно напортачат! Я же знаю, подмастерничал у них, тьфу! Еще и должен остался за науку! Вон старшой зенки пялит на тебя, а младший знай долдонит – ну, умора! Постой-ка…
– Тю, да ты уже пустой!.. – приятель мой будто облегченно выдохнул, хлопнул насмешливо мне по макушке и исчез. И ах! Будто сплюнули меня из смурного морока обратно в бесполезную жизнь. Вот и хвату не спозарился! И опять я сидел одинешенек на холодной бочке с ногами в склизкой луже, и народу вокруг – гиблый поток.
Бр-ррр!
Если по чесноку, я дюже замерз и не понимал ничегошеньки. Словеса в голове кружились самые разные, буквально наперебой… О волшебниках-то слыхивал, да все по вечерним сказкам. А тут знамо-незнамо – живые вывески, говорливые химы, чернокнижие какое-то вдоль и поперек. И еще кормилица не одобрила бы, что болтаюсь по толпе, – того и глянь, заразишься ротозейными мыслями, и сам начнешь простолюдно лопотать. А дворянское отличие какое? Так и девиз отческий учит: Non multa, sed multum!
Так я немного приободрился, даже пошлепал сам себя по щекам, и побрел дальше: мимо рыбачьих таверн-шаланд – один покосившийся лабаз клонится, что поддатый штурман, на плечо другого, и рты-двери пораспахнуты, словно давая волю отрыжке… И самый воздух все более тяжелел и дыхал селедкой, эдакой живорыпой селедкой, когда еще блещет боками и треплется охвостьем в полурваных сетках и, раз на тыщу, милостью Лима, у коего (знамо!) водоросли вместо козлиной бороды, удается какой худышке, селедке-девчонке, высклизнуть в родную серость-хмурость, дабы заклясть родных и близких держаться далече от этих берегов (потому и рыбы меньше год от года – кормилица говорила)… Эх, что за страна-то?..
Уф!.. Высклизнул и сам наконец из трущоб, ан-то располудное солнце и шибануло по темечку тяжелым горячим лучом, будто вытапливая остатки разума. “Зри, куда прешь!” – кто-то да гаркнул мне в ухо и крепко приложил локтем о третью чакру, какой-то матросня, черный пахучий немореец с косицей и серьгой, и только… раз, два… пять биений сердца просчитав, задыхаясь еще гневом, сам-с-усам как налименыш необсохший, тогда-то и понял, что дикарище уберёг меня от ныряния с неогороженных мостков куда подальше – в свинцовую унылость, в гости к девчонкам-селедкам, давно оголодавшим по людским косточкам. Уф!..
Я был почти в порту, поодаль от разноперых-разнокрасных кораблей. Легкий вихрь, абы чары наводя, трикратно встрепенул мне неприбранную шевелюру, просквозил до чиха, и предметы вокруг задрожали, замножились в пробитых слезой глазах, будто смеживаясь в единый вид со всей ленты своего повременья. Понаветру (так они, вроде ж, на море кажут?) за пару пролетов уже – зазеленелые валуны-окатыши и грязненький песок, дрожащий отчаянно под хлопочущей волной. И мертвый плавник, брезгливо отброшенный морем на серый песок, чтобы согнивать все грядущие века… Или – лучшая участь! – безыменный мастеровой в безымянный час обогреет чадом его свою лачужку и наскажет сыну сказку о Лиме. Ах, как знамо!
Ах… а слева! Мнется на канате водная стрекоза – красавица-шебека. Три невидимых паруса, усеченных триангла, убраны к реям, этакое трерукое чудо! А другое чудо ее – уложенные по борту карминные весла, готовые взметнуться храбро и плеснуть, без опаски тлена, по мертвой воде… А вона на корме, где лонжевались под солнцем зажиточные пассажиры, где по елейному их слову запрыживали к ним в ладоши доверчивые летучие рыбёши Неморья… и где-откуда, в серый туман, тоже замолодев глазами, как на русалий зов, истово мямля на древнеречье молитву-песнь, сиганул за леер старик боцман… ах, стоит будто дух его! Стоит кто-то, и глаза те же серые, как плещущая под тенью шебеки густая вода, только серьга золотая, качаясь, ворожит взор… ах, то шкипер! Скоро видать и ему в гости к Лиму (сам так приговаривал дцать раз).
Да, чудно быть на бережку да под твердым солнцем после сих морских недель, больно уж чересполосных погодой. И голос чей-то сверху – наше вам! таки приплыли, мастер Гэл! – режет память, аки светлый выплеск в свинцовой волне. И верно! Какой-то дядька вроде бы хлопал да хлопал давеча по плечу (по сю пору ноет), было ли так? Да-да! Приплясывая от радости и что-то неудержно, до распалубного хохота матросни, сквернословя про горячих девок: приплыли, Гэль! Здесь было, не здесь? Кого-то зовут Гэль?..
Ах… О Глах Великий! Я как раз шагнул под мачту и упавшей тенью так будто и шибануло мне по макушке: Гаэль – это же я сам! Давеча, ах, сковыльнули мы с той шебеки, измученные Лимом сполна, прибывшие с дядькой… Тимоном? Пимоном? Как же звали родича? Шкипер с мертвыми глазами еще окстил нас сторожиться лайферов… Что за лайферов? И прибывшие куда? Ах, с вояжем совершеннолетия да в Метарову купель – моего совершеннолетия! И воспоминания нахлынули… будто стая чаек, перебивая друг друга, будто зеленые волны, каждая из которых первая спешила утянуть на дно…
Ах, что за лом в голове! И что за брызги скверных на вкус волн, плеснувших в лицо через солнечный луч? Но о чем рыдать, аки сестренка на выданье? Свадебный наряд не воротишь! Зря ли те растрепицы (так положено) певают на кручильном девичнике: и солнце чем ярче, тем гуще тьма…
Вот так вот я и оказался в Метаре.
А прочие злоключения того дня – все почти забыл. Так бывает, ежели очи застит темь, чувства притуплены, будто и нет тебя, но тело как-то шевелится, бесцельно еще движется, ибо не было команды остановиться, да и где остановиться? И в памяти потом – не яркие краски юности, а сухие остатки, как бы монотонный старческий пересказ со стороны.
Но все же… к чему лукавить? Я мог бы теперь шагнуть в ведический транс, легче легкого мог бы вычесть всё, что тогда отразили очи, до прозрачного рисунка на облаке, до тараканьего следа на липком фруктовом прилавке, до подрагивающей невесомым волоском бородавки на лице торговца. Но я предпочитаю помнить так, как помнил. Non multa, sed multum! Я предпочитаю смотреть со стороны – и помнить того испуганного паренька, а не зиллионы прохожих во цвете их лет. И потому также не передаю большинства разговоров, все эти подмигивания и подшмаргивания… потому что нет в них знания, а только базарные крики. А чему вас, любезные собратья, учат в родном ликейоне? Что слово есть смысл! И потому вот вам я: беспомощное существо по прозвищу Гаэль Франк, эдакое чучело вдали от родных полей – в незнакомой стране… Полезно иногда смотреться в зеркало времени!
Базар. Некий торговец (другой) подталкивает соседа локтем – вроде видели хорохорщика вчера и спорили, скоро ль обдерут/замочат. Хочет хоть курткой поживиться успеть, – опять бо штанная история, опять разжиться заморским образцом? Гаэль (это я) от предложения торговца шарахается, как от гадкого прокаженного. Улица толкает его в порт. Бредет совершенно бессмысленно: ах, да и мог бы попытаться продать куртку, сапоги, наняться матросом – вон их сколько – но нет, это одежда дворянина, ее продать нельзя. Нельзя…
Идет за какими-то торговцами к рынку мимо храмов – безразлично. Мимо рынка рабов/рабынь – безразлично (торгуют молодку-красотку).
Бродит по рынку, воображает троллевые пиршества этими кучами еды. Приступ голода до рези – ищет того торговца-острослова, да уже тю-тю, другой предлагает меньше – Гаэль отказывается. Снова бродит, глотая слюну. Птичий рынок – гномы-фокусники, представление Аристофена (так кричит зазывала-деревенщина, неверно ударяя в бубен), гоблины – дикие звери в клетках. Чуть не одуревает от вони – в изобилии домашние ушаны, приученные к хозяйской руке, листоклювы, мирные фруктоеды и вампиры-кровососы – для защиты крова. Кружит, притяжается к рынку неизбежно, те же запахи еды, все те же лужи-помои, все те же гномы пыжатся, те же гоблины воют в клетях. Примеряется тырнуть хоть корку, да боится – видел, что стражники сладостно мутузили кого-то.
Эйфе с яблоком (делится – не дарит, а именно делится). Ах, Эйфе! На рынке она ждет отца у здания – выбегла из здания на крыльцо (хотя велели не теряться), грызет яблоко… Эйфе – кличет ее няня-компаньонка – и имя западает в память. Белокурая нимфа, потому что в зеленом. Чем-то напоминает девчушку из трактира – тем же эманатом свежести, точно они сёстры (хотя этого не может быть, но так кажется и это немножко вгоняет в раздумье). Тоже нарядная, но ясная дворянка, это как осенний и весенний дни – тоже дни. Ах, что за философия! Долго мнется вокруг нее, потом ее находит-уводит няня, подозрительно косясь на Гэля – что он от вас терся, госпожа?
И откуда-то струится чистый воздух: нет, я дворянин, лучше я сдохну, чем буду просить милостыню у сих смердов!
Дальше опять калейдоскоп кадров из чьей-то (ах, его! моей!) жизни. Опять острослов – ты хотел продать? Ха! Продать – и день прожить как смерд? Вот ты назойливая муха! А торговец его колотит палкой. Убегает, краснея от стыда, падая на лотки, обдирая ладони, и по-детски голохясь. Опять подъем – бежит к Эйфе, станет у ее отца/родителей просить приюта – уже ее нет. Пытается то вникнуть в здание бахвальством (я ее друг), то тайком – его взашей, как челядь (да тебе парадного крыльца много – через черный выход в кучу грязи – ха-ха!). Бежит к другому храму. А во Глаховом храме на ступеньках хилые нищие – лезут и льнут к нему, противные руки шарят по ослабевшему телу. А забрать-то нечего – опять проклятья. И опять бежит истошно, пока испуг. Шатаясь, плетется дальше.
Вечереет. Видит подвыпивших стражников, выбряцавшихся из кабака. Тусклый просвет в сознании – они вернут, вернут! Плетется за ними, за горько-дымными факелами их – боится, больно ражие и недобро гутуют меж собой. Мир сужается до пляшущего факельного круга – ничего не замечает, толчки-пинки, боится утеряться в лабиринте трухлявых лабазов. А те на плацевом пригорке встречают начальника стражи (это явно по разговору) – вид добротный. Гэль подвигается ближе, ждет-дрожит, сглатывая слюну; да тот так по-черному вдруг взъелся на долбоносов, что Гэль прирастает к земле, пробует отпятиться… запнулся, да и в лужу. Ох же, мать твою Метару! И тут черный выгляд начальника падает на лицо Гэля – какразно… какразенно… под факелом. И с факела искры, как мотыльки, слетаются к нему – красивые! Но почему жгутся…
Ах, Глаше! Эйфе – ах, кто такая Эйфе? Какой божественной искрой вспыхнула она тогда из провала моей памяти, спасая меня, и как наново вспыхивает сейчас! И не смутной тенью, а живой девчонкой-нимфой, посланницей живых богов…
Ступени были косые, щербатые. Но столько древние, что их косость (или костость?) уже сталась местной привычкой, вкопавшейся в землю. Когда-то, на заре летописных времен (на углах выбиты чудные руны – да не прочтешь!) – из парадного красного туфа, но давно обыденные от грязи, и все же храмовые, сиречь, не принадлежащие никому особо, кто возжелал бы испнуть меня по пустой прихоти. В гладких базинах, вытертых босыми пятками, и в звездчатых выколках от лирийских длинных шпор (ах, у дяди были дома такие, дурацкая мода!) копилась вода – в одной я вяло приметил водомерку: как и ваш покорный слуга, комарик пристал тут на перепой – передохнуть. Ах-ха! Да и где же еще водомерке воду пить, как не у Метаровой Купели! Где богиня купалась однажды в незапямятные времена и где был ее ореховый шалаш, а теперь храм возвышенный в ее честь…
Но по порядку. Сам я только что притомился откель-то и узнал наперво те желанные ступени – смутная иллюстрация из школьных скрижалей! И потом, усевши уже, уже ерзая (шершавы больно!), начал удивляться – ведь не рыночный домик, это храм! Но не Голоха (голоховский уже проходил сто раз, там все приступы были в калеках и нищих, облепивших белесые ступни портала… живое покрывало клопов!), а некой неизвестной секты. Но как будто – ах, дыхание богов почуял, и закружилась голова, и почудилось… На тяжелой дубовой двери – мастеровитое тиснение, древо жизни, точное до малейшей тени на листках, бегущей за солнцем, и до прозрачных крыл порхающих мотылевых фей – как возможно?! Дерево будто вздрогнуло от моего взгляда и тотчас же в левой створе раскрылась таинка и оттоль, сама как мотылинка, торопящая превращение, выпорхнула малая девчушка, чуть жмурясь на солнце. Сама беляночка, но с вплетенной в косу зеленой лентой, и в зеленом же плотном плащеце и дивных травяных сандалетках – выбежала, беззаботно кусая яркое яблоко, и плюхнулась на ступеньку рядом со мной. Куснула еще раз, норовя захватить побольше, и вдруг протянула сочный остаток мне:
– Держи, а то ты сам шатучий. Я тебя увидела в глазок. Они там пока кисель разводят. Меня зовут Эйфе.
– M-merci, mademoiselle, – я покраснел, но схватился за яблоко, как за Плод Жажды из сказаний, жадно заторопился обкусать со всех сторон, закашлялся, разгораясь от стыда… заметил на ее перстневом пальчике колечко с хризолитом, не простушка! – M-merci, p-pardon. Гаэль Франк к вашим услугам. – И вскочил, и неловко поклонился, чуть не поскользнувшись о того водомерку в мелкой лужице. – P‑pardon, – опять законфузился, что сок потешно пузырится на губах (уф, как простолюд, право!)… отважился блеснуть риторикой: – Не хотел лишать жизни сие малое создание!
– Ты смешной, – прыснула Эйфе, но затем доверительно тягая за рукав: – Мне нельзя чавкать, но ты жевай. Они скоро придут за мной.
– А что, – вопросил я сквозь слащавую кашицу во рту, – за храм-то это? Некой вестницы? – Что храм какой-то божицы, не сугубо мужий, я догадался сам, раз Эйфе в праздном уборе… И даже предполагал, что Метаров и есть, цель паломничества моего, но кто знает? – И что за руны те, ты научена?
– Это Дом Феи, – Эйфе зажмурилась, заклоняясь столь, что зеленый бантик поцеловал лужицу назади… подставляя личико солнцу. – Смотри на мои глаза. – Она вдруг отважно распахнула их встречь свету, на вздохе я увидел их цвет: темно-корицевый… нет, вдруг разделился на кармин и кобальт, и дальше всеми соцветьями радуги… как у кошки, зрачки сжались в малюсные точки и остались только пылающие радужки.
– Видишь, – она пригнулась к дрожащим коленкам, протирая глаза, – я тоже их принцесса, но дальняя. Фея – это или королева эльфов, или принцесса. Это наше родословие там на двери. А руны те – имена бывших и будущих королев. Которое нынешнее – ты погляди, щурясь, оно крупнее мерцает.
– Постой-постой, – схватился я. – Я, понятно, к волшебствам приучен, но как же будущих?
– Я не знаю, – Эйфе чуть не плакала уже. – Я не королева и никогда не буду. Следующую будут звать Эль, так говорят звонкие руны. Но она еще не соткалась из воздуха и теней, и волхвы не знают где, они гадают каждый за свою ветвь, а какой смысл, если буду не я. Дай яблоко!
Я опешил опять (что за тюфяк!), но послушно отдал ей огрызок, голый уже до сердечка. Эйфе быстро, как одержимая духом, затолкала его в рот, раскусила так, что обе щечки раздулись, будто жвала… язычком вытолкнула на ладошку большое коричневое зерно, остальное плюнула сердито на сторону:
– Держи, – снова она была забавной беляночкой, разодетой к празднику, доброй к несчастному прохожему всей душой, готовой забесплатно открыть самый детский секрет: – Ты проглоти сейчас! Это судьба! – Ну что за лепет? Но Эйфе втиснула семечко мне в кулак, еще мокрый от яблочного сока, и вскочила. Нет – вспорхнула сразу на две ступени, переполоша несчастного водомерку, оставив мне только ветер и тающий яблонный аромат, да еще раскушенную горечь на заднем зубе.
За ней пришли.
Так вот я бредил! И в таком был мальчишеском счастье, что толчки и тычки реального мира даже не чуял. До того, что стражники, небрежно преклонившие надо мной свои чадилки, даже щеку мне безбородую закапавшие горячей смолой (аж до шрама!), даже замешкались.
И, ей-глаху говорю вам, я смеялся, слыша их разговоры! Мол, и одет-то как дворянчик, и лицо-то засветилось аж ярче, чем их факела… не, не ярче, а как-то, что ль, благодатнее. Словами-то и выразить не знали, и переминались в чудном онеменении (звать ли уж тихаря?), пока облаженный не перестал улыбаться.
А я – просто в какой-то момент перестал их видеть. Просто как будто на небо воспрял – в Асгардовы пределы, где вечное древо жизни высится еще в занебесье, в самим богам неведомые пределы.