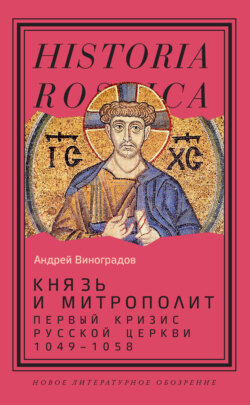Читать книгу Князь и митрополит. Первый кризис Русской церкви (1049-1058) - Андрей Виноградов - Страница 3
Введение
ОглавлениеНа скудость сведений об истории Руси XI века жалуются и те, кто о ней пишет, и те, кто про нее читает. Действительно, не сохранилось в полном виде ни одного древнерусского историографического текста этого столетия, исторические сведения в других литературных памятниках весьма отрывочны, а в иноязычных источниках упоминания Руси фрагментарны и порою противоречивы. Еще хуже дело обстоит с историей Русской церкви: от первого этапа ее существования до середины XI века, когда ее языком был греческий, до нас не дошло ни одного (!) текста, а появившиеся вслед за этим древнерусские произведения проливают свет преимущественно на частные вопросы, а не на общую картину. Мы не знаем ни имен Киевских митрополитов до 1039 года, ни дат основания епископских кафедр (не говоря уже об их предстоятелях), ни названий первых монастырей, ни родины строителей ранних церквей. Все эти лакуны исследователи, как мы увидим ниже, пытались заполнить за счет гипотез, зачастую весьма рискованных.
Между тем первая половина – середина XI века были ключевым этапом для формирования не только религиозной, но и политической идентичности Древней Руси. Митрополия Росии (так она называется в византийских документах), возникшая как самая удаленная епархия Константинопольского патриархата, быстро стала важнейшей действующей силой в политогенезе Восточной Европы. Епископские кафедры возникают в центрах крупнейших княжеств, а в периоды междоусобиц Церковь остается символом единства Руси и играет роль миротворца. При этом она находилась в подчинении далекого и не всегда дружественного Киеву Царьграда, откуда – без согласования с киевским князем – назначался ее предстоятель.
Единственная в Константинопольском патриархате полноценная (то есть с подчиненными епископами) митрополия за пределами империи, возникшая в результате политической коллизии эпохи Владимира Святославича, столкнулась при его сыновьях с неизбежной «проблемой роста». Усиление Киевской митрополии и ее значения для древнерусского государства неминуемо должно было привести к кризису старой церковной структуры. В свою очередь, князья-Рюриковичи, не зависимые от империи, пытались, с одной стороны, усилить контроль над Русской церковью, а с другой – ослабить влияние на нее Константинополя. Все это и привело к тем драматическим событиям церковно-политической истории Руси 1050-х годов, которым посвящена настоящая книга.
* * *
Впрочем, кризис в Русской церкви середины XI века, связанный с избранием Ярославом Владимировичем в митрополиты Киевские Илариона Русина и его поставлением собором русских епископов, как ни парадоксально, частью ученых был вообще не замечен. Другая часть исследователей отметила и изучила лишь отдельные его элементы. Но мало кто осознал и исследовал его как целостный феномен, чего этот кризис несомненно заслуживает. Даже в общих историях Древней Руси и Русской церкви его события чаще всего предстают как ряд разрозненных фрагментов. Причиной этому послужил, прежде всего, характер источников – с одной стороны, немногочисленных и кратких, а с другой, весьма разнородных и трудных для интерпретации.
Ключевой элемент этого кризиса первым выделил автор Никоновской летописи, составленной по заказу митрополита Даниила (1522–1539) в ту эпоху, когда Русская церковь была вынуждена отстаивать свое право на автокефалию1. Воспроизводя сообщение «Повести временных лет» (далее – ПВЛ) о поставлении митрополита Илариона в 6559 (1051/52) году, он дает ему свою трактовку:
Поставлен бысть митрополитъ на Руси своими епископы. Ярославу, сыну Владимерову, внуку Святославлю, съ Греки брани и нестроенiя быша, и сице Ярославъ съ епископы своими Русскими съвѣщавше, умыслиша по священному правилу и уставу апостольскому сице: правило святыхъ апостолъ 1-е: два или трiе епископы да поставляють единаго епископа, и по сему священному правилу и уставу божественыхъ апостолъ съшедшеся Русстiи епископи, поставиша Иларiона, Русина, митрополита Кiеву и всей Русской землѣ, не отлучающеся от православных патрiархь и благочестiа Греческаго закона, ни гордящеся от нихъ поставлятися, но съблюдающеся отъ вражды и лукавъства, якоже бѣша тогда2.
Таким образом, Никоновская летопись, с одной стороны, указывает на конфликт Ярослава с греками как причину самостоятельного поставления Илариона, а с другой, настаивает, что последнее было основано на канонических правилах Византийской церкви. Так была дана первая историческая трактовка событиям 1051 года, ключевым для первого кризиса Русской церкви.
Статья Никоновской летописи повлияла как на позднейшее летописание3, так и на русских историков XVIII–XIX веков, которые ссылались на нее в своих трудах4. Одним из первых критический разбор этой статьи дал Е. Е. Голубинский, который притом полностью отверг идею о возможном конфликте с Византией в связи с самостоятельным поставлением митрополита и счел, что Ярослав Владимирович пошел на такой необычный шаг просто из личной привязанности к Илариону. Признавая гипотетичность своих построений, он предположил также, что Новгородский епископ Лука Жидята был наказан митрополитом Ефремом в 1055 году за свое недовольство поставлением грека на Киевскую кафедру5. Важно отметить, что Голубинский впервые осознал казусы Илариона, Ефрема и Луки Жидяты как части одного процесса, хотя и не видел за этим никакого кризиса в русско-византийских церковных отношениях.
П. П. Соколов добавил в этот ряд еще и митрополита Феопемпта: его смерть он отнес ко времени не позднее 1043 года, а его преемником считал Кирилла I из поздних русских перечней митрополитов. Разбирая вопрос о праве назначения митрополита Росии и привлекая к анализу контекста поставления Илариона, кроме ПВЛ, также его ставленническую запись, он отрицал как связь этого акта с русско-византийской войной 1043–1046 годов, так и попытку Ярослава в 1051 году отделиться от Византийской церкви, которую удобнее всего было бы провести во время этой войны. Соколов считал, что Ярослав «мог быть введен в заблуждение» славянским переводом Кормчей, сделанным с устаревшего греческого оригинала, где содержались 123-я и 137-я новеллы Юстиниана I, которые предоставляли право избрания епископа клиру и видным горожанам. Наконец, ссылаясь на те же списки русских митрополитов с именем Илариона, исследователь допускал возможность его признания Константинополем, например по ходатайству Мономахини, жены Всеволода Ярославича, а кончину Илариона датировал временем до смерти Ярослава 20 февраля 1054 года на основании молчания летописи об архиерее при погребении последнего, после чего на Руси появился митрополит-грек Ефрем, которого Соколов четко отделил от Ефрема, митрополита Переяславского6.
Писавший одновременно с Соколовым М. Д. Приселков, в рамках своей концепции зависимости ранней Русской церкви от Охридской архиепископии (см. экскурс 1), рассматривал церковную политику Ярослава как попытку освободиться от этого подчинения: путем учреждения митрополии в 1037 году, составления Иларионом «Слова о законе и благодати» до 1043 года, высылки Феопемпта и неудачной войны с Византией в 1043 году и, наконец, самостоятельного поставления Илариона в 1051 году. Однако и последняя попытка оказалась неудачной: в 1052–1053 годах Ярославу пришлось отказаться от Илариона, за что он получил в жены своему сыну Всеволоду принцессу-Мономахиню, а сам Иларион ушел в Печерский монастырь, где постригся в схиму с именем Никон. Однако следующего митрополита Ефрема Приселков, вслед за И. Е. Евсеевым7, считал тождественным Ефрему, епископу Новгородскому: тот был сторонником Охридской архиепископии, а после 1018 года, оказавшись в опале, стал преемником Иоакима Корсунянина на новгородской кафедре и, наконец, в 1052–1053 годах был согласован Константинополем как кандидат на киевский престол8.
Возобновление интереса к истории Русской церкви середины XI века, угасшего по понятным причинам после 1917 года, связано с именами двух зарубежных исследователей. Л. Мюллер, проанализировав труды и историю Илариона, предположил, что никакого конфликта между Русью и Византией в 1051 году не было9, хотя и не разобрал всю приводившуюся по этому поводу аргументацию.
А. Поппэ написал целый ряд работ, посвященных разным аспектам данной темы10, правда, часто модифицируя свои гипотезы: так, если вначале он считал, что повторное освящение Св. Софии Киевской митрополитом Ефремом было вызвано ее осквернением из-за служения «незаконного» митрополита Илариона, то позднее, признав слабость собственных аргументов, счел, что для переосвящения «было достаточно много и других чисто обрядовых причин» (см. раздел IV, гл. 2). Финальный вариант его концепции церковного кризиса середины XI века11 выглядит следующим образом. Предшественником Илариона на Киевской кафедре был либо Феопемпт, либо неизвестный нам по имени грек. Самостоятельное избрание и поставление Илариона в 1051 году не было следствием ни плохого знания канонов, ни внешнеполитического конфликта Ярослава с патриархом Михаилом Кируларием, ни, наоборот, согласования кандидатуры с Константинополем – но лишь результатом споров внутри самой Византийской церкви относительно права избрания и поставления митрополитов, в том числе светской властью. В этом споре Киев поддерживал противников патриарха Михаила Кирулария: иноков Студийского монастыря в Константинополе и горы Афон, связанных с монахами из окружения Ярослава. Поппэ, без всякой ссылки на источники, видел студитов в Иларионе и Луке Жидяте (которым он приписывал введение на Руси Студийско-Алексеевского типикона), а также Феопемпте и почти всех монахах-клириках Св. Софии Киевской12. Впрочем, «студийская» гипотеза Поппэ не получила поддержки в науке13: действительно, первые реальные сведения о студитах на Руси восходят только к началу 1060-х годов (см. раздел V, гл. 2). Наконец, согласно Поппэ, преемник Илариона, грек-протопроедр Ефрем, взошел на кафедру еще до 1054 года (и даже до осени 1053 года14), а Ярослав или его сын Изяслав согласился на возвращение обычной практики поставления митрополитов Росии, сторонники же Илариона подверглись репрессиям. Кроме того, польский исследователь выразил сомнение в работе Илариона над Уставом Ярослава о церковных судах, учитывая более позднее происхождение памятника (XII–XIII века)15.
К сожалению, после статьи Поппэ 1970 года новых попыток целостного анализа церковных событий середины XI века не предпринималось. Я. Н. Щапов совершил прорыв в исследовании Устава о церковных судах, совместно принятого Ярославом и Иларионом (см. раздел III, гл. 2). В своей обобщающей монографии 1989 года, не разбирая подробно события 1051 года, он предположил, что Ярослав для утверждения Илариона отправил в Константинополь посольство с дарами16. Важные параллели для самостоятельного поставления первоиерарха, без ведома патриарха, указал С. Ю. Темчин (см. раздел II, гл. 2). Интересные наблюдения о церковной политике Ярослава высказал А. Ю. Карпов, впрочем, как и некоторые рискованные гипотезы (см. ниже, раздел II, гл. 2; раздел III, гл. 3)17. А. П. Толочко попытался скорректировать хронологию правления Илариона (подр. см. раздел II, гл. 2) и поддержал гипотезу о конфликте Руси и Византии по поводу его поставления и последующем примирении, в которое он включил и признание Константинополем борисоглебского культа (исходя из митрополичества Иоанна I после Илариона)18, однако его хронология противоречит источникам19. К сожалению, не стали новаторскими книги А. Н. Ужанкова о митрополите Иларионе20 и В. В. Милькова с соавторами о Луке Жидяте21: систематический анализ источников принесен здесь в жертву авторским концепциям, а одни гипотезы строятся на других22.
Наконец, большой вклад в изучение церковной истории Руси середины XI века внес А. В. Назаренко, причем как в отдельных работах, так и в энциклопедических статьях (подр. см. библиографию). Благодаря ему прояснились многие вопросы ранней истории русских кафедр (см. экскурс 1; раздел III, гл. 3), митрополий Ярославичей (см. экскурс 7), биографии Луки Жидяты (см. раздел V, гл. 3) и др. Остается только сожалеть, что ученый не успел написать обобщающее исследование первого кризиса Русской церкви: его энциклопедические статьи на данную тему23 и вышедший посмертно раздел о церковной политике Ярослава в «Истории России»24 дают лишь краткий абрис событий.
Итак, исследователей церковно-политических событий на Руси середины XI века можно разделить на две группы (ср. раздел II, гл. 2): видевших в самостоятельном выборе Илариона Ярославом и его поставлении собором русских епископов в 1051 году акт, враждебный Константинопольскому патриарху, и не придерживавшихся такого мнения. К концу ХX века эта дискуссия во многом себя исчерпала, поскольку вращалась вокруг давно известного круга немногочисленных источников: «Слова о законе и благодати» и ставленнической записи Илариона, статей ПВЛ 6559 года и Новгородской первой летописи младшего извода (далее – НIЛмл) 6563 и 6566 годов, проложного сказания об освящении киевского храма Св. Георгия и записи в месяцеслове Мстиславова Евангелия об освящении Св. Софии Киевской митрополитом Ефремом.
Однако тут внезапно последовал ряд находок, связанных не напрямую с Иларионом, а с периодом до и после его митрополичества, но позволивших пролить новый свет на ситуацию в Русской церкви середины XI века. С одной стороны, в Св. Софии Киевской нашлось греческое граффито 1038/39 года, а реставрационные работы открыли разновременность фресок и мозаик, что позволило установить хронологию строительства и украшения собора митрополитов Росии (см. раздел I, гл. 2; раздел IV, гл. 2). С другой стороны, были обнаружены и изданы антилатинское произведение Ефрема Киевского (см. раздел V, гл. 1) и новые, лучшие экземпляры его печати, а также отдельная печать Ефрема Переяславского (см. раздел IV, гл. 1), что помогло внести ясность в биографию киевского митрополита – преемника Илариона. Но главным открытием, важным для обеих вышеперечисленных тем, оказалось перечтение А. А. Гиппиусом граффито из Св. Софии Киевской, согласно которому она была освящена митрополитом Ефремом в 1052 году, что поменяло всю хронологию Киевских митрополитов середины XI века, сделав правление Ефрема более длительным, а Илариона – наоборот, очень кратким.
* * *
Все эти открытия, требующие полного и комплексного осмысления, заставили нас взяться за настоящую книгу. Ее задачи – вписать данные находки в общую картину церковных событий середины XI века на Руси и заново рассмотреть все давно известные источники, но без насилия над ними и втискивания их в прокрустово ложе «больших нарративов». Кризис, связанный с поставлением митрополита Илариона в 1051 году, формально был урегулирован очень скоро – уже в следующем году, однако у него были как свои предпосылки, прослеживающиеся с конца 1040-х годов (установление русского культа свв. Бориса и Глеба и программа «автокефалии» Русской церкви в «Слове о законе и благодати», произнесенном, вероятнее всего, в 1049 году), так и последствия, тянущиеся до 1058 года (резкая антилатинская позиция митрополита Ефрема в 1054 году и заточение им Новгородского епископа Луки Жидяты в 1055–1058 годах). Не претендуя на то, чтобы расставить все точки над i в данном вопросе, мы предлагаем читателю не только полный обзор всех событий церковной истории Руси середины XI века, но и новую трактовку многих ее аспектов.
Настоящая книга состоит из пяти разделов, которые пронумерованы римскими цифрами и делятся на три главы, обозначенные арабскими цифрами. Раздел I посвящен церковным реформам Ярослава Владимировича до 1051 года: главы данного раздела проливают новый свет на устройство Русской церкви, даты и причины появления ее кафедр (гл. 1), церковное строительство князя и реконструкцию хронологии его построек (гл. 2), зарождение и развитие культа свв. Бориса и Глеба (гл. 3). В центре внимания раздела II стоят события 1051 года и непосредственно предшествовавшие ему, связанные с митрополитом Иларионом: выявление его церковно-политической программы в «Слове о законе и благодати» (гл. 1), карьера Илариона и место его избрания (гл. 2) и интронизации (гл. 3) в русско-византийских церковных отношениях. Раздел III сконцентрирован на краткой деятельности Илариона в качестве митрополита: здесь предлагаются новые интерпретации принятого им вместе с Ярославом церковного устава (гл. 1), событий вокруг освящения им ктиторской церкви Св. Георгия в Киеве (гл. 2) и обстоятельств возникновения новых русских епископий и монастырей, в том числе знаменитого Киево-Печерского (гл. 3). Протагонист раздела IV – главный оппонент Илариона, новый митрополит-грек Ефрем: последовательно развивается новый взгляд на обстоятельства его назначения и приезда (гл. 1), внезапного и почти «скандального» переосвящения им Св. Софии Киевской (гл. 2), а также здесь рассматривается договор Ярослава с Константинополем, который, как оказывается, знаменует собой не только церковно-политическое поражение князя, но и некоторые его достижения, причем весьма существенные (гл. 3). Наконец, раздел V посвящен дальнейшей деятельности Ефрема на Руси: его реакции на «Великую схизму» 1054 года, затронувшую, как выясняется, непосредственно и Рюриковичей (гл. 1), его взаимоотношениям с Ярославичами (гл. 2) и русскими епископами и монахами, порождавшим новые конфликты (гл. 3).
Внутрь некоторых глав помещены восемь экскурсов (их конец внутри главы отмечен чертой), тематика которых формально выходит за хронологические рамки работы, но которые важны для понимания приводимой нами аргументации. Они посвящены уточнению обстоятельств и даты учреждения Киевской митрополии (экскурс 1), новой реконструкции формирования нарратива о крещении Владимира Святославича и Руси (экскурс 2), дискуссионному вопросу о праве избрания митрополита Росии (экскурс 3), слабо изученной процедуре занятия иерархами своих кафедр (экскурс 4), спорной дате учреждения Ростовской епископии (экскурс 5), не исследовавшейся прежде практике повторного освящения церквей в домонгольской Руси (экскурс 6), не до конца выясненным обстоятельствам возникновения на Руси двух новых митрополий в Чернигове и Переяславле (экскурс 7) и выявлению ранней биографии могущественного епископа Новгородского Луки Жидяты (экскурс 8). Во введении дан обзор общих трудов по Русской церкви середины XI века (разбор работ по отдельным вопросам см. в соответствующих главах), а в заключении – основные выводы нашей книги.
Завершая введение, хочется сказать слова благодарности всем друзьям и коллегам, посодействовавшим ее подготовке: М. А. Бойцову, Е. А. Виноградовой, А. А. Гиппиусу, Д. А. Добровольскому, Д. В. Каштанову, А. Ф. Литвиной, П. В. Лукину, П. С. Стефановичу, А. А. Ткаченко, Ф. Б. Успенскому, а также А. М. Введенскому и С. М. Михееву, согласившимся стать ее рецензентами. Отдельная благодарность священнику Михаилу Желтову, в соавторстве с которым был написана гл. 3 раздела II. Настоящая книга посвящается памяти безвременно ушедшего от нас А. В. Назаренко, в очной и заочной дискуссии с которым писались многие ее главы.
1
См.: Карпов А. Ю. Ярослав Мудрый (Жизнь замечательных людей. 1008). М., 2001. С. 418.
2
ПСРЛ. Т. 9. С. 83.
3
Например, Степенную книгу (II, 4): «По Феопенъте же митрополите совѣтомъ самодержца Ярослава епископи Русьтіи, сшедшеся и рассудивше по священнымъ правиломъ божественыхъ апостолъ и святыхъ отецъ, поставиша на Руськую митрополію святителя мужа именемъ Иларіона…» (ПСРЛ. Т. 21.1. С. 170).
4
Татищев В. Н. История Российская с самых древнейших времен. Кн. 2. М., 1773. С. 110; Карамзин Н. М. История государства Российского. 3-е изд. Т. 2. СПб., 1830. С. 39–40 (ошибочно приписывает Никоновской летописи утверждение о поставлении Илариона во время войны с греками); Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Т. 2. СПб., 1868. Известия. С. 1–2; Соловьев С. М. Сочинения. Т. 1. М., 1988. С. 210 (с бездоказательным утверждением о враждебном Руси поведении митрополита Феопемпта в период войны с Византией).
5
Голубинский Е. История Русской Церкви. Т. 1. 2-е изд. М., 1901. С. 297–300.
6
Соколов П. Русский архиерей из Византии и право его назначения до начала XV века. К., 1913. С. 41–54.
7
Евсеев И. Е. О митрополии Русской в конце IX в. // Прибавления к Творениям Святых Отцов. М., 1850. С. 132–133.
8
Приселков М. Д. Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси X–XII веков. СПб., 1913 (ухудш. переизд.: СПб., 2003). С. 92–115.
9
Müller L. Des Metropoliten Hilarion Lobrede auf Vladimir den Heiligen und Glaubensbekenntnis. Wiesbaden, 1962. S. 1–11; Мюллер Л. Понять Россию: Историко-культурные исследования. М., 2000. С. 100–114.
10
Приведем главные из них: Poppe A. Państwo i Kościół na Rusi w XI wieku. Warszawa, 1968; Idem. L’organisation diocésaine de la Russie aux XIe—XIIe siècles // Byzantion. 1971. Vol. 40. P. 165–217; Idem. La tentative de réforme ecclésiastique en Russie au milieu du XIe siècle // Acta Poloniae Historicae. 1972. Т. 25. P. 5–31; Поппэ А. Русские митрополии Константинопольской патриархии в XI в. // Византийский временник. 1968. Т. 28. С. 85–108; 1969. Т. 29. С. 95–104; Он же. Русско-византийские церковно-политические отношения в середине XI в. // История СССР. 1970. № 3. С. 108–124 (переизд. с испр. в: Он же. Студиты на Руси. Истоки и начальная история (Ruthenica. Supplementum 3). К., 2011. С. 102–124); Он же. Студиты на Руси.
11
Поппэ А. Русско-византийские церковно-политические отношения.
12
Там же. С. 36, 86–87.
13
См.: Артамонов Ю. А. «Гипотеза, выстроенная на гипотезах»: по поводу нового исследования А. Поппэ // Вестник церковной истории. 2013. № 1–2 (29–30). С. 361–387.
14
Поппэ А. Владимир Святой. У истоков церковного прославления // Факты и знаки: исследования по семиотике истории. Вып. I. М., 2008. С. 105–106.
15
Poppe A. Die Metropoliten und Fürsten der Kiever Rus’ // Podskalsky G. Christentum und theologische Literatur in der Kiever Rus’ (988–1237). München, 1982. S. 285–286 [пер.: Поппэ А. Митрополиты Киевские и всея Руси // Щапов Я. Н. Государство и церковь Древней Руси X–XIII веков. М., 1989. С. 193–194; Поппэ А. Митрополиты киевские и всея Руси (988–1305 годов) // Подскальски Г. Христианство и богословская литература в Киевской Руси (988–1237 годов). 2-е изд., испр. и доп. для русского перевода / Пер.: Назаренко А. В., под ред. Акентьева К. К. СПб., 1996. С. 446–471].
16
Щапов Я. Н. Государство и церковь. С. 167.
17
Карпов А. Ю. Ярослав Мудрый.
18
Толочко А. П. Замечания о первых митрополитах киевских // Вертоград многоцветный. Сборник к 80-летию Бориса Николаевича Флори. М., 2018. С. 73–90.
19
См.: Виноградов А. Ю. О хронологии русских митрополитов XI века (по поводу новой гипотезы А. П. Толочко) // Slovĕne. 2019. Т. 8. С. 477–485.
20
Ужанков А. Н. «Слово о законе и благодати» и другие творения митрополита Илариона Киевского. М., 2013.
21
Дергачева И. В., Мильков В. В., Милькова С. В. Лука Жидята: святитель, писатель, мыслитель (Памятники древнерусской мысли: исследования и тексты. 9). М., 2016.
22
См., например, такие пассажи: «Как мы знаем, на Руси были обетные храмы и монастыри, наверное, были и юбилейные храмы» (Ужанков А. Н. «Слово о законе и благодати». С. 41); «Здесь надо видеть руку митрополита-грека, заинтересованного в смещении с новгородской кафедры представителя национальной духовной дружины Ярослава» (Дергачева И. В., Мильков В. В., Милькова С. В. Лука Жидята. С. 69).
23
Назаренко А. В. Русская Церковь в Х – 1‑й трети XV в. // Православная энциклопедия. Русская Православная Церковь. М., 2000. С. 41–42; Назаренко А. В., Флоря Б. Н. Киевская епархия // Православная энциклопедия. Т. 33. М., 2013. С. 153–154.
24
Назаренко А. В. Русь в XI – первой трети XIII в. Церковь // История России. Т. 2. М., 2024. С. 560–568.