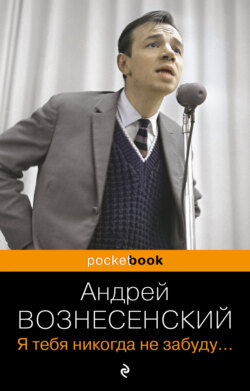Читать книгу Я тебя никогда не забуду… - Андрей Вознесенский - Страница 5
Из книги «Антимиры»
ОглавлениеМонолог Мерлин Монро
Я Мерлин, Мерлин.
Я героиня
самоубийства и героина.
Кому горят мои георгины?
С кем телефоны заговорили?
Кто в костюмерной скрипит лосиной?
Невыносимо,
невыносимо, что не влюбиться,
невыносимо без рощ осиновых,
невыносимо самоубийство,
но жить гораздо
невыносимей!
Продажи. Рожи. Шеф ржет, как мерин
(я помню Мерлин.
Ее глядели автомобили.
На стометровом киноэкране
в библейском небе,
меж звезд обильных,
над степью с крохотными рекламами
дышала Мерлин,
ее любили…
Изнемогают, хотят машины.
Невыносимо),
невыносимо
лицом в сиденьях, пропахших псиной!
Невыносимо,
когда насильно,
а добровольно – невыносимей!
Невыносимо прожить, не думая,
невыносимее – углубиться.
Где наша вера? Нас будто сдунули,
существованье – самоубийство,
самоубийство – бороться с дрянью,
самоубийство – мириться с ними,
невыносимо, когда бездарен,
когда талантлив – невыносимей,
мы убиваем себя карьерой,
деньгами, девками загорелыми,
ведь нам, актерам,
жить не с потомками,
а режиссеры – одни подонки,
мы наших милых в объятьях душим,
но отпечатываются подушки
на юных лицах, как след от шины,
невыносимо.
Ах, мамы, мамы, зачем рождают?
Ведь знала мама – меня раздавят,
о, кинозвездное оледененье,
нам невозможно уединенье —
в метро,
в троллейбусе,
в магазине.
«Приветик, вот вы!» – глядят разини,
невыносимо, когда раздеты
во всех афишах, во всех газетах,
забыв,
что сердце есть посередке,
в тебя завертывают селедки,
лицо измято,
глаза разорваны
(как страшно вспомнить во «Франс-Обзервере»
свой снимок с мордой самоуверенной
на обороте у мертвой Мерлин!).
Орет продюсер, пирог уписывая:
«Вы просто дуся,
ваш лоб – как бисерный!»
А вам известно, чем пахнет бисер?!
Самоубийством!
Самоубийцы – мотоциклисты,
самоубийцы спешат упиться,
от вспышек блицев бледны министры —
самоубийцы,
самоубийцы,
идет всемирная Хиросима,
невыносимо,
невыносимо всё ждать, чтоб грянуло,
а главное —
необъяснимо невыносимо,
ну просто руки разят бензином!
Невыносимо горят на синем
твои прощальные апельсины…
Я баба слабая. Я разве слажу?
Уж лучше – сразу!
1963
«Сирень похожа на Париж…»
Сирень похожа на Париж,
горящий осами окошек.
Ты кисть особняков продрогших
серебряную шевелишь.
Гудя нависшими бровями,
страшон от счастья и тоски,
Париж,
как пчелы,
собираю
в мои подглазные мешки.
1963
Париж без рифм
Париж скребут. Париж парадят.
Бьют пескоструйным аппаратом.
Матрон эпохи рококо
продраивает душ Шарко!
И я изрек: «Как это нужно —
содрать с предметов слой наружный,
увидеть мир без оболочек,
порочных схем и стен барочных!..»
Я был пророчески смешон,
но наш патрон, мадам Ланшон,
сказала: «О-ля-ля, мой друг!..»
И вдруг —
город преобразился,
стены исчезли, вернее, стали прозрачными,
над улицами, как связки цветных шаров,
висели комнаты,
каждая освещалась по-разному,
внутри, как виноградные косточки,
горели фигуры и кровати,
вещи сбросили панцири, обложки, оболочки,
над столом
коричнево изгибался чай, сохраняя форму чайника,
и так же, сохраняя форму водопроводной трубы,
по потолку бежала круглая серебряная вода,
в Соборе Парижской Богоматери шла месса,
как сквозь аквариум,
просвечивали люстры и красные кардиналы,
архитектура испарилась,
и только круглый витраж розетки
почему-то парил над площадью, как знак:
«Проезд запрещен»,
над Лувром из постаментов,
как 16 матрасных пружин,
дрожали каркасы статуй,
пружины были во всем,
всё тикало,
о Париж,
мир паутинок, антенн и оголенных проволочек,
как ты дрожишь,
как тикаешь мотором гоночным,
о, сердце под лиловой пленочкой,
Париж
(на месте грудного кармашка вертикальная, как рыбка,
плыла бритва фирмы «Жиллетт»)!
Париж, как ты раним, Париж,
под скорлупою ироничности,
под откровенностью, граничащей
с незащищенностью,
Париж,
в Париже вы одни всегда,
хоть никогда не в одиночестве,
и в смехе грусть,
как в вишне косточка,
Париж – горящая вода,
Париж,
как ты наоборотен,
как бел твой Булонский лес,
он юн, как купальщицы,
бежали розовые собаки,
они смущенно обнюхивались,
они могли перелиться одна в другую,
как шарики ртути,
и некто, голый, как змея,
промолвил: «Чернобурка я»,
шли люди,
на месте отвинченных черепов,
как птицы в проволочных клетках,
свистали мысли,
монахиню смущали мохнатые мужские видения,
президент мужского клуба потрясался
разоблачениями
(его тайная связь с женой раскрыта,
он опозорен),
над полисменом ножки реяли,
как нимб, в серебряной тарелке
плыл шницель над певцом мансард,
в башке ОАСа оголтелой
дымился Сартр на сковородке,
а Сартр,
наш милый Сартр,
задумчив, как кузнечик кроткий,
жевал травиночку коктейля,
всех этих таинств
мудрый дух
в соломинку,
как стеклодув,
он выдул эти фонари,
весь полый город изнутри,
и ратуши и бюшери,
как радужные пузыри!
Я тормошу его:
«Мой Сартр,
мой сад, от зим не застекленный,
зачем с такой незащищенностью
шары мгновенные
летят?
Как страшно всё обнажено,
на волоске от ссадин страшных,
их даже воздух жжет, как рашпиль,
мой Сартр!
Вдруг всё обречено?!»
Молчит кузнечик на листке
с безумной мукой на лице.
Било три…
Мы с Ольгой сидели в «Обалделой лошади»,
в зубах джазиста изгибался звук в форме саксофона,
женщина усмехнулась.
«Стриптиз так стриптиз», —
сказала женщина,
и она стала сдирать с себя не платье, нет, —
кожу! —
как снимают чулки или трикотажные
тренировочные костюмы,
– О! о! —
последнее, что я помню, это белки,
бесстрастно-белые, как изоляторы,
на страшном, орущем, огненном лице…
«…Мой друг, растает ваш гляссе…»
Париж. Друзья. Сомкнулись стены.
А за окном летят в веках
мотоциклисты в белых шлемах,
как дьяволы в ночных горшках.
1963
Ночь
Сколько звезд!
Как микробов
в воздухе…
1963
Муромский сруб
Деревянный сруб,
деревянный друг,
пальцы свел в кулак
деревянных рук,
как и я, глядит Вселенная во мрак,
подбородок положивши на кулак,
предок, сруб мой, ну о чем твоя печаль
над скамейкою замшелой, как пищаль?
Кто наврал, что я любовь твою продал
по электроэлегантным городам?
Полежим. Поразмышляем. Помолчим.
Плакать – дело, недостойное мужчин.
Сколько раз мои печали отвели
эти пальцы деревянные твои…
1963
Баллада-диссертация
Вчера мой доктор произнес:
«Талант в вас, может, и возможен,
но ваш паяльник обморожен,
не суйтесь из дому в мороз».
О нос!..
Неотвратимы, как часы,
у нас, у вас, у капуцинов
по всем
законам
медицины
торжественно растут носы!
Они растут среди ночи
у всех сограждан знаменитых,
у сторожей,
у замминистров,
сопя бессонно, как сычи,
они прохладны и косы,
их бьют боксеры,
щемят двери,
но в скважины, подобно дрели,
соседок ввинчены носы!
(Их роль с мистической тревогой
интуитивно чуял Гоголь.)
Мой друг Букашкин пьяны были,
им снился сон:
подобно шпилю,
сбивая люстры и тазы,
пронзая потолки разбуженные,
над ним
рос
нос,
как чеки в булочной,
нанизывая этажи!
«К чему б?» – гадал он поутру.
Сказал я: «К Страшному суду.
К ревизии кредитных дел!»
30-го Букашкин сел.
О, вечный двигатель носов!
Носы длиннее – жизнь короче.
На бледных лицах среди ночи,
как коршун или же насос,
нас всех высасывает нос,
и говорят, у эскимосов
есть поцелуй посредством носа…
Но это нам не привилось.
1963
Лирическая религия
Несутся энтузиасты
на горе мальтузианству,
человечество увеличивается
в прогрессии лирической!
(А Сигулда вся в сирени,
как в зеркала уроненная,
зеленая на серебряном,
серебряная на зеленом.)
В орешнях, на лодках, на склонах,
смущающаяся, грешная,
выводит свои законы
лирическая прогрессия?
Приветик, Трофим Денисычи
и мудрые Энгельгардты.
2 = 1>3 000 000 000!
Рушатся Римы, Греции.
Для пигалиц обнаглевших
профессора, как лешие,
вызубривают прогрессию.
Ты спросишь: «А правы ль данные,
что сердце в момент свидания
сдвигает 4 вагона?»
Законно! Законно! Законно!
Танцуй, моя академик!
Хохочет до понедельника
на физике погоревшая
лирическая прогрессия!
Грозит мировым реваншем
в сиренях повызревавшая —
кого по щеке огревшая? —
лирическая агрессия!
1963
Латышский эскиз
Уходят парни от невест.
Невесть зачем, из отчих мест
три парня подались на Запад.
Их кто-то выдает. Их цапают.
41-й год. Привет!
«Суд идет!» Десять лет.
«Возлюбленный, когда ж вернешься?!
четыре тыщи дней, как ноша,
четыре тысячи ночей
не побывала я ничьей,
соседским детям десять лет,
прошла война, тебя всё нет,
четыре тыщи солнц скатилось,
как ты там мучаешься, милый,
живой ли ты и невредимый?
предела нету для любимой —
ополоумевши любя,
я, Рута, выдала тебя —
из тюрьм приходят иногда,
из заграницы – никогда…»
…Он бьет ее, с утра напившись.
Свистит его костыль над пирсом.
О вопли женщины седой:
«Любимый мой! Любимый мой!»
1963
«Как всегда, перед дорогой…»
Как всегда, перед дорогой
говорится не о том.
Мы бравируем с тревогой,
нам всё это нипочем.
…В темноте лицо и брюки,
только тенниска бела,
ты невидимые руки
к самолету подняла.
Так светяще, так внимательно
вверх протянута, вопя,
как Собор
Парижской
Богоматери —
безрукавочка твоя!
1964
«Шарф мой, Париж мой…»
Шарф мой, Париж мой,
серебряный с вишней,
ну, натворивший!
Шарф мой – Сена волосяная,
как ворсисто огней сиянье,
шарф мой Булонский, туман мой мохнатый,
фары шоферов дуют в Монако!
Что ты пронзительно шепчешь, горячий,
шарф, как транзистор, шкалою горящий?
Шарф мой, Париж мой непоправимый,
с шалой кровинкой?
Та продавщица была сероглаза,
как примеряла она первоклассно,
лаковым пальчиком с отсветом улиц
нежно артерии сонной коснулась…
В электрическом шарфе хожу,
душный город на шее ношу.
1963
Тишины!
Тишины хочу, тишины…
Нервы, что ли, обожжены?
Тишины…
чтобы тень от сосны,
щекоча нас, перемещалась,
холодящая, словно шалость,
вдоль спины, до мизинца ступни.
Тишины…
звуки будто отключены.
Чем назвать твои брови с отливом?
Понимание – молчаливо.
Тишины.
Звук запаздывает за светом.
Слишком часто мы рты разеваем.
Настоящее – неназываемо.
Надо жить ощущением, цветом.
Кожа тоже ведь человек,
с впечатленьями, голосами.
Для нее музыкально касанье,
как для слуха – поет соловей.
Как живется вам там, болтуны,
на низинах московских, аральских?
Горлопаны, не наорались?
Тишины…
Мы в другое погружены.
В ход природ неисповедимый.
И по едкому запаху дыма
Мы поймем, что идут чабаны.
Значит, вечер. Вскипает приварок.
Они курят, как тени тихи.
И из псов, как из зажигалок,
Светят тихие языки.
1963
Итальянский гараж
Б. Ахмадулиной
Пол – мозаика
как карась.
Спит в палаццо
ночной гараж.
Мотоциклы как сарацины
или спящие саранчихи.
Не Паоло и не Джульетты —
дышат потные «шевролеты».
Как механики, фрески Джотто
отражаются в их капотах.
Реют призраки войн и краж.
Что вам снится,
ночной гараж?
Алебарды?
или тираны?
или бабы
из ресторана?..
Лишь один мотоцикл притих —
самый алый из молодых.
Что он бодрствует? Завтра – Святки.
Завтра он разобьется всмятку!
Апельсины, аплодисменты…
Расшибающиеся —
бессмертны!
Мы родились – не выживать,
а спидометры выжимать!..
Алый, конченый, жарь! Жарь!
Только гонщицу очень жаль…
1962
Бьет женщина
В чьем ресторане, в чьей стране – не вспомнишь,
но в полночь
есть шесть мужчин, есть стол, есть Новый год,
и женщина разгневанная – бьет!
Быть может, ей не подошла компания,
где взгляды липнут, словно листья банные?
За что – неважно. Значит, им положено —
пошла по рожам, как белье полощут.
Бей, женщина! Бей, милая! Бей, мстящая!
Вмажь майонезом лысому в подтяжках.
Бей, женщина!
Массируй им мордасы!
За все твои грядущие матрасы,
за то, что ты во всем передовая,
что на земле давно матриархат —
отбить,
обуть,
быть умной,
хохотать, —
такая мука – непередаваемо!
Влепи в него салат из солонины.
Мужчины, рыцари,
куда ж девались вы?!
Так хочется к кому-то прислониться —
увы…
Бей, реваншистка! Жизнь – как белый танец.
Не он, а ты его, отбивши, тянешь.
Пол-литра купишь.
Как он скучен, хрыч!
Намучишься, пока расшевелишь.
Ну можно ли в жилет пулять мороженым?!
А можно ли
в капронах
ждать в морозы?
Самой восьмого покупать мимозы —
можно?!
Виновные, валитесь на колени,
колонны,
люди,
лунные аллеи,
вы без нее давно бы околели!
Смотрите,
из-под грязного стола —
она, шатаясь, к зеркалу пошла.
«Ах, зеркало, прохладное стекло,
шепчу в тебя бессвязными словами,
сама к себе губами прислоняюсь
и по тебе сползаю тяжело,
и думаю: трусишки, нету сил —
меня бы кто хотя бы отлупил!..»
1964
Песня Офелии
Мои дела —
как сажа бела,
была черноброва, светла была,
да всё добро свое раздала,
миру по нитке – голая станешь,
ивой поникнешь, горкой растаешь,
мой Гамлет приходит с угарным дыханьем,
пропахший бензином, чужими духами,
как свечки, бокалы стоят вдоль стола,
идут дела
и рвут удила,
уж лучше б на площадь в чем мать родила,
не крошка с Манежной, не мужу жена,
а жизнь, как монетка,
на решку легла,
искала —
орла,
да вот не нашла…
Мои дела —
как зола – дотла.
1957
Прощание с Политехническим
Большой аудитории посвящаю
В Политехнический!
В Политехнический!
По снегу фары шипят яичницей.