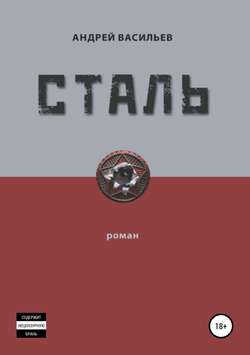Читать книгу Сталь - Андрей Юрьевич Васильев - Страница 5
3
Оглавление– Сапоги однако ж нужны тебе, давай еще сотню!
– Больно жирно.
– Пропадешь без сапог.
Спрятав деньги, что получил прежде, старик сел, лицо его светилось и было видно, что рад он, что получил больше, чем мог даже думать.
– Потом отдашь за сапоги-то, – наконец кивнул он, отер лицо, едва справляясь с набегающей улыбкой, не желая торопиться, понимая, что торопиться придется, все еще не трогаясь с места.
– А тебя-то, тебя-то как звать? – вдруг спросил Николай.
– Тебе зачем?
– Как то есть? – Николай наморщил лоб, – а сказать, а спросить, а в лесу, ежели заблудился, отстал или еще что, как позвать, крикнуть кого?
– Иваном, – неохотно отвечал старик.
– И документ есть? – ударивши на «у» с давешней стариковской интонацией спросил Николай.
– Ишо чего? – старик вскинул глаза, – зачем?
– Ты мой видал.
– Незачем, – отвернулся старик, – зови Иваном и все тут. На! Нагнувшись, Иван вытянул из-под кровати ношеные, с истертыми до бархатной, серой белизны голенищами, кирзовые сапоги, бросил на середину избы. Бух!
Николай вздрогнул.
– Эти?
– Других нет. Собирайся. Теплое бери, деньги бери, хорошо прячь, понял ли?
– Понял.
– На голову чо-нить, спички бери, флягу для воды, значить, если есть.
– Нет. Откуда?
– Мазь от комаров, ежели имеется – бери всю, комары нынче злые, мелкие, кусючие, портянки на печи, твердые они – не беда, помни руками-то, псиной пахнут, да некогда стирку заводить, на носки навернешь – зато ноги не сшибешь, нож бери, есть нож-то?
– Есть.
– То-то. Тушенку, сухари, картошек бери вон там, в углу, в ящике, ростки-то посрывай, во-от, язя сухого, последнего с веревки сымай, – старик шмыгнул носом, – котелок, плошки, бумагу, соль я возьму, нож, ружо, спички тоже возьму, эх, водки бы взять, да нету!
– Есть.
– Вот жучила, зашкерил, значить!
– Как?
– Спрятал! – старик пискнул высоким фальцетом, моргнул одобряюще, – это хорошо, в дороге пригодится и ночи, гляди, будут холодны. Скоро уж. Ну, собрал, что ли?
– Куда столько-то, некуда…
– На-ко вот, – старик бросил ему мешок с привязанной за концы, потемневшей веревкой, – укладывай, понесешь.
– Почему я?
– Тебе надо.
Николай уложил все необходимое, вышло тяжеленько, прихватив рукой горловину мешка, другой вертел веревку, пытаясь понять, куда ее приладить – старик наблюдал.
– Собрал, что ли?
– Собрал.
– Вяжи.
– Как?..
Иван ждал, будто к чему-то готовился.
– Думай… Думай, ну!..
– Я думаю.
– Петлю, петлю сделай из веревок-то!..
– Как?..
– Ах, ты, господи, ты меня прости!.. – старик поднял глаза к потолку, – руку, руку просунь под веревеку-то, и не вынимая, ниже возьми пальцами, понял ли?..
Николай неожиданно для себя сделал простую крепкую петлю, надел на горло мешку, затянул.
– Всего делов!
Старик потянулся, по-детски поджав ноги, зевнул, лег.
– Спи! Подниму рано.
Спустились сумерки, лес сплотился до чернильной тьмы, у Николая заныло в груди. Ему сделалось страшно идти в бездонный, незнакомый лес с незнакомым этим стариком, искать что-то или кого-то, кого не представлял себе, не понимая, хочет ли найти, не зная – хочет ли знать, то, что хотел знать еще совсем недавно. Ну, сгинул народ, пропал, переродился – что ему за дело, зачем ему это, зачем, за каким чертом, раз сгинул – не вернешь, не повернешь, не воротишь, мертвых не поднимешь, а то может и сам…
Опять она, мысль эта, будь она проклята, опять, опять! Он потер руки, помотал головой, прогоняя мысль о возможной смерти – мысль не ушла, отпрянув, мысль остановилась, как голодная собака, взглянула. Он видел ее прежде. Он вспомнил, как, будучи лет шести от роду, лежа с желтухой в инфекционной больнице, набрел он на эту мысль, которая показалась ему странной, неподтвержденной, даже смешной, но чем больше он думал, тем вернее приходил к выводу, что не избежать, не уйти, не спастись. Он помнил обстоятельства, и даже детей, которые всякую ночь заводили в палате страшные разговоры о кровопийцах, о загубленных младенцах, о покойниках, которые ему, ребенку, представлялись каким-то странным народом, который никогда прежде не был жив, а был всегда мертв, как мертв теперь народ по имени Сталь.
Николай вздохнул, вытянулся на жестком топчане. «Никуда не хочу, – думал он, – не хочу, не хочу, и идти не хочу, не хочу! – он хотел сей же миг бежать отсюда со всех ног, да испугался черного леса. – Я пришел, чтоб узнать, чтобы дед рассказал, что знает, чтобы успокоиться, угомониться, ну сгинул, ну и бог с ним, с народом этим, черт с ним! А теперь, чего я добиваюсь теперь?!. – Николай помотал головой, сморщился, словно от боли, – запутался, заплелся! Мне нужно было знать, дед уперся, не сказал, меня заело, захотелось победить, мне важно было настоять, чтобы было по-моему – вот и все, вот и все, я победил, настоял, что теперь? В лес, на двое суток в лес, неведомо зачем, а там в гостиннице на его место араб возьмет другого, непременно возьмет, может быть, уже взял, оно, может, и черт с ним, с местом этим, надоело, и араб надоел, осточертел, проклятый, пропади он пропадом, и однако ж новое, другое место найти будет трудненько, не вдруг найдется оно, не вдруг! Побегаешь за ним, за местом-то, побе-егаешь, – мысленно кричал он себе, – покрутишься, повертишься, денег-то, денег-то сколько отдашь старику, с чем останешься-то, с чем вернешься, и вернешься ли?!.»
Николай сел, обхватил голову руками: «Не поздно, еще не поздно, – неслось в голове, – и завтра по утру не будет поздно, однако ж деньги, деньги у старика взять придется, а ежели отнять у него деньги – сгинет он в зиму, помрет, с голоду помрет, окалеет, да черт с ними, с деньгами, оставлю, как есть, оставлю, не пойду, никуда не пойду, не хочу, домой хочу, к Соне, хочу, хочу!..»
Он улыбнулся при одном упоминании о ней, ему стало покойно.
– Со-ня… – он округлил губы, без звука выдохнул.
– Ты чо не спишь?! – гаркнул старик.
– Я сплю, – машинально отвечал Николай.
– Спи!
Николай лег.
– Холера.
Страх. Вот что это.
Странное время ночь – странное время для того, чтобы говорить и думать правду, но вот думается. Страх это, не желание быть с Соней, а страх, безотчетный, глупый страх перед неясным, неизвестным, перед работой, которая должна быть совершена, у которой, кроме обыкновенного любопытства, нет никаких оправданий, отчетливых целей. И лень, и страшно – вот и все, сутки, больше идти по лесу лень, а по незнакомому лесу страшно, и со стариком страшно. Он вдруг поймал себя на мысли, что ничего не знает про старика, знает только имя, а его ли оно, имя-то, не его ли – поди ты знай. Он помнил, как светился старик, припрятывая полученные вперед деньги, половину обещанных денег, другая половина которых лежала у Николая в кармане, и старик видел, куда он их положил, видел, провожал глазами. А что, если в лесу-то заведет он его, стукнет, а то и пристрелит в глухом этом лесу, как собаку, пристрелит, приберет денежки – и шабаш?..
Глупо, как глупо.
Он вновь припомнил свое детство, больницу и тот ужас, который испытал тогда, наткнувшись на мысль о неизбежной смерти. Он бежал от нее в своих мыслях, бежал все быстрее и быстрее, бежал стремительно, увертываясь, подбирая предлоги, причины, по которым ему одному останется жизнь, останется непеременно, жизнь, которой не может лишиться, потому что не хочет, потому что не хочет и все, и довольно ему его собственного желания не расставаться с жизнью, довольно, достаточно, раз не хочет, так и не отдаст: «Нет, нет, не отдам, не отдам!!!» – мысленно кричал он, забившись под больничное одеяло, ворочаясь с боку на бок. И однако, равнодушный страх смерти настигал его снова и снова, обступая со всех сторон, сжимая его маленькое сердце.
«Не-ет, не-ет», – все еще шептал он, обливаясь слезами, крючась под одеялом, понимая, что не победил, что не победит, – нет, не-е-е-ет…»
Он не сдавался, не имея, однако, сил бороться.
– Нет.
Он разлепил губы, полушепотом произнес свое последнее той ночью слово, которое, будучи призванным сопротивляться, вдруг согласилось.
* * *
Отныне он знал, что и он смертен, что смерть – лишь дело времени.
Отныне он пребывал в ожидании и не было дня, чтобы он не думал об этом, чтобы не вспоминал о неизбежной, надвигающейся смерти, привыкая быть, жить в ожидании, то утомляясь, то отчаиваясь, то принимаясь сопротивляться, привыкая все крепче, наконец привык, и привыкнув, сделался старше, чем был, на годы, на десятки, на сотни лет.
Да.
На сотни.
Ему казалось, что, совершенное невольно, страшное открытие погубит теперь его жизнь, что он обречен, и что ждать осталось недолго. Он ждал, укладываясь спать и просыпаясь, он ждал, ласкаясь к матери и отцу, он ждал, отсиживая в школе и отвечая уроки, он ждал, замирая вечерами в синей темноте квартиры, он ждал всегда – смерть не приходила. Она не тревожила его, не напоминала о себе, не скрежетала зубами, не пугала, не стояла за спиной – ее как будто не было, как будто все, что пережил он, лежа в больнице, было плодом его детского воображения, выдумкой, бессмысленным, безотчетным страхом, который понемногу стал отпускать его, отодвигаемый повседневностью, стал забываться, слабеть, покуда не исчез совсем. Даже когда умерли мать и отец – страх смерти к нему не возвращался, не пугал, и только теперь, спустя годы, много лет, страх вернулся вновь.
Старик вдруг задвигался, сошед с кровати, не потянувшись, не медля, сразу забросив одеяло, что означало, что ночь прошла, обув бесформенные серые чуни, затопал по избе.
– Пошел, пошел! – топая, приговаривал стрик, – вставай.
Николай повернулся, привстал.
– Не спал, что ли?
– Спал, – соврал Николай.
– Пора.
Старик выбежал до ветру, чем-то загремел в предрассветной тьме, выругался весело.
– Жрать давай!
Ели скоро, не разогревая, волокнистая тушенка, покрытая зернистым, ломким жиром имела странный, застывший вкус, на который ни Иван, ни Николай не обратили внимания.
– Будя! – старик отер губы, глянул в оконце. – Готов?
– Готов.
– А сапоги-то? Не лезут?
– Не пробовал.
– Надевай! – старик хлопнул ладонью по столу.
– Доем, – спокойно отвечал Николай.
– Ну-ну. Портянку-то навернуть умеешь?
– Нет.
– Дело. – Старик вздохнул, опустил плечи.
– Научусь, не велика наука, – Николай облизнул ложку, отложил.
Вышли, когда солнце обожгло уже верхушки деревьев. Старик впереди, Николай позади.
– Не иди по траве-то, голова, – не оборачиваясь, наставлял старик, – росно, иди, где посуше, а то ноги замочишь, беда с тобой, ей богу!..
– Угу, – отвечал Николай.
Сейчас он не боялся ни смерти, ни черного леса, который, впитывая в себя солнечный свет, наполнялся светом, звоном птичьих голосов, звоном его необъяснимой радости. Ему было хорошо, против всяких ожиданий, ему было весело, он принялся насвистывать, на ходу обирая черничник, пачкая густым ягодным соком руки и рот, чувствуя себя мальчишкой, как чувствовал себя когда-то с отцом, с которым ходил, бывало, в соседний лес по грибы и по ягоды. И тот лес был страшен, покуда был он мал, и отец был жив.
Был.
Звякнув, мысль ударилась о беспричинную радость, будто муха о стекло. Отпала. Ему не хотелось думать о смерти, ему не хотелось думать совсем, ему хотелось жить.
– Далёко не пойдем, – остановившись, забурчал старик, – нет.
Николай в три шага нагнал его, встал – лицо старика было красно, он тяжело дышал.
– Чо смотришь, давно не хаживал, давно, а тут рысью, рысью взял, шибко взял, помедленней бы, а?
– Что?
– Помедленней, говорю, пойдем-то?
– Как хочешь.
Старик отер лоб, голову, отдышался.
– Кого мы ищем-то?
– Кого надо, – отозвался старик.
– А кого нам надо?
– Увидишь.
– Темнишь, ты, старый…
– Куда там!..
– Морочишь ты меня, – Николай многозначительно кивнул, – глупей себя нашел, вот и морочишь, голову мне морочишь, сам не знаешь, небось, куда идти, кого искать, так только, говоришь, трепешь, из ума ты выжил, выскочил, сам не знаешь, ни черта не знаешь!
– Знаю.
– Скажи!..
– Чо, денег пожалел? – старик ощерился остатками зубов.
– Причем тут деньги?..
– Сам хочешь, все сам, сам! Городские-то все сами норовят, все сами, хоть русские, хоть китайцы! Скажу, а что толку-то? Сам не найдешь, нипочем не найдешь, не дойдешь, сам-то!
– Тогда веди.
– Пошли!
На черта он подначивал старика – он и сам не знал, зачем задирался, обижал его, выставлял дураком.
– Извини, слышь?
– За что? – старик сплюнул. – И прав ты опять же, не знаю я куда идти, так только, примерно знаю, кочуют они потому что?
– «Они», кто «они»?
– Эти, которых ты видал.
– К ним, стало быть?
– К ним. Они все знают, весь лес, каждую дрянь, только где их искать, богу известно, бога б спросить!
– Спроси.
– Да не скажет он!
– А вдруг? – и тут же, подняв глаза к небу, Николай широко перекрестился, – господи, где они, где искать их, проклятых, чертей чумазых, господи?!.
– Ну, ты, это, не того… – опомнясь, закудахтал старик, – не богохуль!
– Сам начал.
– Следов, следов до черта, а людей нет!
– Так что, может не пойдем, не пойдем, может?!
– Идем уже!!!
Старик зашагал быстрее прежнего, ловко перескакивая через кочки и камни, через гниющие поваленные стволы, затопал молодо, скоро, однако, задохнулся опять, сбросил скорость, пошел медленнее, останавливаясь, приседая.
– Нет, не могу, скоро не могу!
– Не надо, не торопись, как будет, так и будет.
– Старо стало… – старик улыбнулся, – вот прежде, бывало, ходил, удержу не знал, шел и шел, как машина все равно, не разбирая дороги, в тайге был, как у себя дома, уйду, бывало, на три дня, а то на неделю – и хоть бы хны! Все тута – и стол, и постель, до самого снегу на земле спал!
– Да ну?
– Да!
– Страшно, небось?
– Чего бояться-то?!.
– Мало ли…
– В лесу бояться нечего… – старик помолчал, – человека надо бояться, страшней всех человек.
Николай хмыкнул.
– Не веришь?
– Не знаю.
– Знай. – Старик повернулся, глянул, глянув, продолжал, – и осенью, бывало, костерок, часок-другой, в костровище ляжешь – и за милую душу! К рассвету только зябко, а так – ничего. Жена, бывало, точит, точит, то не так, это не эдак, а я в тайгу – а тута воля, иди, куда хошь, хоть направо, хоть налево ступай, ничо не бойся. Зверья было сколько хошь, разного, бил, конечно, как не бить, завсегда приварок. Однако не лютовал, как другие, никогда не лютовал, лишнего не брал, ни-ни, только на прокорм и семье.
– Так ты женат был?
– Был, а как же.
– И дети есть?
– Два сына были.
– Как это?
– Так. – Старик молчал, Николай ждал рассказа, желая ничего не пропустить, старался ступать тише.
– Дело прошлое, – Иван, шмыгнул носом, отвернулся, сплюнул, – черт его знат!.. – старик остановился, глядя в пространство, и вдруг принялся ругаться, выбирая ругань черную, чернее черного, не переставая, выжовывая самые гадкие, разрывные слова, которых память его хранила пропасть, ни к кому не обращаясь, не останавливаясь, даже не прерываясь, говорил и говорил с одной и той же интонацией, и если бы не слышал слов, подумал бы Николай, что старик молится.