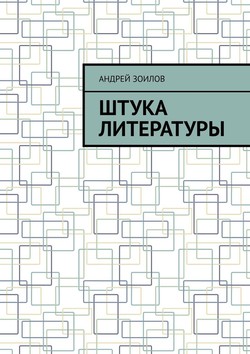Читать книгу Штука литературы - Андрей Зоилов - Страница 5
Математическая база литературы
ОглавлениеВ младших классах средней школы у нас было два основных предмета: «математика» и «родной язык и литература». Были, разумеется, и другие уроки, в том числе природоведение (по сей день не знаю, что это за наука, хотя числился вполне успевающим учеником), рисование, пение и физкультура. Но эти два – математика и литература – считались «основными». Очевидной связи между ними не просматривалось никакой. Конечно, их объединяло то, что преподавались они в одном и том же здании, а нередко – и в одной и той же комнате. А более – ничто. Во всяком случае, мы, дети, глубинных связей между этими разделами школьной науки не замечали. И только сильно постарев и многое повидав, подходя уже к пенсионному порогу, я приметил глубокие внутренние связи, незримые на первый взгляд, но весьма прочные, между обоими предметами. Ещё точнее: между изучаемыми дисциплинами. На всех познавательных уровнях. И эти связи я попытаюсь нащупать и предъявить. Они важны, эти связи, они во многом определяют изучаемый предмет. Как говорили нам в школе хорошие преподаватели математики: «Математика – это универсальный язык науки». Мы кивали необразованными головами и могли даже повторить это утверждение, но пользоваться этим языком не умели, да, пожалуй, недостаточно умеем и сегодня.
По внутреннему предпочтению, выказываемому каждым школьником одному из этих предметов, можно было условно разделить весь контингент на детей с «гуманитарным» или «техническим» складом ума. Не обязательно каждая подрастающая личность немедленно укладывалась в это разделение: были отличники, равно получавшие высшие оценки по всем предметам, были и двоечники, равно все уроки не любившие. Конечно, впоследствии прибавлялись ещё науки, школьники увлекались какими-то областями знаний или охладевали к ним, но это основное разделение на «физиков» и «лириков», на «технарей» и «гуманитариев» сохранялось. Собственно говоря, и вузы делились по этой градации на гуманитарные и технические. В качестве промежуточной сферы между науками «точными» и «гуманитарными» фигурировали науки «естественные» – но в каждом конкретном случае молодой человек со временем сам определял, к каким области и роду относится его деятельность. Например, нынешнюю медицину никак нельзя охарактеризовать как точную науку, хотя она и стремится к точности; вместе с тем педагогика – деятельность явно гуманитарная, так что молодой человек, окончивший математический факультет педагогического института и преподающий в школе математику, вполне вправе считать себя по роду деятельности таким же гуманитарием, как преподаватель литературы, хотя область его знаний остаётся «технической».
«Физики и лирики» – так называется стихотворение советского поэта Бориса Абрамовича Слуцкого (1919—1986), которое было впервые напечатано в «Литературной газете» (1959, 13 октября):
Что-то физики в почёте, что-то лирики в загоне.
Дело не в сухом расчете, дело в мировом законе.
Далее поэт говорит о том, что «лирики в загоне» потому, что время требует именно «физиков», людей точных знаний. После публикации этого стихотворения в советской печати развернулась бурная дискуссия, где стороны выясняли, кто «более нужен» – «физики» или «лирики». В конце концов, все сошлись на том, что нужны и те и другие, что важна как наука, так и искусство.
(По материалу «Википедии»)
Я это почему пишу: потому что сам – «гуманитарий» с детства по складу характера и особенностям восприятия. Так была отмечена моя жизнь вне зависимости от того, что с преподавателями математики мне и моим одноклассникам в отрочестве в основном везло, а с преподавателями литературы – не очень. В других школах бывало и наоборот, но это дела не меняло (отсылку на один из таких случаев у замечательного профессионального писателя смотрите в «Пояснениях» после статьи). Это не влияло на саму суть изучаемого предмета. Это могло повлиять лишь на дальнейшие судьбы учащихся: преподаватель оказывал на них некое влияние; соединяясь с другими влияниями, иногда намного более сильными, оно обретало результат в поступках: например, при выборе работы из имеющихся вакансий или при выборе дальнейшего учебного заведения. Или хотя бы при фиксировании воспоминаний.
При обсуждении какого-либо вопроса среди «гуманитариев» привлечение математического аппарата и использование математических понятий для прояснения темы считались неудобным, неприличным, вызывающим и бессмысленным. В частности, важная для сути вопроса теорема: «в полном массиве текстов любой развитой литературы можно найти произведения, иллюстрирующие различные, в том числе диаметрально противоположные точки зрения на один и тот же предмет» была недоказуема априори. Во-первых, потому что жрецы властвовавшей тогда идеологии методом усечения сокращали массив дозволенной к рассмотрению литературы; во-вторых, потому что вместо самого предмета литературы повсеместно преподавались «избранные главы истории литературы», а они никак не предусматривают учёт «полного массива текстов». И если первая причина была в России в 90-х годах ХХ века устранена (или частично устранена), то вторая – практически не переменилась: до сих пор и в школах, и в вузах вместо предмета литературы преподают избранные главы её истории. Между тем доказательство этой теоремы помогает разрешить идеологические сомнения: если какая-либо книга, содержащая утверждения или идеи, прямо противоположные разбираемой, не представлена в изучаемой программе – это вовсе не значит, что она не существует; это всего лишь значит, что она не упоминается: сознательно ли, по незнанию, по недосмотру либо по иным соображениям. В переводе этой словесной формулы для эмоционального восприятия школьниками: литература так же не виновата в том, что её подают с неудобоваримой стороны, как зарезанная корова не виновата в том, что вместо бифштекса вам достались кости.
Была различной методика познания излагаемых дисциплин. Математика подавалась как предмет, где ранее изложенные знания не опровергают последующие. И доказанные ранее теоремы принимаются как соответствующие истине, о каком бы дальнейшем разделе математики мы бы ни говорили. Справедливость теоремы Пифагора не опровергалась алгебраическими формулами сокращённого умножения, тригонометрическими функциями или дифференциальным исчислением. В изложении же литературы всячески устранялась универсальность математического подхода: словесные формулы изучали только в соответствии с их авторами, и правильными полагались те действия, которые совершал изучаемый автор в некоей ситуации прошлого, мало знакомой учащимся; либо правильными полагались некоторые действия персонажа в тех обстоятельствах, которые были изложены автором изучаемого произведения. То, что учащиеся находились совсем в других обстоятельствах, не беспокоило преподавателей. Теорем в литературе не существовало вовсе: разрешались только качественные оценки. При изучении языка действовали уроки грамматики и пунктуации, содержавшие четко определённые правила, известные каждому корректору, но при изучении литературы об её правилах и законах нам не говорили никогда.
При изучении математики (да и других «точных» наук, например, физики или химии) история становления самой науки занимала в учебном году сравнительно небольшое место. Мы узнавали несколько имён в связи с результатами их трудов; подробности их жизни были не обязательны к запоминанию, и сделанные ими откровения впредь входили в общую сумму знаний без указания, как правило, конкретного автора. При изучении же литературы именно подробности жизни и особенности конкретных произведений тех авторов, которые описаны в учебнике, считались основным содержанием предмета. По-видимому, это происходило в связи с отсутствием аксиоматической системы, теорем, понятий о словесных формулах и о формульных приёмах. Речь шла не о спектре человеческих взглядов и общественных идей, а о конкретных текстах, утверждённых вышестоящими инстанциями в качестве классических; не о возможных стилях изложения мысли, а о неотрывности «прогрессивной» мысли автора от его произведений; не о возможностях техники использования текстовых приёмов и создания словесных формул, а о непосредственном результате применения этой техники конкретным автором.
В четвертом, кажется, классе (это значит, по 10—11 лет нам было) на уроках мы читали «Песнь о купце Калашникове» Лермонтова. К счастью, детский мозг устроен таким образом, что пропускал мимо всё непонятное и необъяснённое, чтобы разобраться позже. Иначе я задал бы вопрос: какого чёрта мы это делаем? И получил бы ответ вопросом на вопрос (в таком стиле любит изъясняться моя жена): а какого рожна тебе надо? Так предусмотрено школьной программой. Возможно, составители программы полагали, что история кулачного боя добра молодца с опричником (очень нам было дело до вашего опричника!) послужит смягчению нравов. Увы, насколько я знаю, этот текст не предотвратил ни одной детской драки, никого не отвратил от жестокости. А позже разбираться в скрытых смыслах этого текста у моих одноклассников не было ни желания, ни повода. В девятом, кажется, классе мы читали роман Чернышевского «Что делать?» Уже тогда я удивился косноязычию и путаности этого текста, но высказать учителям сомнение в его качестве и уместности для нас, молодых людей, не посмел. И мне понадобилось ещё тридцать пять лет, чтобы в одной из литературоведческих книг найти подтверждение своей интуитивной догадке: грамотные современники Чернышевского отмечали косноязычие и путаность романа, но одобряли его из-за тех отважных социальных идей, которые автор позволил себе высказать. Однако читали мы его не на уроке истории, а на уроках литературы. Вот вспомнился ещё один родственный гуманитарный предмет – история. «Россия – это страна с непредсказуемой историей», – этот афоризм я узнал уже после школы.
Курс математики предусматривал постоянное решение неких задач и примеров. Эти задачи могли быть почёрпнуты дома из учебника, могли быть заданы учителем в классе, их условия имитировали реальные события или были совершенно от этих событий оторваны – важно, что задачи и примеры имели конкретное решение и единственный правильный ответ, обозначенный в учебнике. Курс литературы решения задач не предусматривал. В младших классах в качестве задания бывало дословное запоминание какого-либо куска текста, чаще рифмованного, но иногда и прозаического. В старших же классах проверочным заданием бывали сочинения, в которых наиболее желательным для педагогов результатом было воспроизведение иными словами изложенного на уроке или в учебнике. То есть литературные задачи, возникающие практически перед каждым человеком в течение жизни, из уроков фактически были устранены. Никогда педагоги не ставили перед учеником задачу рассказать одноклассникам интересную историю – хотя в повседневной жизни некоторые самостоятельно эту задачу и ставили себе, и решали. В частности, те, кто бывал в пионерских лагерях, помнят рассказываемые после «отбоя» ужастики или фантастические приключения. А те, кто бывал в местах заключения, знают, что такое «тискать романы». Никогда педагоги не ставили задачи отобрать из незнакомого массива книг те, которые способны заинтересовать целевую аудиторию (да и само понятие целевой аудитории не вводилось). А мне впоследствии в жизни пришлось зарабатывать именно этим умением (об этом в «Пояснениях»). Никогда наши педагоги не ставили ученику задачи рассмешить или растрогать слушателей. Такое случалось, но происходило оно стихийно, спонтанно, вне намерения обучающего. И никакие уроки литературы не помогали и не мешали девочкам заводить «откровенники», то есть тетрадки, в которых записывали не имеющие отношения к урокам, но важные для души стихотворения и афоризмы, или переписывать от руки сентиментальные рассказы (в нашем классе ходила по рукам рукописная душещипательная новелла, приписываемая Константину Симонову). А мальчикам те же уроки не мешали и не помогали переписывать рассказы порнографические (у нас ходил рассказ, приписываемый Толстому, причём Алексею или Льву – несущественно; переписчик ставил обычно имя Льва – оно короче). Ученики могли писать заметки в так называемую «стенную газету» – но лишь те, кому это было специально поручено. Школьная премудрость имела только ту связь с предстоящей после школы деятельностью, что служила экзаменационным предметом, твёрдое знание которого даёт право на обучение этой самой деятельности. При таком методе обучения очень многие молодые люди покидают школы с полным неумением составлять словесные формулы, выбирать адекватный стиль изложения, использовать тропы, драматургические ходы и литературные приёмы в повседневной жизни, точно описывать свои переживания или сочинять деловые письма. Разумеется, они делают это при нужде – жизнь того требует, но такие с усилиями обретённые умения никак не находятся в связи с той премудростью, которой их угощали учителя. Литература (как и во многих случаях школьная математика) оказывается неприменимой в повседневной жизни. Чтобы подсчитать и распределить скудные доходы, достаточно арифметики; чтобы коряво изложить скудные мысли, достаточно знания основ родного языка и нецензурной лексики.
Появление магнитофонов, компьютеров, ксероксов и прочих средств умножения и хранения информации изменило техническую сторону вопроса, но не изменило его сути. По умолчанию предполагалось, что школьный курс обучения любой науке служит не только для освоения азов этой науки, но и для удержания в учебное время в стенах школы всех пришедших в неё детей. В противном случае дети оказались бы предоставлены самим себе и любым случайным влияниям дома и на улице. Это предположение по умолчанию превосходно выполняется из года в год. А если умолчание озвучить? Предположим, и учитель, и ученики идеальны, то есть во всё отпущенное время в школе стараются научить и обучиться именно тому, что предусматривает курс науки. Полностью освоившие школьную программу по математике ученики смогут сдать экзамен, необходимый для дальнейшего обучения «точным» наукам, в какой бы отрасли те ни применялись. То же самое и с полностью освоившими курс языка и литературы: они научатся грамотно писать на родном языке и пройдут экзамены в «гуманитарный» вуз любой специализации. А дальше? Радикальное отличие между двумя курсами науки (математики и литературы) заключено в том, что математика, предлагая задачу, ставила перед учащимся вопрос: каким образом эта задача может быть решена вообще? Когда жизнь ставит перед окончившим курс такую задачу, специалист находит решение, исходя из своих знаний и разумения, учитывая все известные ему способы решений, использованных его названными или безымянными предшественниками, либо изобретая свои. Литература же специальных задач не ставила и даже не формулировала, но когда такие задачи благодаря жизни неизбежно возникали, то перед учащимся ставился вопрос: каким образом решил данную задачу автор или персонаж конкретного произведения? Ни разу не возникал вопрос: какими способами данная задача (если когда-нибудь она для начала окажется чётко сформулированной) может быть решена вообще? Требовалось лишь знание того, как решили некую творческую проблему упомянутые в школьной программе классики. Польза такого подхода в его безобидности, вред – в его бесполезности.
Применение некоторых средств и мыслительных ходов, которым обучает математика, к области литературы, позволяет точнее понять особенности предмета, сформулировать некоторые его правила и законы хотя бы для личного использования, и найти возможные, традиционные или нетривиальные решения возникающих задач. Формула или теорема есть всего лишь отражение существующей в природе закономерности, выраженное условными обозначениями, понятными для других исследователей. Из того, что какая-либо теорема литературы (да и любой другой области творческого познания) до сих пор не сформулирована, вовсе не следует, что её нет и быть не может. Право любого изучающего предмет: такую закономерность подметить и отразить в формулировке, и если такое отражение соответствует действительности, то другие исследователи поймут, поддержат и продолжат дело. О, как бы мне хотелось опереться на систему аксиом, чётко разработанную для данного случая! Однократная точная формулировка того, что мы договоримся считать текстом – как структурной единицей литературы, словесной формулой – как единицей фрагмента текста, контекстом – как условием существования текста, аудиторией – как условием восприятия данного текста… О, как это облегчило бы мою нынешнюю задачу: рассказать о возможных теоремах литературы! Увы, при попытке вычислить хотя бы приблизительные значения употреблённых слов с помощью сети Интернет, я немедленно наталкиваюсь на применяемые для этого гораздо более сложные понятия, вроде парадигмы, семантического поля или психофизиологической лингвистики. И немедленно же вспоминаю правило Оккама, подхваченное памятью Бог весть где уже после школы: «не умножай сущностей». Не следует пояснять сравнительно простые термины при помощи более сложных, если мы действительно собираемся что-либо понять. Десять лет (а ныне и одиннадцать) в школе ничего не говорят о психолингвистике, но часто говорят о литературе, причём все – и преподаватели, и ученики – делают вид, что понимают, о чём именно они говорят. Неужели для прояснения вопроса им не обойтись без дополнительного сверхшкольного, вузовского курса семантики или психолингвистки? Разумеется, и сложные термины, и новые науки необходимы. Но развитие знаний осуществляется последовательно, от простого к сложному. А тут, в отличие от математики, даже первичные понятия (вроде точки, линии или фигуры) не зафиксированы. Но оставим эту работу для будущего, и по умолчанию примем, что первичные понятия и аксиомы литературы существуют, хотя и не обозначены.
Насколько я понимаю, именно контекст позволяет отождествить тест как таковой, обозначив его применимость и границы. Попытаюсь пояснить это анекдотом, автор которого мне лично известен:
«Еврей из России впервые прибыл в израильский аэропорт.
– Ой, смотри, какой оригинальный национальный орнамент!
– Это не орнамент. Это надпись «Брухим абаим!» (на иврите «Добро пожаловать!»)»
Тезис о роли контекста в ситуации попробую подкрепить цитатой из книги Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» (том 2): «И что будет, если истина „сумма углов треугольника равна ста восьмидесяти градусам“ заденет их особняки, чины и заграничные командировки? Да ведь за чертёж треугольника будут отрубливать голову! Треугольные фронтоны с домов будут сшибать! Издадут декрет измерять углы только в радианах!»
Одна из первых закономерностей, которую удалось подметить в процессе жизни и работы в данной сфере, касается оценочного восприятия литературы. Иными словами, знака, который выставляет излагающий при оценке некоего обсуждаемого им текста или автора. Такая постановка знака возрождает в памяти урок математики, где нам рассказывали о числовой оси. Учитель нарисовал на доске линию, изобразил на правом её конце стрелку, пометил произвольно некую точку, надписав над ней 0, и разъяснил, что это – числовая ось. Справа от нуля идут числа положительные, натуральные; слева – отрицательные. Существует бесконечное множество натуральных чисел; для любого натурального числа найдётся другое натуральное число, большее его. Учитель не рассказал нам тогда ни о Джузеппе Пиано, сформулировавшем аксиомы на эту тему, ни о его предтече Грассмане; да нам это было и не нужно. Достаточно было увидеть числовую ось и понять, что на ней располагаются натуральные числа, причём отрицательные числа – не натуральные. На уроке литературы такой оси учительница не рисовала и не собиралась рисовать, а если бы мы, ученики, в том числе и отличники, попросили бы такую ось для нас изобразить, впала бы в глубокую задумчивость. В изучаемом нами предмете использовалось в привычном значении понятие «книга» – как элемент литературы и совокупность текстов, собранных под одной обложкой. В самом деле: как обозначить нулевую точку такой оси? Что она должна означать по сути? Справа от нуля располагается множество уже написанных книг, включающих и все те, о которых рисующему ось ничего не известно? А что обозначать в левой части оси? Множество ненаписанных или неизданных книг, – и тогда натуральными будут все книги, уже опубликованные? Либо пойти по иному пути, и изобразить ось временной, и тогда литература на ней будет располагаться по мере создания и обнародования? Именно так и поступают иногда при изучении этого предмета: начинают с древнейшей литературы – и до авторов, современных изучающему. А может, никакая ось не послужит аналогией в данном случае, и вместо линии пришлось бы изображать сферу, вмещающую весь спектр человеческих идей? Легко можно найти книгу, отрицающую что-либо, но существуют ли вообще книги отрицательные? Ведь каждая из них на временной оси неизбежно занимает некоторое место.
Но если отрицательных книг, предположительно, не существует, то «плохих» книг сколько угодно. Оценку «плохая книга» и, соответственно, как противоположность – «хорошая книга» можно видеть и слушать весьма часто. Равно как и оценку «хороший писатель» – как производитель «хороших» книг, и «плохой писатель» – как производитель «плохих». Предполагается, что может существовать некая «средняя», то есть не хорошая и не плохая книга, причём те, книги, которые «хуже» её, должны быть признаны плохими, а те, которые «лучше» – хорошими. Эта постановка знака практически не даёт представления об особенностях оцениваемого конкретного текста, но позволяет по контексту судить об оценивающем его субъекте. В частности, о том, что у этого субъекта возникла необходимость разделить массив (ось, сферу, поле, множество) литературных произведений по декларируемому качеству. Такая необходимость возникает, как правило, у людей, ощущающих свою причастность к данному рынку.
В большинстве случаев основным критерием оценки произведения служит художественный вкус оценивающего. Индивидуальный вкус поддаётся формированию. Общественный вкус поддаётся давлению. Художественный вкус человека, назначенного на некую связанную с предметом оценки должность, становится, при отсутствии других более весомых факторов, результирующим для выставления знака «хорошего» или «плохого». Так, например, Никите Хрущёву понравился текст Александра Солженицына «Щ-854», опубликованный позже как «Один день Ивана Денисовича», и не понравились картины некоторых современных ему художников. Это помогло публикации книги и помешало выставке художников, но не повлияло на словесные формулы текста или на расположение мазков красок на холсте. До оценки влиятельным лицом и после неё оцениваемый предмет остаётся неизменённым, но его дальнейшая судьба во многом определяется этой оценкой. Иными словами, индивидуальный художественный вкус влиятельного лица оказывает давление на общественный вкус. Предлагаемая в связи с этим теорема: чем меньше такое давление, тем полнее массив (множество, содержимое сферы или поля) оцениваемого предмета и тем выше суммарное качество такого наполнения. Короче говоря: чем реже любым начальникам социума приходится оценивать литературу, тем лучше для литературы. Не их это дело, даже если они его по недомыслию любят. И даже в том случае, когда они оценивают какое бы то ни было произведение лишь положительно, директивная оценка сокращает спектр и снижает суммарное качество всего массива литературы по шкале общественного вкуса.
В мире существует громадное количество предметов и явлений, глядя на которые людям не приходит в голову требовать, чтобы эти явления были не такими, каковы они есть, или предпринимать действия для изменений этих явлений к лучшему. Вне оценки остается подавляющее большинство жизненных происшествий и повседневных событий – только потому, что в такой оценке не возникло нужды, для нее не было повода. Вынужденность оценки качества жизни свидетельствует о низком качестве жизни самого оценивающего по избранной им шкале. Так, живущие хорошо задумываются об этом реже, чем живущие плохо об этом говорят. Уж если пришлось задуматься о том, как мы живем – значит, мы живем не так хорошо, как хотелось бы. В случае литературы: оценка «Мне нравится эта книга (статья, текст)» заменяется оценкой «Это хорошая книга (статья, текст)». В первом случае оценивающий говорит о собственном мнении, во втором – об общем, неизбежно совпадающем с его собственным. Появление в статье, заметке либо обзоре эпитета, в превосходной степени описывающего качество некоей литературы, свидетельствует о недостаточном отображении этой самой литературой явлений жизни, важных для применившего эпитет. Кроме того, общий объем и величие литературы не обеспечивает качества отдельных произведений, точно так же как общие размеры страны не обеспечивают качества жизни ее обитателей. То, и другое мы хорошо помним и по Советскому Союзу, и по нынешней России.
Коммерчески успешная книга вполне может быть оценена неквалифицированным читателем как плохая. Собственная книга (написанная им самим или хотя бы ему принадлежащая) может быть оценена им как безусловно хорошая. С ростом квалификации читателя слова «плохая» или «хорошая» (оценка по качественному показателю) заменяются словами «мне нравится» или «мне не нравится эта книга» (оценка вкусовая). И здесь возникают вопросы, которые читателю следует адресовать самому себе: «Может ли мне понравиться плохая книга? И может ли не понравиться хорошая?» С утвердительными ответами на такие вопросы растёт понимание читателем литературы.
Еще одна теорема связана с обучением восприятию самого изучаемого предмета. В школе нам внушали, что литература – это структурированная система, иерархическая, пирамидальная, вертикально выстроенная, имеющая условный «верх» и «низ», причём чем выше по уровню пирамиды находится автор, тем более «хорошими» следует считать его произведения, и тем меньше авторов оказывается на данном уровне. На вершине пирамиды было место лишь для одного автора, и там учителя располагали Александра Пушкина. А если педагоги допускали (как правило, в старших классах) разделение литературных умений по жанрам, то на вершину допускался ещё один автор – Лев Толстой (и не потому, что его имя коротко). Так что выходило: поэт – Пушкин, прозаик – Толстой. Все изучаемые в программе произведения следовало считать безусловно «хорошими», поскольку они централизованно выбраны для изучения и внесены в учебник. Литературные же достоинства самого текста учебника никак не оценивались, но предполагались достаточными для скромной ему похвалы.
Такое восприятие вполне успешно прививалось учащимся, которые не беспокоились ни о судьбах литературы, ни о методах ее преподавания, ни о литературном процессе. С таким восприятием школьники уходили в дальнейшую повседневную жизнь, и те, кому не приходилось в жизни непосредственно сталкиваться с литературными задачами, сохранили его незыблемым до самой смерти. Для тех же, кому пришлось подобные задачи решать (компилировать словесные формулы, изготавливать новые тексты, размещать их в информационных ресурсах или хотя бы давать им оценку), возникла некоторая сложность: в жизни они столкнулись с ситуацией «ровного поля»; с положением, в котором неприменим изученный в школе пирамидальный масштаб и не действует иерархия. Когда приходится оценивать конкретный текст по соответствию его словесных формул не обозначенной, но ощутимой задаче, либо когда приходится иметь дело с пока живым автором и реальным материалом, величие Пушкина помогает мало. С вершины огромной пирамиды чрезвычайно трудно сравнить размеры объектов, находящихся у подножия, даже если одни из этих объектов в несколько раз крупнее других. А сравнивая объекты, находящиеся на одном условном уровне, крайне неудобно всякий раз измерять расстояние от них до вершины пирамиды, тем более что погрешность измерения превышает размеры этих объектов. Оказываясь в столь сложном положении, неквалифицированные оценщики, не умеющие перейти в структуру «ровного поля», используют подвижную, растяжимую шкалу, на которой ими нанесены три деления: вкус самого оценивающего (по умолчанию считается достаточным для решения любой литературной задачи), оцениваемый предмет или автор и точка литературной пирамиды, расположенная на одном из верхних уровней. Вместо оценки произведения по соответствию задаче и фиксируемым критериям возникает сравнительная оценка, сопровождаемая поиском соответствий оцениваемого текста или автора с верхней точкой шкалы. Наглядные примеры этого можно видеть довольно часто. Например, в любительских литературных объединениях, в соответствующих тусовках или в критических отзывах, как журнальных, так и частных, приватных. Текст, написанный для того только, чтобы автор имел возможность огласить его в литературном объединении или разместить на интернет-ресурсе, оценивается не по соответствию своей задаче (которую он полностью выполнил и тем самым исчерпал), а в качестве попытки потрафить общественному вкусу. В результате такой операции оценивающие создают новые словесные формулы, столь же осмысленные, как и послуживший поводом для обсуждения текст, и столь же продуктивные. Как сказал бы учитель математики, в подобном случае функция стремится к нулю. А теорема литературы, которую, как мне представляется, можно вывести из изложенного, такова: «Всякая литературная ситуация, представленная в пирамидальной структуре, может быть равно достоверно представлена в структуре ровного поля».
Изучение векторной алгебры также может помочь пониманию литературы, – если этого пожелать, конечно. Итоговый текст доходит до аудитории как неподвижный и неизменяемый (скалярный) объект, фиксированный в словесных формулах, определённый в жанре и теме, изготовленный способом, удобным для ознакомления, и на том носителе, который адекватен технологическому уровню общества: будь то покрытые воском таблички, пергамент, бумага или экран электронного устройства. Но при его изготовлении и в процессе «доведения» до аудитории на текст действовало множество направленных (векторных) влияний. Некоторые из них непосредственно связаны с автором, другие совершенно от него не зависят. Следует учитывать и особенности контекста, в котором данный текст существует. Векторные влияния контекстуальных обстоятельств способны изменить любые параметры текста. В первом приближении можно утверждать, что итоговый, дошедший до стороннего непредвзятого читателя текст есть результат многочисленных направленных воздействий, остающихся для него неизвестными (поскольку он сторонний и непредвзятый). Точные словесные формулы, описывающие общий или частные случаи связи контекста с текстом, ещё ждут своих составителей. Как образец подобной частной формулы напомню афористичное описание метода социалистического реализма: «Соцреализм есть воспевание деятельности руководителей коммунистической партии понятным им способом». К счастью, актуальность метода соцреализма уже лет двадцать как утрачена; но литература-то осталась.
Автор, создавая и фиксируя произведение, находится под влиянием двух несовпадающих поведенческих импульсов. Первый из них стимулирует его собственное желание создавать словесные формулы и записывать текст, вне зависимости от того, каким образом эта запись скажется на его личной судьбе. Второй же импульс есть формализованный либо обоснованный внутренне социальный заказ на создание именно такого текста. Обнуление первого импульса можно видеть на примере значительного количества «заказных» литературных произведений. Обнуление второго импульса можно видеть на примерах уничтоженных добровольно или принудительно текстов, которые оказались недоступны даже для самой любознательной аудитории. О существовании таких текстов исследователи иногда узнают, но обнаружить сами материалы удаётся только после кропотливого поиска, если удаётся вообще. Максимальное значение первого импульса проявляется, когда угроза обнаружения фиксированного текста грозит стоить жизни автору. Максимальное значение второго импульса проявляется в успешной работе неискренних публицистов или «литературных негров». Эти импульсы, как правило, разнятся по силе и направлению, а при сложении их векторов образуют некий суммарный текстовый итог, вышедший из-под пера автора в литературное поле прочих влияний.
Один из частных примеров: ни в школе, ни в вузе (а я учился в Московском Литературном институте) никто из преподавателей ни слова не говорил нам о «методе собаки» (подробнее о нём смотри далее). Между тем такой приём, предусматривающий предварительное внесение удаляемого элемента, иногда применяется. Если выполненный по этой методике трюк пройдёт успешно, аудитория получит именно то, что задумано автором первоначально. А если нет? В этом случае аудитория рискует получить либо текст с «собакой», которая станет интегральной частью произведения, либо вовсе остаться без текста, если «собака» окажется слишком «жирной». И риска этого совершенно не осознаёт.
Но это – начала алгебры. А сколь упоительна арифметика предмета, особенно арифметика экономики литературы! Если бы за эту работу был предусмотрен хоть какой-либо гонорар, я постарался бы гораздо подробнее развить данный раздел. Увы, за всё время литературной деятельности в эмиграции (более двадцати лет) я не сумел отыскать такой печатный орган или интернет-ресурс, который платил бы незнакомому автору за присланный «самотёком» текст. Говорят, такое случается в англоязычной среде. Возможно. Но в русскоязычной – увы, не встречал.
Арифметические задачи в неявном виде присутствуют не только в экономике литературного рынка, но и в других его сферах. Именно арифметика поможет лучше понять литературный афоризм «Если в книге 80% правды, то она на 100% лжива». К счастью, не изобретён ещё правдометр, подобный спиртометру для содержащих алкоголь жидкостей. Опустил прибор в книгу – и получил коэффициент правды. В роли такого прибора обычно выступает художественный вкус. И он градуирован не универсально, а по личности оценивающего.
Но применение хотя бы арифметики очень полезно литературе. К примеру, видел я недавно знакомого израильтянина, говорящего по-русски, который позиционирует себя как писателя. Несколько книг он напечатал в местных типографиях за свой счёт, а позже благодаря определённым политическим связям сумел обеспечить публикацию своих опусов в России, правда, не в Москве, а в провинциальных издательствах. «У меня уже одиннадцать книг вышло!» – похвастался он. Число я запомнил и вскоре после того встретил другого говорящего по-русски израильтянина, тоже позиционирующего себя как писателя. Остановились переброситься двумя-тремя словами о литературе. «Знаешь, у этого одиннадцать книг уже вышло, – сказал я, – а как-то отражения на литературном процессе совсем незаметно». «Это чепуха! – ответил мой собеседник. – У меня уже шестнадцать книг вышло!» Я поздравил его и ушёл, радуясь, что никакая сила не заставит меня их читать. Но подумал, уходя: каким чудесным аргументом в пользу эмиграции такая арифметика служить может. В России, откуда родом один, и в Украине, откуда приехал другой, вряд ли они за двадцать лет выпустили бы больше трёх книг. Ну, в крайнем случае – пяти. Не по средствам было бы. Но одиннадцать! Но шестнадцать! Вот какова польза эмиграции, которую в данном случае для этих авторов я не смею назвать репатриацией, потому что все свои книги они выпустили на языке той страны, из которой уехали. Их тщеславие потешено, а отражение этих книг на литературном процессе я по слабости зрения заметить не в состоянии. Как сказал бы уже упомянутый учитель математики: в этом случае функция стремится к нулю.
В иерархической системе 16 выпущенных в свет книг, безусловно, лучше 11, а 11 лучше 3 уже только потому, что больше. В системе «ровного поля» 16 по-прежнему остаётся больше 11, но качественной или сравнительной оценки нельзя вынести, не видя самого предмета обсуждения: все эти кажущиеся на первый взгляд однородными предметы (книги) при рассмотрении оказываются разнородными и несопоставимыми. И несчастье некоторых авторов в том, что они пытаются совместить во времени и месте обе системы. Это понуждает их к высоким расходам, а ситуацию приводит к забавным казусам. Мне довелось лично присутствовать при беседе одного «плохого» писателя с сотрудником эмигрантской газеты на русском языке, освещавшим вопросы местной культурной жизни. Писатель впрямую пообещал журналисту деньги за то, что тот разместит с интересантом интервью в местной прессе, поставит хвалебные отзывы на нескольких интернет-ресурсах, а также даст наилучший отзыв о книгах этого писателя в радио или телепрограммах, в которых журналисту приходится иногда участвовать. Журналист согласился, и впоследствии я даже случайно услышал по радио его отзыв о «хорошей» книге писателя, которого точно знал как плохого, потому что имел неосторожность ознакомиться с одним из его текстов. Примечательно, что я до сих пор не знаю, заплатил ли писатель обещанную сумму, а зная его лично, могу заподозрить, что и не собирается платить. Таким образом, этому журналисту в качестве компенсации останется возможность либо избить писателя, если сил хватит, либо объявить в тех же средствах массовой информации его книги «плохими». Можно, конечно, сделать и то, и другое; а можно и ничего не предпринимать.