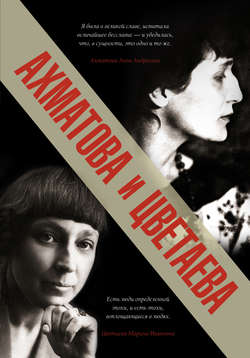Читать книгу Ахматова и Цветаева - Анна Ахматова - Страница 4
Анна Ахматова
Я научила женщин говорить
Дом Шухардиной
Оглавление…Этому дому было сто лет в 90-х годах XIX ве-ка, и он принадлежал купеческой вдове Евдокии Ивановне Шухардиной. Он стоял на углу Широкой улицы и Безымянного переулка. Старики говорили, что в этом доме «до чугунки», то есть до 1838 года, находился заезжий двор или трактир. Расположение комнат подтверждает это. Дом деревянный, темно-зеленый, с неполным вторым этажом (вроде мезонина). В полуподвале мелочная лавочка с резким звонком в двери и незабываемым запахом этого рода заведений. С другой стороны (на Безымянном), тоже в полуподвале, мастерская сапожника, на вывеске – сапог и надпись: «Сапожник Б. Неволин». Летом в низком открытом окне был виден сам сапожник Б. Неволин за работой. Он в зеленом переднике, с мерт-венно-бледным, отекшим лицом запойного пьяницы. Из окна несется зловещая сапожная вонь. Все это могло бы быть превосходным кадром современной кинокартины. Перед домом по Широкой растут прямые складные дубы средних лет; вероятно, они и сейчас живы; изгороди из кустов кротегуса.
Мимо дома примерно каждые полчаса проносится к вокзалу и от вокзала целая процессия экипажей. Там всё: придворные кареты, рысаки богачей, полицмейстер барон Врангель – стоя в санях или пролетке и держащийся за пояс кучера, флигель-адъютантская тройка, просто тройка (почтовая), царскосельские извозчики на «браковках». Автомобилей еще не было.
По Безымянному переулку ездили только гвардейские солдаты (кирасиры и гусары) за мукой в свои провиантские магазины, которые находились тут же, поблизости, но уже за городом. Переулок этот бывал занесен зимой глубоким, чистым, не городским снегом, а летом пышно зарастал сорняками – репейниками, из которых я в раннем детстве лепила корзиночки, роскошной крапивой и великолепными лопухами (об этом я сказала в 40-м году, вспоминая пушкинский «ветхий пук дерев» в стихотворении «Царское Село» 1920 года – «Я лопухи любила и крапиву…»).
По одной стороне этого переулка домов не было, а тянулся, начиная от шухардинского дома, очень ветхий, некрашеный дощатый глухой забор. Вернувшийся осенью того (1905) года из Березок и уже не заставший семьи Горенко в Царском, Н.С. Гумилев был очень огорчен, что этот дом перестраивают. Он после говорил мне, что от этого в первый раз в жизни почувствовал, что не всякая перемена к лучшему.
…Ни Безымянного переулка, ни Широкой улицы давным-давно нет на свете. На этом месте разведен привокзальный парк или сквер.
Весной 1905 года шухардинский дом был продан наследниками Шухардиной, и наша семья переехала в великолепную, как тогда говорили, барскую квартиру на Бульварной улице (дом Соколовского), но как всегда бывает, тут все и кончилось. Отец «не сошелся характером» с великим князем Александром Михайловичем и подал в отставку, которая, разумеется, была принята. Дети с бонной Моникой были отправлены в Евпаторию. Семья распалась. Через год – 15 июля 1906 года – умерла Инна. Все мы больше никогда не жили вместе. Напротив (по Широкой) была в первом этаже придворная фотография Ган, а во втором жила семья художника Клевера. Клеверы были не царскоселы, жили очень уединенно и в сплетнях унылого и косного общества никакого участия не принимали. Для характеристики «Города Муз» следует заметить, что царскоселы (включая историографов Голлербаха и Рождественского) даже понятия не имели, что на Малой улице в доме Иванова умер великий русский поэт Тютчев. Не плохо было бы хоть теперь (пишу в 1959 году) назвать эту улицу именем Тютчева.
…А иногда по этой самой Широкой от вокзала или к вокзалу проходила похоронная процессия невероятной пышности: хор (мальчики) пел ангельскими голосами, гроба не было видно из-под живой зелени и умирающих на морозе цветов. Несли зажженные фонари, священники кадили, маскированные лошади ступали медленно и торжественно. За гробом шли гвардейские офицеры, всегда чем-то напоминающие брата Вронского, то есть «с пьяными открытыми лицами», и господа в цилиндрах. В каретах, следующих за катафалком, сидели важные старухи с приживалками, как бы ожидающие своей очереди, и все было похоже на описание похорон графини в «Пиковой даме».
И мне (потом, когда я вспоминала эти зрелища) всегда казалось, что они были частью каких-то огромных похорон всего XIX века. Так хоронили в 90-х годах последних младших современников Пушкина. Это зрелище при ослепительном снеге и ярком царскосельском солнце – было великолепно, оно же при тогдашнем желтом свете и густой тьме, которая сочилась отовсюду, бывало страшным и даже как бы инфернальным.
1959
Царскосельская ода
А в переулке забор дощатый…
Н.Г.
Настоящую оду
Нашептало… Постой,
Царскосельскую одурь
Прячу в ящик пустой.
В роковую шкатулку,
В кипарисный ларец,
А тому переулку
Наступает конец.
Здесь не Темник, не Шуя —
Город парков и зал,
Но тебя опишу я,
Как свой Витебск – Шагал.
Тут ходили по струнке,
Мчался рыжий рысак,
Тут еще до чугунки
Был знатнейший кабак.
Фонари на предметы
Лили матовый свет,
И придворной кареты
Промелькнул силуэт.
Так мне хочется, чтобы
Появиться могли
Голубые сугробы
С Петербургом вдали.
Здесь не древние клады,
А дощатый забор,
Интендантские склады
И извозчичий двор.
Шепелявя неловко
И с грехом пополам,
Молодая чертовка
Там гадает гостям.
Там солдатская шутка
Льется, желчь не тая…
Полосатая будка
И махорки струя.
Драли песнями глотку
И клялись попадьей,
Пили допоздна водку,
Заедали кутьей.
Ворон криком прославил
Этот призрачный мир…
А на розвальнях правил
Великан-кирасир.
1961
* * *
Анина комната: окно на Безымянный переулок… который зимой был занесен глубоким снегом, а летом пышно зарастал сорняками – репейниками, роскошной крапивой и великанами лопухами… Кровать, столик для приготовления уроков, этажерка для книг. Свеча в медном подсвечнике (электричества еще не было). В углу – икона. Никакой попытки скрасить суровость обстановки – безделушками, вышивками, открытками.
* * *
Запахи Павловского вокзала. Обречена помнить их всю жизнь, как слепоглухонемая. Первый – дым от допотопного паровозика, который меня привез, – Тярлево, парк, salon de musique (который называли «соленый мужик»), второй – натертый паркет, потом что-то пахнуло из парикмахерской, третий – земляника в вокзальном магазине (павловская!), четвертый – резеда и розы (прохлада в духоте) свежих мокрых бутоньерок, которые продаются в цветочном киоске (налево), потом сигары и жирная пища из ресторана. А еще призрак Настасьи Филипповны. Царское – всегда будни, потому что дома, Павловск – всегда праздник, потому что надо куда-то ехать, потому что далеко от дома. И Розовый павильон (Pavilion de roses).
* * *
Каждое лето я проводила под Севастополем, на берегу Стрелецкой бухты, и там подружилась с морем. Самое сильное впечатление этих лет – древний Херсонес, около которого мы жили.
Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»
«…Анна Андреевна сказала:
– Я недавно перечла «У самого моря» и подумала: понятно ли, что героиня не девушка, а девочка?
– Я думала – девушка шестнадцати-семна-дцати лет.
– Нет, именно девочка, лет тринадцати… Вы не можете себе представить, каким чудовищем я была в те годы. Вы знаете, в каком виде тогда барышни ездили на пляж? Корсет, сверху лиф, две юбки – одна из них крахмальная – и шелковое платье. Наденет резиновую туфельку и особую шапочку, войдет в воду, плеснет на себя – и на берег. И тут появлялось чудовище – я – в платье на голом теле, босая. Я прыгала в море и уплывала часа на два. Возвращалась, надевала платье на мокрое тело – платье от соли торчало на мне колом… И так, кудлатая, мокрая, бежала домой.
– Вы, наверное, очень скучаете без моря?
– Нет. Я его помню. Оно всегда со мной… У меня и тогда уже был очень скверный характер. Мама часто посылала нас, детей, в Херсонес на базар, за арбузами и дынями. В сущности, это было рискованно: мы выходили в открытое море. И вот однажды на обратном пути дети стали настаивать, чтобы я тоже гребла. А я была очень ленива и грести не хотела. Отказалась. Они меня бранили, а потом начали смеяться надо мной – говорили друг другу: вот везем арбузы и Аню. Я обиделась. Я стала на борт и выпрыгнула в море. Они даже не оглянулись, поехали дальше. Мама спросила их: “А где же Аня?” – “Выбросилась”. А я доплыла, хотя все это случилось очень далеко от берега…»
У самого моря
Бухты изрезали низкий берег,
Все паруса убежали в море,
А я сушила соленую косу
За версту от земли на плоском камне.
Ко мне приплывала зеленая рыба,
Ко мне прилетала белая чайка,
А я была дерзкой, злой и веселой
И вовсе не знала, что это – счастье.
В песок зарывала желтое платье,
Чтоб ветер не сдул, не унес бродяга,
И уплывала далеко в море,
На темных, теплых волнах лежала.
Когда возвращалась, маяк с востока
Уже сиял переменным светом,
И мне монах у ворот Херсонеса
Говорил: «Что ты бродишь ночью?»
Знали соседи – я чую воду,
И, если рыли новый колодец,
Звали меня, чтоб нашла я место
И люди напрасно не трудились.
Я собирала французские пули,
Как собирают грибы и чернику,
И проносила домой в подоле
Осколки ржавые бомб тяжелых.
И говорила сестре сердито:
«Когда я стану царицей,
Выстрою шесть броненосцев
И шесть канонерских лодок,
Чтобы бухты мои охраняли
До самого Фиолента».
А вечером перед кроватью
Молилась темной иконке,
Чтоб град не побил черешен,
Чтоб крупная рыба ловилась
И чтобы хитрый бродяга
Не заметил желтого платья.
<…>