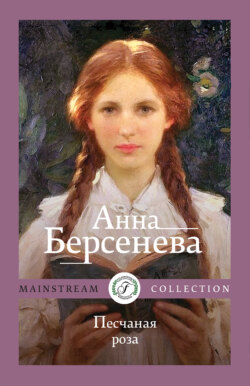Читать книгу Песчаная роза - Анна Берсенева - Страница 9
Часть I
Глава 9
Оглавление– Конечно, мне было интересно, – сказала Соня.
– Совсем не конечно, – ответил он.
– Почему? – Она даже обиделась немножко. – Я выгляжу такой глупой?
– Вы совсем не выглядите глупой. Но при взгляде на вас кажется, вы знаете что-то большее, чем внешняя сторона жизни. Мне, во всяком случае, так казалось все два часа, что я на вас смотрел.
Он действительно смотрел на Соню все время, пока шла запись передачи. Заметив это – трудно было не заметить! – она сначала удивилась, потом смутилась, потом обрадовалась. А потом перестало иметь значение и первое, и второе, и третье – она только слушала его, и это занимало все ее внимание.
– Неосознание страной преступлений собственного прошлого уродует настоящее этой страны и лишает ее будущего. Это понимают все-таки многие. Но что именно следует осознать и, главное, что с этим осознанием делать дальше? А вот это остается неясным для большинства даже тех людей, которые не сомневаются в преступлениях тоталитаризма и искренне хотят их изжить. Что людям делать с таким мучительным осознанием? – повторил он. – Продолжать жить, как будто ничего не произошло? Но тогда зачем осознавать, чего ради мучить себя – из пустого мазохизма?
Это оказалось так неожиданно! Серьезное, важное, что он говорил. Смысл его слов. Его интонации. Тембр его голоса. Блеск его глаз.
Недюжинность – это слово, не самое употребительное, при взгляде на него пришло Соне в голову само собою.
Когда рассаживали зрителей, ее перевели из последнего ряда, куда она села сама, в первый. А когда попыталась возразить, что она ведь не эксперт, и мнение свое высказывать не будет, и вопросы задавать не собирается, администратор сказал:
– Вам и не надо ничего высказывать. Вы – прекрасная деталь. – И объяснил: – Толстой о Чехове так говорил: у него каждая деталь или прекрасна, или нужна. Вы – первое. Ну и второе, значит.
«Ничего себе у них здесь сотрудники!» – подумала Соня.
Как ни много она читала, как ни любила и Толстого, и Чехова, но такую цитату слышала впервые. А в этой «Культурной революции» ее знает обычный администратор, получается.
Соня обрадовалась, что пришла. Хотя по дороге сюда, на Пречистенку в Музей Пушкина, где снимали передачу, досадовала, что ее бывший университетский преподаватель, которого она встретила вчера в Театре на Малой Бронной, всучил ей приглашение, сказав, что одним из главных героев – «креслом», как их называют в студии, – будет его жена. Сразу неловко было отказаться, а потом неловко не прийти, раз уж пообещала.
Соня, конечно, сто раз видела эту передачу. Она шла на канале «Культура» много лет, еще бабушка называла ее чистым островком в мутной телевизионной воде, добавляя, что по крайней мере видишь умных людей и знаешь их мнения о чем-то существенном. В общем, неплохо, что здесь оказалась, хоть и пришлось из-за этого пропустить день рождения однокурсницы.
Впечатление укрепилось, когда гостей впустили в зал. Соня сразу узнала праздничное предчувствие, которое всегда охватывало ее в Консерватории или в Большом театре и вдруг охватило здесь, хотя ничего похожего на те залы в этом зале не было.
Запись шла в просторном атриуме музея. Интересно было смотреть, как раскачиваются за стеклянной стеной разноцветные аэромэны, вот ведущий вошел, поднялись на невысокий помост и уселись в кресла два главных участника… Первой из них была жена Сониного преподавателя, фамилию второго Соня не расслышала, но ей сразу бросилась в глаза его внешность. Бабушка называла таких мужчин beau ténébreux – сумрачный красавец. До сих пор Соня думала, что это определение может относиться только к герою какого-нибудь старинного французского романа, и вдруг человек именно с такой внешностью сидит в нескольких метрах от нее и говорит не старинные, а такие острые, такие современные вещи, что его можно слушать бесконечно.
Она и слушала так внимательно, что даже не поняла, когда запись передачи закончилась. Таким сильным было впечатление от его слов, такие новые для нее, ошеломляющие мысли ими порождались.
С гудящей от мыслей головой Соня спустилась из стеклянного атриума вниз, в вестибюль с фонтаном, возле которого уже собирались участники и зрители следующей программы. Она пошла в гардероб, но из-за того, что плохо ориентировалась в незнакомых помещениях, тем более в таких, как этот музей со множеством переходов и коридоров, – заблудилась и вместо гардероба оказалась в кафе. Дым здесь стоял стеной, причем буквально: воздух был от него сизым, курили за каждым столиком. Людей было много, и все такие известные, что Соня даже растерялась, потому что не ожидала оказаться рядом с такими людьми в столь непринужденной обстановке: все друг с другом знакомы, здороваются, смеются, о чем-то вдохновенно беседуют.
Она уже собиралась спросить, как найти гардероб, у дамы в эффектном пиджаке, сшитом на манер лоскутного одеяла. Внешность этой дамы была ей смутно знакома, но по крайней мере это была не Ирина Хакамада, которая сидела за одним из столиков, и не режиссер Кончаловский, сидевший за другим.
– А я-то не понимаю, куда вы исчезли, – вдруг услышала Соня. – Прямо в воздухе растаяли.
Обернувшись, она увидела человека, которого неотрывно слушала полчаса назад, и растерялась еще больше, потому что так и не узнала ни фамилии его, ни отчества. Не обращаться же к нему по имени, как это во время записи программы делал ведущий – судя по всему, давний его приятель.
– Я не растаяла, – сказала она. – Я просто не могу найти гардероб. – И зачем-то объяснила: – Мне надо плащ забрать и зонтик.
– Вы торопитесь? – не обратив внимания на глупость ее объяснения, спросил он.
– Нет, – ответила Соня.
Даже если бы и торопилась, то отложила бы все дела. Она удивилась, поняв это, но тут же и про удивление свое забыла тоже.
– Может быть, посидим здесь немного? – предложил он.
– Спасибо, с удовольствием.
Соня наконец пришла в себя. Вернее, стала собой – не дурочкой из переулочка, растерявшейся от того, что оказалась среди известных людей, а обычной московской студенткой, то есть вчерашней студенткой, конечно, она все никак не могла привыкнуть, что студенческие ее годы позади…
– Чему вы улыбаетесь? – спросил он.
– Разве улыбаюсь? – удивилась она.
– Да, хотя почти незаметно. Вы улыбаетесь своим мыслям. Это завораживает.
Соня не поверила бы, что может кого-то завораживать. Но он не был похож на лживого человека. Даже иронии не было в его взгляде, а только ум и интерес к ней.
Сели за освободившийся столик, он спросил, как ее зовут, что для нее взять, она ответила, что все равно, да, можно кофе, нет, пирожное не надо и коньяк не надо тоже, он принес ей кофе, а себе коньяк на дне бокала, сел напротив нее, спросил, было ли ей интересно, а потом как раз и сказал, что при взгляде на нее кажется, будто она знает нечто большее, чем внешняя сторона жизни, и эти его слова смутили и обрадовали ее так же, как все, что он говорил в этот вечер, не ей специально говорил, а миллионам людей, которые потом увидят его по телевизору, но все-таки и ей тоже, потому что на нее он смотрел все время.
– Я не знаю больше того, что вы говорили сегодня, – сказала Соня. – Вернее, я об этом даже не задумывалась.
– Странно.
– Почему?
– Потому что вы производите впечатление человека такого… задумчивого. Загадочно задумчивого, я бы сказал.
– Не знаю. – Его слова смущали ее и тревожили, но она постаралась не обращать на это внимания. – Я просто не считала существенным… Вот это осознание произошедшего с нами в двадцатом веке, о котором вы говорили. А теперь даже не понимаю, как могла не считать.
– Ну, это как раз понятно. Вы родились с сознанием, что если не защищаешь свою или чужую жизнь, то людей убивать нельзя. В вас по умолчанию встроено, что убийство – зло абсолютное. Для вас в этом нет предмета обсуждения. Но ведь это для вас. А для миллионов наших соотечественников, да что там, для десятков миллионов, это не предмет обсуждения совсем в другом смысле. Они уверены, что людей убивать можно. Для них это вопрос целесообразности, и не более того. А то и вовсе не вопрос. Можно, потому что я могу. Можно, потому что я хочу.
– Вы не правы! – Соня даже задохнулась от волнения. – Это совсем не так. Этого просто быть не может! Чтобы обычные люди, не преступники так думали…
Он молчал. Его взгляд был прям, но непонятно было, что таится в сумеречной дымке его глаз.
– Мне хотелось бы жить в вашем мире, – сказал он. – Не думайте, что я хочу вас обидеть. Наоборот, для меня было бы большим счастьем так смотреть на жизнь. Вы студентка?
Он сменил тему, и Соня обрадовалась этому.
– Чуть не ответила «да», – сказала она. – Не могу привыкнуть, что уже нет.
– В этом году закончили?
– Да. Историко-архивный.
– В РГГУ? На Никольской?
Она кивнула.
– Я хотела на филфак МГУ, но не поступила. Год работала в РГАЛИ. В Архиве литературы и искусства. – Соня запоздало сообразила, что он, конечно, знает, что такое РГАЛИ. – И мне понравилось. И я поступила в следующем году на историко-архивный. И вот закончила. Потому и странно, что все это как-то вне моего сознания было… То, о чем вы сегодня говорили. Правда, я на архивоведении училась, не на историческом. Но все равно это очень странно.
Она в самом деле удивлялась этому теперь. Как могло быть, что страшное преступление, заполнившее целый век огромной страны, разлившееся из нее по всему миру, – как могло быть, что, будучи ей известным, конечно, известным, это оставалось совершенно вне ее мыслей?..
– Просто вам казалось, что это кончено навсегда.
Да! Он объяснил одной фразой. Но слово «казалось» удивило Соню.
– А разве не так? – спросила она. – Разве не кончено?
Она всматривалась в его глаза, но ясности в них не было.
– Конечно, нет, – ответил он. – Обществом это не осмыслено и не осуждено. А значит, вернется в любую минуту.
Его слова ошеломили ее. Что – вернется? Пытки, расстрелы?! Она вспомнила, как еще в школе учитель истории возил их на Бутовский полигон и каким потрясением для нее было, что в день здесь убивали по несколько тысяч ни в чем не повинных людей, и один из этих людей был мальчик тринадцати лет, точно такой, как она, его звали Миша Шамонин, и это было не в войну, а в самое обычное мирное время, в самой обычной Москве, когда в театрах шли спектакли и детей водили в зоопарк… Но это ведь история, давняя история, это прожито, и невозможно представить, чтобы это не то что повторилось, но даже названо было как-то иначе, чем страшным преступлением!
– Борь, познакомь со своей юной спутницей, – услышала Соня. – Можно к вам присоседиться? Виноградом угощу.
Подняв глаза, она увидела стоящего возле их стола человека довольно потасканной внешности, с большими, как будто надутыми губами и светлыми кудрями. В одной руке он держал бокал вина, а в другой блюдце с виноградом. Одновременно со своим вопросом и не ожидая ответа, он придвинул ногой стул от соседнего столика, уселся рядом с Соней и представился:
– Михаил.
Соне пришлось назваться тоже и сразу же начать слушать его рассказ о том, как он был «креслом» в только что закончившейся записи, и как его пытался ущучить собеседник, но он срезал его неоспоримым аргументом о том, что рыночные отношения – это вчерашний день экономики.
– Чтобы эффективно противостоять Западу, нужна принципиально иная политика финансового регулятора, – рассказывал он. – И вот я говорю: вы уверены, что Центробанк способен ее вести?
– А ты уверен, что Западу надо именно противостоять? – поинтересовался Борис.
– Ты, конечно, предпочел бы, чтобы мы под него легли.
– Есть и другие варианты поведения, – пожал плечами Борис.
– Нет других вариантов! Исторически нет. Мы вообще, я тебе скажу, недооцениваем историческую парадигму в выстраивании национальной экономической модели. Отбросили социализм, лучшее, что у нас было, а что получили взамен?
Задавая этот вопрос, Михаил сделал эффектный жест правой рукой. От него так веяло самодовольством, что становилось скучно еще до того, как он открывал рот. Одно хорошо: такого рода речи легко переходили у Сони в фоновый режим. Под его самозабвенный монолог про национальную экономическую модель она потихоньку разглядывала людей за соседним столиком. Вернее, не всех людей, а только ту даму в пиджаке, похожем на лоскутное одеяло, которая сразу обратила на себя ее внимание. То есть не саму даму она разглядывала, а как раз ее пиджак. Соня поняла наконец, что именно он, а не внешность его хозяйки, показался ей знакомым. Точно такой пиджак был когда-то у бабушки, ей сшила его Тамара Санчес, которая, бабушка говорила, была очень известна в московской театральной и богемной среде. С тех пор прошло, наверное, лет пятьдесят, а пиджак, надо же, у кого-то сохранился и до сих пор выглядит так же богемно.
Отвлекшись от пиджака, Соня услышала, что Михаил все еще рассказывает о национальных стратегиях.
– Не буду вам мешать, – сказала она, вставая.
– Вы совсем не мешаете! – воскликнул Михаил. – Оставайтесь, Соня. Или, может, куда-нибудь перейдем? В ресторан, а? В благословенные советские времена это называлось выпивать с пересадками. Тогда я вас в Домжур пригласил бы или в Дом литераторов. В ресторан ВТО тоже можно было бы, а сейчас…
– Спасибо, – сказала Соня. – Но я спешу, к сожалению.
Борис догнал ее, когда она шла по Пречистенке. Передачу записывали поздним вечером – администратор объяснил, что это необходимо для правильного света в стеклянном атриуме, – и теперь было уже совсем темно. Шел дождь, мокрые деревья на бульваре, мокрый асфальт, витрины – все блестело в уличных огнях таинственно и радостно.
Борис с Соней стояли посреди бульвара, и раскрытые зонтики держали их в отдалении друг от друга.
– Извините, что задерживаю вас, – сказал он.
– Вы меня совсем не задерживаете, – возразила она.
– Вы же сказали, что торопитесь.
– Меня тяготило общество Михаила, и я солгала.
– Это ложь во спасение.
– Чье?
– Ваше. Мишка мой одноклассник. От получаса общения с ним голова потом весь день болит. Трудно выдержать столько человеческой глупости на единицу времени. Да и незачем выдерживать.
– Он ведь экономист? – спросила Соня.
– Очень условно. При Сталине был порядок и прочее в этом духе. Социализм, вторая попытка. На этот раз надеется пристроиться поближе к корыту, в прошлый раз по молодости не успел.
– Зачем же его приглашают на эту передачу? – удивилась Соня.
– Плюрализм мнений, – усмехнулся Борис. – Они, когда придут к власти, нас никуда приглашать не будут. Это еще в лучшем случае.
– Вы какие-то ужасные вещи говорите. – Она поежилась. – Никуда не пустят, расстреливать будут…
– Но догнал я вас не для этого. – Свет фонарей тонул в сумраке его глаз. – Вы ведь еще не устроились на работу?
– Я собиралась, – словно извиняясь, объяснила Соня. – Думала в РГАЛИ пойти. Может, они меня помнят и возьмут. Но однокурсница сразу после диплома пригласила всю нашу группу в гости, она в Юрмале живет, потом еще какие-то летние дела… В общем, еще не устроилась.
– Тогда, может быть, пойдете ко мне?
– К вам – это куда?
– В издательский дом.
– А в какой? – спросила Соня. И наконец призналась: – Я ведь ни отчества вашего не расслышала, ни фамилии. Извините.
– По отчеству не обязательно. Борис Шаховской.
– Красивая фамилия.
Необъяснимое смущение, заставляющее говорить одни сплошные неловкости, охватило ее снова.
– Обыкновенная.
– Разве обыкновенная? Аристократическая.
Внешность у него точно была аристократическая: высокий лоб, узкая переносица, а главное, ум в глазах.
– Такие маркеры давно не имеют отношения к действительности, – усмехнулся Шаховской. – Все это кончилось еще когда князь Голицын взялся обучать чекистов семейному секрету голицынской борьбы. Я обычный московский мальчик из хорошей еврейской семьи и окончил не Пажеский корпус, а пятьдесят седьмую школу. Если захотите у меня работать, звоните.
Он достал из кармана бумажник, из него визитную карточку, протянул Соне, она машинально взяла.
Кивнув на прощание, Шаховской пошел через бульвар к метро. Соня прочитала на карточке: «Издательский дом Шаховского. Шаховской Борис Семенович. Генеральный директор».