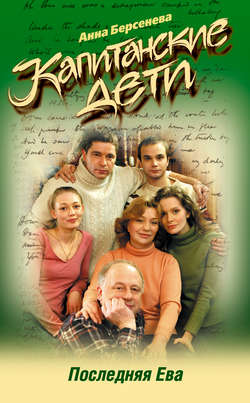Читать книгу Последняя Ева - Анна Берсенева - Страница 6
Часть 1
Глава 6
ОглавлениеЕсли бы кто-нибудь сказал ей тогда, шесть лет назад, что она будет вот так спокойно смотреть на Дениса, здороваться с ним каждый день, как здоровалась с любым учителем, разговаривать с ним на переменках и сидеть напротив за столом в учительской, – Ева не поверила бы.
Ее чувство к нему было тогда таким обостренно-счастливым, что сердцу трудно было выдержать.
А теперь она поздоровалась с ним, спросила, не окно ли у него, и выслушала его ответ. И смотрела, как он складывает листочки с контрольными в стопку, убирает в ящик стола, встает, застегивает большую кожаную сумку, идет к двери…
Ева все-таки не могла бы сказать, что смотрит на Дениса совсем спокойно. Но теперь это было уже неважно. Шесть лет, прошедшие с того утра, когда она прикоснулась к его щеке в тумане, переменили ее совершенно. Иногда Еве казалось, что все тогда происходило с какой-то другой, почти ей незнакомой женщиной.
– Ну, пока, – сказал Денис, обернувшись у самой двери. – Счастливо доработать!
– Пока, – ответила Ева. – Спасибо.
Она уже привыкла к тому, что он не задает ненужных вежливых вопросов: как дела, как жизнь, еще что-нибудь подобное. Он знал, как у нее дела, и знал, что она первая постарается рассказать ему о любых изменениях в своей жизни. И зачем тогда спрашивать? И какие, кстати, у нее могут быть изменения, которые интересовали бы хоть кого-нибудь, кроме, пожалуй, родителей?
Ева достала из сумки тетрадку с планом своего следующего урока. Она привыкла обязательно просматривать план перед самым началом занятий, освежать в воображении то, о чем будет говорить, иначе она просто не могла рассказывать.
…На Курском вокзале Еву встречали из Крыма отец и Полинка. Прежде она наверняка удивилась бы, почему пришли они, а не мама, но сейчас она видела только Дениса, даже когда не смотрела на него. Ева сама не понимала, чего сейчас больше в ее душе, счастья или страдания.
Поэтому она не удивилась и не обрадовалась, увидев из окна вагона высокую отцовскую фигуру на перроне. Валентин Юрьевич шел вдоль останавливающегося поезда – быстро, почти не хромая, а Полинка бежала впереди, обгоняя состав.
Вагон был плацкартный. Денис обходил напоследок отсеки, проверяя, не забыто ли что-нибудь второпях. Ева старалась не смотреть в его сторону – боялась, что смятение, которым охвачена ее душа, станет очевидным при взгляде на него и все поймут причину ее смятения. До сих пор она объясняла свое молчание – например, любопытной Галочке – тем, что с непривычки устала в походе.
Отец подал руку, помогая Еве перепрыгнуть через широкий промежуток между перроном и ступеньками вагона. Денис выходил последним. Прислушиваясь к его голосу в тамбуре у себя за спиной, Ева почти не оперлась об отцовскую руку, спрыгнула со ступенек сама.
– Ловкая какая стала, – улыбнулся отец, забирая у нее рюкзак. – Ну, дай поцелую тебя, путешественница. И загорела даже, смотри-ка! А вчера по телевизору сказали, что снег пошел в Крыму. Мама, конечно, разволновалась сразу. Как отдохнули?
Это он спросил, уже обращаясь ко всем, и Ева обрадовалась тому, что Денис сам ответил на вопрос ее отца.
– Отлично, – сказал он, спрыгивая наконец с подножки; глаза его светились веселым воодушевлением. – Именно что отдохнули! – Он посмотрел на Валентина Юрьевича с явной приязнью. – А то все вон, смотрите, так встречают, как будто мы из космоса возвращаемся!
Родители, столпившиеся на перроне, и в самом деле встречали своих чад с неумеренным энтузиазмом. Слышались громкие возгласы – отчасти бессвязные, отчасти состоящие из слов: «Боже, как похудел! А грязный какой!» Возмущенные чада что-то басили в ответ, отбиваясь от родительских поцелуев.
Тринадцатилетняя Полинка с завистью поглядывала на туристов, действительно грязных как черти. Раскосые глаза ее так и сверкали из-под длинной рыжей челки, и она вертела головой, боясь упустить что-нибудь интересное.
– Что ж, домой? – спросил отец. – Или у вас еще какие-то планы?
Ева впервые решилась прямо взглянуть на Дениса. Ответить мог только он. У нее не было не то что определенных планов, но даже приблизительного представления о том, как она теперь будет жить – через минуту, через час, через месяц…
Но Денис в это время уже разговаривал с высокой элегантной женщиной в светлом пальто – мамой Леночки Беринской – и не смотрел на Еву. Мамаша говорила ему что-то, быстро и, кажется, возмущенно, а он улыбался и кивал, не споря.
Еве вдруг стало так тоскливо, хоть плачь.
«Вот и все, – подумала она. – И что теперь? Как мы увидимся с ним теперь, где? – Она вспомнила, как тихо скрипнула дверь в темноте, и слезы подступили к самому горлу при этом воспоминании. – Кончилось все…»
– Пойдем, папа, – сказала она, стараясь, чтобы голос звучал спокойно. – Никаких у нас планов нет, ребята устали.
Ева не могла представить, как будет прощаться с Денисом. Руку подаст, пошлет воздушный поцелуй? Ей хотелось миновать это мгновение расставания, и, быстро взяв отца под руку, она почти потянула его к подземному переходу.
Идя по перрону, Ева слышала громкие голоса, поющие на прощание песню про новый поворот – их любимую походную песню… Голос Дениса вырывался из общего хора, звенел в сыром воздухе, словно догоняя ее, но она шла не оборачиваясь и все ускоряла шаги.
– Мама приболела немного, – сказал отец уже на привокзальной площади, открывая перед Евой дверцу синей «шестерки». – Ничего страшного, простудилась, но я ее все-таки попросил не идти, – предупредил он Евин вопрос. – А Юрка в Армению улетел.
– Я знаю, – кивнула она. – Он же сразу улетел, еще до моего отъезда, я же знаю.
– Спуталось все в голове, – слегка смущенно сказал отец. – В самом деле, до твоего отъезда. Надя волнуется, даже по телевизору его выглядывает, а тут еще у вас снег пошел… Ей, конечно, сразу ужасы мерещиться стали – обвал, сель, лавина.
Он улыбнулся своей удивительной улыбкой – открытой и в то же время немного исподлобья. Ева с детства любила папину улыбку. Она как будто расцветала постепенно – начиналась с едва заметной морщинки у губ и вдруг освещала все лицо, вспыхивала в черных, чуть раскосых глазах.
– Я ее успокаиваю, – продолжал он, – что в Крыму в это время года никаких природных катаклизмов в принципе быть не может. Но она мне не верит, конечно. В Армении… Страшно, милая, телевизор страшно включать, но и выключить ведь невозможно! Столько горя сразу.
– А мы вчера одежду отвезли, туда чтоб передать, – вмешалась в разговор Полинка. – Очередь стояла вещи сдавать – больше, чем за колбасой! – засмеялась она.
– Перестань, – спокойно произнес отец, и Полинка тут же перестала смеяться, хотя в его голосе не чувствовалось и тени назидательности или укоризны. – Это, конечно, капля в море, но все-таки, – обернулся он к Еве. – Люди на улице, под открытым небом, может, пригодится кому-нибудь…
– Не звонил Юра? – спросила Ева.
Ей стало стыдно, что за собственными переживаниями все вылетело у нее из головы, даже ужасное землетрясение в Армении, о котором она узнала еще до отъезда и на которое сразу же улетел ее брат.
– Нет, – покачал головой отец. – Им там, судя по всему, не до звонков. Мы же видели по телевизору, прямо в палатках оперируют. Но я уверен, если бы что-нибудь случилось, мы знали бы, мама зря волнуется!
Ева уже привыкла к тому, что отец помнит о маме постоянно и с нею связывает все, что происходит в жизни – рядом ли, за тысячи ли километров. Иногда ей казалось, что жизни, не связанной с Надей, для отца просто не существует. Так было всегда, и это никогда не удивляло Еву в таком спокойном, мужественном человеке, как ее отец. Она выросла с этим и не представляла, что может быть иначе. Ведь иначе – как жить вместе, зачем?
Может быть, мама и в самом деле приболела только слегка, но когда Ева вошла в квартиру, та вышла ей навстречу не сразу: наверное, вставала с кровати.
– Слава Богу, – сказала мама. – Наконец вернулась! Не целуй, не целуй, заразишься, у меня грипп, кажется. – Она отстранилась от Евы и даже отошла на несколько шагов назад, встала у дверной притолоки. – Что это с тобой?
– Ничего, – улыбнулась Ева. – Просто поцеловать тебя хотела.
– Ты вся взбудораженная такая, – заметила мама тем мимолетным, хорошо Еве знакомым тоном, который всегда свидетельствовал о волнении. – Случилось что-нибудь?
– Нет, мам, правда ничего. Устала, конечно, с непривычки, не спали сегодня всю ночь… А так – все нормально!
Конечно, маму не обманешь бодрым тоном. Но и выспрашивать, требовать рассказа о том, о чем Ева рассказывать не хочет, она тоже не станет. Поэтому можно было просто наклониться, развязывая тяжелые туристические ботинки и заодно пряча лицо.
…В десятом классе под конец года по программе значился раздел «Мировая литература», и проходили «Гамлета». Правда, Ева не любила слова «проходили» и всегда незаметно поправляла учеников и даже учителей, если они его употребляли.
Конечно, в мае ребята уже расслабились, им неохота было рассуждать о высоком, и в этом смысле время для «Гамлета» было выбрано неудачно. Но в глубине души Ева считала, что это даже хорошо. Все оценки были уже получены, исправлены, снова получены и исправлены окончательно, и поэтому разговор оказывался лишенным практической цели. И, значит, получался именно такой, какой она любила. А то, что по Шекспиру наверняка не придется писать ни выпускное, ни вступительное сочинение, придавало размышлениям о нем дополнительную прелесть необязательности.
Классы в гимназии были небольшие, человек по пятнадцать, и это тоже способствовало пониманию. Правда, урок в десятом классе был последним, и майский ветер из окна наверняка волновал ребят сильнее, чем самая увлекательная беседа о принце Датском.
Десятиклассники были Полинкиными ровесниками. Вообще Ева всегда думала о сестре, когда готовилась к урокам в старших классах: представляла, интересно ли было бы Полине ее слушать. И всегда меняла свои планы, если чувствовала, что сестра заскучала бы. Полинка была, конечно, не такая, как все, но Ева и не стремилась говорить с каким-то усредненным человеком, ей самой это было просто неинтересно.
«Да и существует ли он, этот самый усредненный человек? Едва ли…» – подумала она, уже открывая дверь класса.
Все они были разными, и все смотрели на нее по-разному блестящими разноцветными глазами. Еве казалось, что даже эта пестрая мозаика глаз в десятом «Б», например, другая, чем в десятом «А», в который она сейчас и входила.
Ребята болтали, сидя на столах, но, увидев ее, встали, и шум постепенно затих.
– Ну что ж, – спросила Ева, когда были выполнены обычные формальности начала урока: отмечены отсутствующие, дежурный отправлен за мелом, который, как всегда, не был принесен заранее, – вы хотите, чтобы я о чем-нибудь вас спросила?
– Не-ет! – дружным хором ответили они. – Не хотим, Ева Валентиновна, конечно, не хотим!
– Вы лучше расскажите что-нибудь, а мы послушаем, – мило улыбаясь и глядя хитрыми глазами, предложила Наташа Ягодина, сидевшая прямо перед учительским столом. – Вы ж все равно уже оценки выставили…
– Хорошо, – улыбаясь в ответ, кивнула Ева. – Я с вами прошлый раз о героях «Гамлета» обещала поговорить, ведь так? Артем, вы хотите что-то сказать? – спросила она, краем глаза заметив какое-то его мимолетное движение.
Артем Клементов сидел за третьим столом у окна, и яркие солнечные лучи мешали разглядеть, что он там делает.
– Нет, – сказал он, вставая. – Я тоже хочу вас послушать, Ева Валентиновна.
– Хорошо, – повторила она. – Садитесь, садитесь, Артем! Но все-таки и вы что-нибудь скажете, ладно? – обратилась она уже ко всему классу. – Потом, когда меня послушаете.
И вдруг ее охватило какое-то странное волнение, которого совсем не было еще час назад. Может быть, оно было связано с Денисом, с их мимолетной и привычно-пустой встречей в учительской? Этого Ева не знала, но чувствовала, как что-то непонятное, тревожное дрожит в ее груди.
На прошлом уроке она уже рассказывала им о Шекспире, о загадке авторства, которая самой ей представлялась такой маленькой и неважной по сравнению с загадкой его трагедий и сонетов… В подтверждение своих мыслей читала отрывки из «Смуглой леди» Домбровского: Ева была уверена, что это лучшее из написанного о Шекспире.
И вот теперь пора было поговорить собственно о героях трагедии, а она стояла перед классом в непонятном волнении, охваченная странной тоской и одновременно – тревогой.
– Я думаю… – сказала она наконец, почувствовав, что пауза становится слишком длинной, и заметив легкое недоумение в глазах сидящей перед ней Наташи. – Я думаю, что говорить об этой трагедии можно, только если понимать, что она необъяснима. Ее не надо пытаться объяснить с рациональной точки зрения, не надо пробираться к ней, срывая внешние покровы тайны. Между всеми ее героями существует особенная связь, и понять ее, по-моему, невозможно.
Ева говорила совсем не то, что собиралась сказать. И в ее рабочей тетради совсем иначе был спланирован этот урок. Но слова вырывались сами, подчиняясь безотчетному и печальному чувству…
– Но зачем же тогда вообще об этом думать? – пожал плечами Паша Кравченко – широкоплечий темноволосый парень в майке с портретом Стинга. – Какой тогда смысл это обсуждать, раз все равно непонятно?
– Но она же существует, – помолчав, сказала Ева. – Она более реальна, чем сама реальность! Эта трагедия существует как высшая точка искусства и притягивает своей необъяснимостью, и мы вновь и вновь совершаем попытки, даже осознавая их тщетность… Вы понимаете?
– Ну-у, примерно, – улыбнулся Паша; в его улыбке Ева почувствовала снисходительность. – И что?
Они были взрослые современные дети. Они хотели знать, а не предполагать. Им некогда было отдаваться смутным чувствам, потому что перед каждым расстилалась огромная и стремительная жизнь, в которой так трудно утвердиться, не раствориться среди миллионов себе подобных, особенно теперь, когда все меняется так мгновенно и жестко.
Они уже предчувствовали тот жизненный марафон, который им вскоре предстоял, и, может быть, инстинктивно отшатывались от всего, что могло их ослабить в гонке на выживание. В том числе от таких вот раздражающе-смутных разговоров. И как было их за это осуждать?
– Гамлет принадлежит какому-то особенному миру, – продолжала Ева. – Он, мне кажется, от рождения ему принадлежит, и поэтому наш мир так для него мучителен.
– А по-моему, он очень даже неплохо в нашем мире ориентируется, – усмехнулся Паша. – Полония убил, и вообще… По-моему, он и правда притворяется – типа, с ума сошел, – чтоб всех на чистую воду вывести. Ну, мучается, конечно, короля никак не убьет… Нерешительный он просто, вот и все! Разве не так?
Он смотрел на Еву в упор, слегка сощурившись, и она вдруг поняла, что не находит слов, способных разрушить железную логику этого юного мужчины… Не находит сейчас, в эту секунду, и не найдет никогда. И растерянно глядит поэтому в его прищуренные глаза, не зная, что ему ответить.
– Он просто очень одинокий, – вдруг услышала она голос Артема Клементова и даже вздрогнула: так неожиданно прозвучал его голос. – То есть это не просто, конечно… – Артем уже встал, когда Ева обернулась к нему, и волосы его серебрились от падающего из окна майского света. – Мне, например, тоже не все здесь понятно. Ведь каждый человек одинок и в конце концов к этому привыкает. «Что же на одного? Колыбель да могила», – усмехнулся он. – Почему же его-то это так мучает? Чтобы от трусости – вроде не похоже…
Ева так обрадовалась этой поддержке, что даже благодарно улыбнулась Артему. Он тоже задавал вопрос, на который трудно было ответить, даже невозможно было ответить, – но это был вопрос на ее языке… И песню Высоцкого, которую он процитировал, она тоже знала и любила.
– А по-моему, все дело в Офелии! – вдруг вмешалась в разговор Наташа. – Нет, вы хоть что угодно про него говорите, а по мне, так он очень гнусный! – Наташин вздернутый носик еще больше вздернулся от возмущения. – Зачем он так ее мучил? До самоубийства довел…
– А вы вспомните, как они встретились после разговора Гамлета с призраком, – с неожиданной для себя горячностью произнесла Ева. – Та самая встреча, о которой Офелия рассказала Полонию. Представьте, как это было, Наташа! Офелия впервые увидела его в растерянности, в смятении, почувствовала безысходность его скорби, и это ужаснуло ее. Она интуитивно поняла, что Гамлет больше не принадлежит себе, а значит, и ей не может принадлежать. Конечно, это трудно выдержать юной женщине… Но его ли в том вина?
Теперь Еве стало легче говорить и уже не казалось, что она не находит слов. Она говорила о самом воздухе, о дыхании трагедии, которое веет между монологами и диалогами героев. Говорила о цене юношеской дружбы, о Розенкранце и Гильденстерне, о бесплодности мести. Паша снова спорил с ней, а Наташа спорила с ним, и Ева слушала обоих, осторожно охлаждая их пыл, когда они начинали перебивать друг друга.
Но ее смутная тоска не проходила, и она так и не могла понять ее причины.
Хорошо, что урок был у нее последним. Ева была так недовольна им – вернее, собою так была недовольна, – что настроение у нее совсем испортилось. Она прошла через школьный двор, через арку и медленно пошла по Садовому кольцу к метро.
«Что это со мной случилось? – думала она. – Отчего вдруг я потеряла всякую логику, забыла все, о чем хотела сказать? Зачем пыталась говорить о том, что даже мыслью трудно уловить, не то что словом? Еще раз подтвердила в их глазах свою бестолковость, больше ничего!»
– Ева Валентиновна! – услышала она и обернулась.
Артем Клементов догнал ее у пестрого киоска на углу площади Маяковского.
– Разрешите, я вас провожу? – спросил он, останавливаясь рядом с ней. – Вы к метро?
– Да, – кивнула Ева. – Что ж, проводите, если вам по дороге.
Они молча пошли рядом.
– А вы расстроились, – сказал он. – Напрасно, Ева Валентиновна!
– Почему же напрасно? – На минуту она забыла, что перед нею мальчик, ученик. – У меня такое ощущение, как будто я урок сорвала. Все так сумбурно получилось, все невпопад и непонятно. Я пыталась говорить слишком изнутри – так, наверное. – Ева подняла глаза и встретила его внимательный серебряный взгляд. – А никому это не нужно. Надо было просто рассказать обо всем с исторической точки зрения. О том времени, о…
– О том – это о каком? – неожиданно перебил он. – При чем здесь время? И вообще, если я, например, изнутри не все понял, думаете, я снаружи пойму? Если вы мне расскажете, какие латы носил Фортинбрас?
– Вот видите, даже вы не поняли! – вздохнула Ева. – А ведь вы очень проницательны, Артем.
– Не знаю, – пожал он плечами. – Не думаю. – Он посмотрел на нее совсем другим, чем минуту назад, быстрым, чуть исподлобья взглядом. – Я чувствовал какую-то особенную, очень тонкую жизнь, когда вы говорили… Мне хотелось вас понять! Но я не смог.
Они остановились у кромки тротуара. Светофора у входа в метро не было, но он был на предыдущем перекрестке, и пешеходы толпой перебегали Садовое кольцо, когда красный свет загорался для машин вдалеке. Ева тоже всегда останавливалась здесь, выжидая удобной минуты. Но сейчас, в тоске своей и подавленности, она забыла об этом и ступила на дорогу не глядя. Артем тоже не смотрел на дорогу, но тут же придержал ее за плечо.
– Извините, – сказал он, мгновенно опуская руку. – Машины еще едут, давайте подождем, ладно?
– Да, – смутилась Ева, наконец спохватившись, что как-то не так разговаривает со школьником – слишком доверительно, что ли. – Спасибо, Артем, что проводили.
– Ничего, мне и в самом деле по пути, – улыбнулся он. – Я в Трехпрудном живу.
Они наконец перешли дорогу и стояли теперь у колонны Зала Чайковского.
– А давайте до Пушкинской пройдемся? – предложил он. – Вам по зеленой линии ехать, можно ведь и с «Тверской», правда?
– Правда, – кивнула Ева. – Что ж, пойдемте тогда до Пушкинской.
Ей и самой хотелось пройтись, успокоиться.
По всей недавно переименованной Тверской улице ремонтировали дома и тротуары. Им то и дело приходилось огибать участки, огороженные веревками и досками, Ева едва не упала, споткнувшись о кусок асфальтовой глыбы. Артем снова поддержал ее под локоть и снова сразу же опустил руку.
– Можно переулком пойти, – предложил он. – Да-а, тут теперь не погуляешь, сплошь разворотили! Неужели сделают когда-нибудь?
– Сделают, – улыбнулась Ева. – Даже очень скоро, наверное.
– А вы откуда знаете? – удивился он.
– Просто – чувствую, – пожала плечами Ева. – Совсем другой жизненный ритм стал, это же сразу чувствуется.
– Все вы чувствуете… – Ей показалось, что по лицу его мелькнула легкая тень. – Мне очень хочется вас понять, Ева Валентиновна! Но это трудно, мне трудно – у вас такая сложная жизнь в душе.
Она посмотрела на него удивленно и тут же снова ощутила неловкость. Любая доверительность в отношениях с учеником должна иметь границы, а он переступал их так очевидно, что невозможно было не заметить. Правда, Еву совсем не обижало то, что он говорил, но все-таки…
– Куда вы поступать думаете, Артем? – спросила она, чтобы как-то перевести разговор на более нейтральные темы.
– Не знаю, – пожал он плечами. – Ничего определенного. В смысле, никаких определенных талантов. Только вы не думайте, – усмехнулся он, – метаний тоже, в общем-то, никаких. Сплошная усредненность. Ну, поступлю куда-нибудь, конечно, не в армию же идти.
– Вы, наверное, спортом занимаетесь, – заметила Ева: плечи у него были спортивные и походка.
– Неважно, – снова усмехнулся он. – В этом смысле тоже ничего особенного.
– Зря вы так, – возразила Ева. – В вашем возрасте – и загонять себя в такие узкие рамки… Тем более что не вам, мне кажется, говорить об усредненности.
Незаметно они свернули с Тверской и дошли до Трехпрудного переулка. Ева даже обрадовалась, увидев перед собою знакомый барельеф – цветок репейника на здании старой типографии.
– Вот, Трехпрудный, – немного торопливо, предупреждая его предложение проводить ее до Пушкинской площади, проговорила она. – Вы ведь здесь где-то живете, да? Знаете, Артем, я дальше одна пойду. Мне хочется одной побыть… Еще раз спасибо, что проводили.
– Вам спасибо, – не пытаясь возражать, ответил он. – У вас в среду последний урок? У нас то есть?
– Да, – кивнула Ева. – До свидания, Артем.
Она пошла по переулку в сторону Пушкинской, а он остался стоять на углу переулка.
«Он, мальчик, хочет понять… – думала Ева, идя по Трехпрудному и потом, уже спускаясь в метро. – Он говорит о душевной жизни. Значит, ему это важно, он чувствует это? А человек, которого я люблю, – ему не важно во мне ничего, я это знаю, и все равно… Прощаю ему? Да нет, просто понимаю, что по-другому и не бывает».
В этом была главная причина горечи и тревоги, поднявшейся в душе после короткой и случайной встречи с Денисом. И Еве грустно было признаваться себе в очевидном.