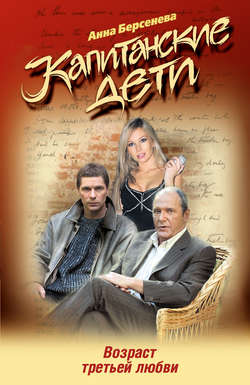Читать книгу Возраст третьей любви - Анна Берсенева - Страница 6
Часть ПЕРВАЯ
Глава 6
ОглавлениеПосреди площади во Внукове горой лежали матрасы, ящики, палатки, какое-то альпинистское снаряжение. Юре стало неловко, что он явился без ничего, с одним рюкзаком. Хотя что же он мог бы захватить с собой?
Весь этот сбор немного напоминал отправку в турпоход. Ребята смеялись, даже гитара была в руках какой-то девушки из провожающих, песня звучала в сыром воздухе ранней московской зимы…
Самолет брали чуть не штурмом, хотя весь «Ил-86» был предназначен только для них. Но что будет перегруз, это стало ясно еще до того как все наконец-то расселись в салоне – кто в креслах, а кто на ящиках и рюкзаках.
Начались долгие уговоры: летчики сначала увещевали по радио, потом сами вышли к неуступчивым пассажирам, Боря Годунов метался по салону, грозился, но все это было бесполезно. Выгружаться никто не собирался, и самолет рисковал не взлететь никогда, если бы вдруг не объявили, что сел второй борт из Еревана, который возьмет абсолютно всех.
– Под мое честное слово, ребята! – уговаривал командир экипажа. – Такое несчастье у нас, что я обманывать вас буду? Перегружайтесь скорее половина на другой самолет!
И снова началась эта возня, только в обратном порядке: ящики, рюкзаки, матрасы, палатки…
Юра на минуту остановился покурить рядом с командиром экипажа, стоящим у трапа.
– Извините, – сказал он. – Одно беспокойство вам с такими помощниками.
– Беспокойство! – Голос летчика прозвучал горько. – Какое беспокойство, мы вам благодарны, что туда летите… Ты еще себе просто не представляешь, что у нас там творится!..
Это и было главное, что они поняли сразу, как только приземлились и выгрузились из самолета в ереванском аэропорту Звартноц: что они себе просто не представляли… Все происходящее здесь происходило как будто в другом мире, который просто невозможно было себе представить из их обычного московского мира.
– Да-а… – протянул бывший «афганец» Василий, обводя взглядом зал ожидания. – Это уж как-то совсем…
Юра и сам не нашел бы точных слов, чтобы объяснить увиденное. Собственно, главным было не то, что виделось, а то, что чувствовалось, просто висело в воздухе: ощущение огромного, слишком большого, слишком всех касающегося горя.
Оно было в обведенных темными тенями глазах женщин, молча сидящих на скамейках и стоящих у стен. Оттого, что все эти женщины были одеты дороже и тщательнее, чем одевались женщины в Москве, – ощущение горя только усиливалось.
Оно было в том, как вздрагивал весь зал, как только оживал динамик: связи со Спитаком и Ленинаканом не было, и родственники ждали здесь, в аэропорту, хоть каких-нибудь известий оттуда…
Мгновенно стихли шуточки и анекдоты, не прекращавшиеся даже в самолете. Все чувствовали одно – растерянность перед лицом этого горя, которое было теперь совсем близко, и всем хотелось одного – поскорее добраться туда, где можно что-то делать, а не стоять в этой жалкой растерянности.
Дорога на Ленинакан была темна и пуста. Кроме автобуса, в который они погрузились в аэропорту, шли туда только редкие «Скорые» со включенными маячками. Обратно не ехала ни одна машина, и было что-то зловещее в этом однонаправленном движении во влажной тьме, под яркими южными звездами.
Молчали, курили, ждали, когда же въедут в город, – и все-таки пропустили этот момент.
В городе стояла такая же тьма, как на дороге; только редкие костры напоминали о том, что здесь еще теплится какая-то жизнь.
– А ехать-то нам куда, знаешь? – спросил Борис у шофера, пожилого армянина.
– Приезжал сюда… раньше, – хмуро ответил тот. – Искать будем.
Искать улицу Кирова, на которой должен был находиться штаб спасательных работ, пришлось долго.
– Не узнаю, ничего не узнаю, да, – повторял шофер, поворачивая то направо, то налево в кромешной темноте. – Улица Кирова тут должна быть – нету…
– Это что ж такое?.. Это ж конец света какой-то… – мрачно произнес за спиной у Гринева Андрей Чернов, инженер-радиолюбитель из Подольска. – Кто б рассказал, что бывает так, не поверил бы…
Юра сидел на первом сиденье, смотрел в лобовое стекло и тоже не верил, что видит все это наяву.
Зловеще молчащий, совершенно темный город. Некоторые дома стоят, как будто ничего не случилось, но подъезжаешь ближе – и видно сквозь пустые оконные проемы, что внутри ничего нет, даже перекрытий не осталось. Другие накренились, как в фантастическом фильме, и кажется почему-то, что их можно поправить, поставить ровно… А больше всего – развалины, развалины, жуткие нагромождения ушедшей жизни.
– Неужели есть еще кто живой? – так же мрачно произнес Андрей. – Не верится что-то…
– Все, ребята, кончили ныть, – сказал Годунов. – Некогда будет, судя по всему.
Насчет того, что будет некогда, Борис догадался правильно. Впрочем, на это и не нужна была особенная догадливость. Все события пошли дальше одной непрерывной полосой, и Юра только изредка отмечал про себя: ничего не видно – значит, ночь, а теперь опять видно – день…
Борис Годунов сразу отправился в штаб – выяснять, где им ставить палатки и что вообще делать.
– Пошли со мной, Юра, – сказал он, почему-то выделив Гринева из всего своего отряда. – Скоординируемся там, насчет бульдозера поинтересуемся, может, сразу выбьем, у нас же есть бульдозерист. Вообще поспособствуешь там, если что…
Но способствовать чему-нибудь в штабе, расположенном в уцелевшем старом здании Дома детского творчества, было бесполезно.
В пустой комнате сидел за единственным столом единственный мужчина – заросший черной щетиной, с красными от двухдневной бессонницы глазами. А вокруг стола, и в дверях комнаты, и в коридоре перед дверьми толпилось множество людей.
– Нэту у меня бульдозер, понимаешь – нэ-ту! – охрипшим голосом говорил этот единственный начальник. – И кран больше нэту, не могу тебе помочь, понимаешь, да? Давай сам копай, сколько можешь, как брата прошу! Техника идет, со всего Советского Союза идет техника!
В минуту оценив обстановку, насчет бульдозера Годунов интересоваться не стал – удовольствовался тем, что ему объяснили, где разместить палаточный лагерь московского отряда.
– Откуда ж она, интересно, идет, техника эта? – неизвестно у кого спросил Борис, когда они с Юрой уже выходили из здания штаба. – А еще интересней, кто под развалинами доживет, пока она дойдет…
Больше вопросов, обращенных в пустоту, Боря не задавал. И скоординировать его действия тоже никого не просил. Все прибывшие спасательные отряды координировались сами собою, сами ориентировались в обстановке и устремлялись туда, где их помощь была необходима в данную минуту.
Только много позже, уже вернувшись из Армении, Юра понял: чтобы сообразить все это сразу, с первых минут в Ленинакане, нужен был живой, быстрый и твердый ум – тот самый, которым, как выяснилось, обладал Боря Годунов.
Даже Гриневу, травматологу Института скорой помощи, привыкшему, что несчастья случаются с людьми ежеминутно, – трудно было осознать такой объем катастрофы. Что же было говорить об остальных – молодых, веселых парнях, проживших жизнь в стране, где не падают самолеты, не гибнут люди, не бывает стихийных бедствий! Зрелище разрушенного города свалилось на них так неожиданно и сразу, как будто они сами стали жертвами землетрясения…
Но задумываться об этом было некогда: каждый час стоил чьей-нибудь жизни, и каждый час был поэтому бесценен.
Юра заглянул в расположение годуновского отряда поздно вечером. Он почти и не работал с ребятами на расчистке развалин – сразу нашел бригаду склифовских врачей и присоединился к ним. Собственно, и искать особенно не пришлось: для работы пригодны были только уцелевший роддом и станция «Скорой помощи».
Андрей Семенович Ларцев, возглавлявший бригаду, даже не удивился появлению Гринева.
– А, и вы здесь, Юрий Валентинович, – только и сказал он, когда Юра заглянул в сестринскую на первом этаже; было часов десять вечера, и врачи обедали. – А я думал, вы в отпуске. Сами, что ли, добрались?
– Ребята помогли, – не вдаваясь в подробности, ответил Юра. – Андрей Семенович, по-моему, целесообразнее было бы, если бы я присоединился к вам.
– Естественно, – кивнул Ларцев. – Мы здесь, знаете ли, на отсутствие работы не жалуемся, всем хватит.
Это было через двенадцать часов после приезда в Ленинакан – бесконечное время! Юра уже и сам не удивлялся ничему, и не удивлялся, что не удивляется Ларцев.
Врачи и сестры не выходили из операционной ни днем ни ночью, не обращая внимания даже на подземные толчки, которыми то и дело сотрясались уцелевшие дома. У каждого из местных врачей погиб кто-нибудь из близких, но работали все одинаково, и этому тоже никто не удивлялся.
– Перекусите с нами? – спросил Ларцев.
– Спасибо, я ел, – покачал головой Гринев.
– Ну, пойдемте тогда. – Андрей Семенович поднялся из-за стола, отряхнул крошки с усов. – Вы где остановились?
Идя вслед за Ларцевым к операционной, Юра еще успел улыбнуться этому светскому вопросу – и больше времени на улыбки не было.
И вот он наконец нашел время, чтобы проведать Борьку. Юре все-таки было немного неловко, что он воспользовался «комсомольской линией» в собственных целях. Да и Боря Годунов стал ему дорог за те первые часы, которые они провели вместе, вытаскивая людей из-под завалов.
Было уже темно, годуновские ребята сидели у костра перед палатками. Казалось, что их ряды поредели, но дело было только в том, что некоторые, плюнув на толчки, перебрались из палаток в уцелевшие дома, чтобы несколько часов сна проводить хотя бы не на земле.
Борька обрадовался, увидев Гринева, и тот вздохнул с облегчением: значит, не обижается.
– Ну, как ты там, Юра? – спросил Годунов. – Не обижают тебя без нас?
– Кому обижать-то? – улыбнулся Гринев. – И когда?
– Это да, – согласился Борис; его подвижное, живое лицо стало печальным, печальны были и круглые, обычно веселые глаза. – А мы в школе так никого живых и не нашли… Швейцарцы виброфонами слушали, собак пускали – думали, может, хоть кто-то… Если б хоть на пять минут позже тряхнуло! – В его голосе прозвучало отчаяние. – Большая перемена началась бы. А так – лежат детки целыми классами… Съешь чего-нибудь, – вспомнил он. – Вас там хоть кормят по-человечески?
За дни, проведенные в хаосе Ленинакана, Боря явно привык рассчитывать только на себя. Представить, что кто-то еще заботится о питании людей, ему было трудно.
– Я не голодный, – покачал головой Юра. – Да и аппетита нет. Устал, наверно.
– А то, – кивнул Борька. – Поди не устал! Да запах еще этот… Мне уже кажется, до конца жизни меня этот запах преследовать будет.
Юра кивнул: ему тоже казалось, что до конца жизни будет преследовать его запах землетрясения – бетонной пыли, трупов, крови, плохого бензина…
Он посидел еще немного у костра и поднялся.
– Пойду, Боря, – сказал Гринев. – Поспать надо. И не спал же вроде давно, а не хочется почему-то. У тебя покурить нету?
Курево было самой большой проблемой. Есть и правда не хотелось нисколько, а курить хотелось просто зверски – и нечего было. Честное слово, хороший повод пожалеть, что «не послушался маму» и не бросил курить!
– Вообще-то нету, но для тебя найду, – улыбнулся Борис. – «Космоса» целых полпачки заначил, еще во Внукове купил. Погоди, себе одну оставлю. А я с женой поругался, – вдруг, без паузы, грустно сказал он. – Прямо перед отъездом, она даже к теще ушла. Да ты ж ее знаешь, – вспомнил он. – Платочек-то, а? Ну вот, та самая. А чего поругались – черт его знает, даже вспомнить теперь не могу…
– Вернешься – помиришься. – Юре почему-то радостно было смотреть в Борькины детские глаза, даже когда в них стояла печаль. – Пока, Боря, увидимся.
– Я тебя провожу немного, – сказал, вставая, Годунов.
Через несколько дней после землетрясения город все-таки выглядел немного живее, чем в ночь их приезда. Или просто они привыкли?
Слышны были звуки работающих бульдозерных моторов, голоса спасателей, грохот растаскиваемых бетонных плит. Прожекторы горели, освещая марсианский пейзаж и фигуры людей на развалинах. Оставшиеся в живых местные мужчины работали у своих домов, пытаясь добраться туда, где когда-то были их квартиры; приезжие спасатели помогали всем подряд.
– Во-он, видишь, тоже наши работают, из Москвы, – показал Боря. – Зайченко у них начальник, из авиационного института, сами альпинисты. Он мне вчера рассказывал, как они в Шереметьеве самолет захватывали. Пришли, билетов нет, конечно. Зайченко к начальнику аэропорта, а тот ему: посадить я твоих ребят не могу, но вон там стоит самолет, если пробьетесь сами, я возражать не буду… Ну, они встали коридором, никого пассажиров не пустили, да и пробились, – улыбнулся Боря. – Что ж это такое, Юра? – секунду помолчав, проговорил он совсем другим голосом. – Как же это может быть, чтобы…
Договорить он не успел, привлеченный чьим-то громким криком.
– Что это там? – обернулся на крик и Гринев.
Вообще-то отчаянному крику удивляться не приходилось. Может, достали еще кого-нибудь из-под развалин – наверное, неживых…
Но картина, которую они увидели на небольшой площади перед полуразрушенными домами, говорила совсем о другом.
На этой освещенной прожектором площади лежали мертвые. Наверное, их положили здесь до тех пор, пока удастся достать гробы, ставшие теперь в Ленинакане едва ли не самым дефицитным товаром. Рядом с трупами темнели фигуры родственников, более страшные в своей неподвижности, чем сами трупы.
И там, среди этих фигур, возникло какое-то движение, оттуда донесся крик.
Отчаянно кричал мальчик-подросток, отталкивая какого-то мужчину, который сначала пытался отшвырнуть его от себя, а потом, оглядевшись, почему-то бросился в сторону, в темноту.
Юра и Борис подбежали поближе.
– Что случилось? – тут же принялся расспрашивать Борис. – Чего он кричал-то, что случилось?
Женщина в черном платке, к которой он обращался, прижимала к себе плачущего мальчика и что-то быстро говорила ему по-армянски.
– Это его мама лежит, – наконец обернулась она к Годунову. – Его мама мертвая, а он остался живой. Он за лавашем пошел, из дому вышел, а до магазина не успел дойти, и остался живой. А маму сегодня нашли мертвую…
– А-а, – протянул Годунов.
Но, оказывается, дело было даже не в этом.
– Этот подлец хотел с его мамы снять сережки! – сквозь слезы воскликнула женщина. – Он подошел, мы ничего не сказали, хотя он не с нашей улицы, мы его не знаем. Но мы ему ничего не сказали, у всех горе, у меня сын здесь лежит… Мы думали, он тоже ищет своих, поэтому ходит среди наших мертвых. А Ашотик, – кивнула она на мальчика, – увидел, что этот над его мамой наклонился и снимает сережки, понимаешь?
– Вот гад! – зло хмыкнул Годунов. – Главное, не он один же…
Юра ничего не говорил, смотрел на вздрагивающего заплаканного мальчика, на женщину, у которой на площади лежал мертвый сын.
А что было говорить? Конечно, не один… Из разрушенных больниц тащили наркотики, это Гринев уже знал. Выходит, и сережки снимают с покойников… И этому тоже не приходится удивляться, потому что все, на что способен человек, обнажено здесь до предела в обе стороны.
– Поймали! – вдруг воскликнул Борис. – Глянь, Юра, поймали!
Двое мужчин вели к площади третьего – видно, того самого. Женщины закричали вокруг, бросились к ним, потом отступили, остановленные криком одного из тех мужчин, что держали мародера.
– Видишь, колец полный карман, – зачем-то сказал Борис, хотя все и так видели, как из кармана плотного, маленького армянина доставали горсть золотых колец. – Да его ж…
Прежде, чем Борис успел договорить, один из мужчин – тот, что доставал кольца, – вдруг отпустил мародера, отступил на шаг в сторону и, быстро засунув руку за пазуху, достал пистолет. Первый выстрел прозвучал сквозь общий крик, второй – уже в полной тишине.
– Пошли, Борь, – сказал Гринев. – Мне работать через три часа, выспаться надо.
На следующий день Годунов сам появился на станции «Скорой помощи» – как раз к концу Юриного рабочего дня, который длился ровно сутки.
То есть за это время Гринев, конечно, иногда выходил из операционной, делал какие-то перерывы, даже, кажется, что-то ел. Но все это было неважно, всего этого он не помнил. Только стояли перед глазами руки, ноги, головы – окровавленные, сдавленные, размозженные…
Юра только что освободился – если можно было назвать освобождением это никак не спадавшее напряжение, – побрился и уже собирался лечь поспать в отведенной для врачей палате, когда вдруг возник в дверях Борька и вытащил его на улицу, за угол больницы.
– Случилось что-нибудь? – спросил Гринев.
В глазах у него все плыло, даже Борино лицо он различал с трудом.
– Да ничего вообще-то. – Голос у Годунова был мрачный. – Так… Юр, у тебя тут спиртику не найдется? – вдруг жалобно попросил он.
Юра невольно улыбнулся. Спирт, конечно, был, и давать его кому-нибудь было, конечно, не положено. Но мало ли чего не положено! Все равно каждый решал сам, что можно и что нельзя: следить за выполнением правил было просто некому.
Боря одним глотком выпил полстакана, поморщился, отодвинул галеты, принесенные Юрой вместе со спиртом.
– Еще чего, градус драгоценный закуской глушить. – Он покачал головой и наконец улыбнулся. – У меня, Юр, знаешь, какое-то мозговое сжатие образовалось. Нет, ей-Богу – от развалин этих, наверно. Мозговая рвота, вот что! Есть у вас такой термин? Чуть не сдох, на тебя вот пришел посмотреть.
– Почему на меня? – удивился Гринев.
Усталость его развеялась как-то сама собою. Впрочем, это всегда происходило с ним от одного вида Бори, он уже успел заметить.
– А бреешься потому что каждый день, – улыбаясь, объяснил Годунов. – Впечатляет! Да ты не волнуйся, я надоедать не буду, посижу пять минут и пойду.
Юра действительно брился каждый день, и не только в Ленинакане. Но если дома ему просто противно было ходить небритым, это было чем-то само собою разумеющимся, то здесь, конечно, было не до того и приходилось заставлять себя бриться – хотя бы перед тем как завалиться спать. Как будто это торопливое бритье стало здесь чем-то большим, нежели простая гигиеническая привычка…
– Ну, я, может, тоже от мозговой рвоты лечусь, – усмехнулся он.
И тут же заметил, что Борино лицо совсем переменилось.
Годунов больше не улыбался, не рассказывал про мозговое сжатие, не просил спиртику. Злое, растерянное отчаяние стояло в его глазах, и от этого они казались еще круглее, чем обычно.
– Юра, как же это может быть? – произнес он, и Гринев вспомнил: что-то такое Борька начал было говорить вчера, но не успел из-за мародера. – Нет, ты скажи мне, как такое может быть? – Он заговорил быстро, горячо, словно торопясь выплеснуть все, что переполняло его, не давало покоя. – Столько народу погибло – ведь тысячи только здесь, а в Спитаке, говорят, вообще мало кто остался, а про села и вовсе забыли… И что? И ничего, вот что! Ну, мы приехали, конечно, если кто на самолет прорвался. Но страшно же смотреть! Мужики плачут, ногтями плиты рвут. Порвешь тут, когда ребенок твой под ними стонет, может, умрет через час… «Техника идет»! – сердито передразнил он. – Нет, я понимаю, стихия и все такое. Так что, выходит, про это никто вообще не думал? Никто, что ли, не знал, что тут сейсмозона, что всякое может быть? И, главное, нету же у нас ничего… Швейцарцы от Красного Креста приехали – е-мое! Виброфоны у них, еще такие штуки, чтоб по тепловому излучению определять, где человек лежит. Прямо, Юр, на экране видно, где у него ноги, где голова… Собаки – и те специально обучены, чтоб людей искать под завалами! А какие, сам подумай, в Швейцарии могут быть завалы? Может, раз в сто лет, и то вряд ли, а они собак научили… Почему это так, можешь ты мне объяснить?
Юра вдруг почувствовал, как одновременно с жалостью к Боре поднимается у него в груди раздражение – может быть, просто от усталости? Ему противно стало: этот круглоглазый комсомольский работник спрашивал у него о том, что прекрасно понимала бабушка, что понимали родители, что сам он знал с мальчишеских лет…
– Это ты меня спрашиваешь? – медленно произнес Гринев. – Ты – меня? А может, я тебя должен спросить?
– Да пошел ты! – Борька вскочил с бордюра, на котором они сидели вдвоем. – Праведник хренов нашелся, пошел ты знаешь куда! Не сердись, Юр, – произнес он, помолчав. – Я ж понимаю… Но я этого дела так не оставлю, помяни мое слово! – Он снова сел, ударил себя кулаком по колену. – Я это все досконально выясню в Москве, вот увидишь! Ладно. – Боря отряхнул стройотрядовские штаны, поднялся. – Спиртику бы еще, да времени нет. Пойду.
– Давай уж теперь я тебя провожу немного, – виновато сказал Юра.
Ему уже было стыдно, что он ни с того ни сего вздумал предъявлять Борьке дурацкие претензии. В конце концов, Годунов сейчас в Ленинакане, а не в комсомольском кабинете. И если бы не он, сидел бы ты, Юрий Валентинович, сейчас в Москве со своими претензиями да локти кусал.
Декабрь в Армении был, конечно, совсем не такой, как в Москве. Морозило только ночью, а днем температура еще держалась плюсовая. И все торопились, торопились расчистить завалы до наступления холодов: все-таки было больше шансов, что по теплу люди выживут под развалинами…
Юра решил дойти с Борисом до угла и сразу вернуться. Действительно, надо было поспать, а потом готовить раненых: вечером самых тяжелых отправляли в Ереван, а оттуда самолетом в Москву. Вместе с ранеными улетала склифовская бригада, на смену которой должна была прибыть новая. Ну, а у него был отпуск, и улетать ему было необязательно.
Но разгуливать по улицам Ленинакана просто так, приятно беседуя с товарищем, было невозможно. А с Борькой особенно.
– А чего это там ребята столпились? – заметил Годунов, едва они отошли на сто метров от больницы. – Глянь-ка, возле дома пятиэтажного?
«Все-то он видит! – с каким-то мальчишеским восхищением подумал Юра. – И что столпились, и что дом пятиэтажный… Какой он теперь пятиэтажный, когда обвалился весь?»
Но Борис уже спешил к «пятиэтажному» дому, и Гринев незаметно для себя пошел за ним.
– Что, Игорь, живого, что ли, нашли кого? – поинтересовался Борис у старшего, высокого парня в черном матросском бушлате – оказывается, и его он тоже знал.
– Найти-то нашли, да вытащить не можем, – ответил Игорь. – Женщина там лежит, живая, только без сознания была. Между плитами лежит, они над ней домиком таким сложились. У нее руки роялем были придавлены, только сейчас ломом отжали, – объяснил он. – Мы уже сверху пробовали до нее добраться – ни фига, сразу плиты расходятся, того и гляди упадут. Вот, сбоку расчистили дырку, только…
– Что – только? – быстро переспросил Борис.
– Только там труп лежит, – нехотя сказал Игорь. – Тоже женщина, закоченела уже. Ну, мы ее пытались вынуть, но у нее ноги плитами зажаты – никак…
– И что теперь?
– Да что… Выходит, распилить ее надо, – так же нехотя сказал Игорь. – Пилой…
– Так чего ж вы ждете? – возмутился Годунов. – Пока живая закоченеет?
– Ну, как-то…
– Где она лежит? – спросил до сих пор молчавший Гринев. – Правда, чего ждать? Давай пилу.
– А ты сможешь? – Лицо у Игоря оживилось, дернулась длинная детская шея. – А мы, понимаешь, никак решиться не могли, – немного виноватым тоном добавил он. – Не приходилось же никому такое… А наверху там, кажется, еще кто-то есть – вроде камешком стучали.
Мертвая женщина, труп которой ему предстояло распилить, чтобы спасти живую, была одета в шелковый японский халат – раньше, наверное, красивый, а теперь в клочья изорванный, засыпанный серой пылью. Лица ее не было видно, да Гриневу и не хотелось видеть ее лицо.
– Может, водки хлопнешь? – сочувственно предложил Игорь. – Все-таки легче будет…
– Не надо, – отказался Гринев. – Я сейчас.
Ему тоже никогда не приходилось делать такое, хотя за эти дни пришлось делать в операционной то, о чем он прежде и помыслить не мог. Конечно, сделать это должен был он, врач, а не Игорь с его мальчишеской шеей, торчащей из взрослого бушлата. Но Юра даже не представлял, что и для него это окажется настолько нелегко – пилить труп… Одно дело в анатомичке, где перед тобою просто кадавр, и совсем другое – вот эту женщину в шелковом домашнем халате…
В щель между плитами он увидел вторую женщину, к которой и пробивались спасатели. То есть увидел только ее лицо у самой щели – совершенно белое, неподвижное, с глубоко запавшими глазами.
«Да она живая ли? – мелькнуло у него в голове. – Может, поздно уже…»
И вдруг, словно отвечая на его безмолвный вопрос, женщина медленно открыла глаза. В них, как в черных ямах, не было уже ни страха, ни боли – только бесконечный, последний мрак.
– А маму? – вдруг прошептала она так ясно, что Юра легко расслышал ее слова. – Мою маму?
– Где мама? – Он приблизил лицо прямо к щели между плитами, чтобы не говорить слишком громко: боялся, что от звуков его голоса сдвинется что-нибудь в хрупком равновесии развалин. – Где мама, вы ее видите?
Удивительно было, что женщина, столько времени проведшая под развалинами, еще понимает что-то в окружающем ее ужасе и даже может говорить. Но она говорила, и Юра явственно слышал ее голос.
– Вот мама, – прошептала она, и Юра понял: это о той самой, труп которой он собирается пилить. – Я ее вижу…
Медлить было уже невозможно. Он снял с себя куртку, накинул на щель между плитами, сквозь которую она видела свою маму, и взялся за пилу.
Она была красивая и, наверное, молодая – хотя трудно было точно определить возраст по ее полумертвому лицу. И длинные, сбившиеся в колтун черные волосы казались седыми под слоем бетонной пыли – или они и стали седыми? На ней был точно такой же шелковый халат, как на ее маме; Юра смотреть не мог на эти цветы, драконов, веера…
Ребята за ноги вытянули женщину из-под плит. С виду все у нее было цело, только кожа была рассечена на виске, запеклась черная ссадина. Но он вспомнил про рояль, которым были придавлены ее руки, сразу посмотрел их – и понял, что медлить нечего.
«Сколько суток прошло? – лихорадочно подсчитывал Юра. – Сдавление, почки вот-вот могут отказать, если еще не отказали».
Ему стало страшно при мысли, что она – живая, завернутая в его лыжную куртку – вдруг умрет у него на руках, когда все уже позади, когда ее нашли, спасли, и больница в ста метрах отсюда!
Гринев беспомощно огляделся. Все, что он знал, что умел, вдруг выветрилось у него из головы при виде этого прекрасного мертвеющего лица…
– Так, мужики! – донесся до него голос Бориса. – Раз, говорите, сверху стучали, вверх и будем долбиться. Только вы станьте вдвоем, держите меня за шкирку и наблюдайте внимательно. Я ж не услышу, если плита падать начнет, а вы меня тогда как раз и оттащите.
Треск отбойного молотка вывел Юру из оцепенения – впрочем, он не больше минуты находился в этом несвоевременном состоянии, держа на руках завернутую в куртку женщину.
– Боря, я ее забираю! – на всякий случай крикнул он, хотя Годунов едва ли мог его расслышать. – Она живая, я ее сегодня в Москву постараюсь отправить!