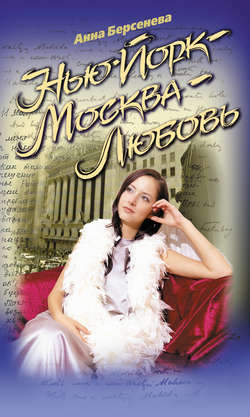Читать книгу Нью-Йорк – Москва – Любовь - Анна Берсенева - Страница 8
Часть I
Глава 8
Оглавление– Если бы я знала, что правильно и что неправильно!
Эстер сердито стукнула кулаком по подоконнику, на котором сидела во все время разговора с Ксенькой.
– А разве ты этого не знаешь? – улыбнулась та.
– Понятия не имею!
– Ты заблуждаешься. – Ксенькина улыбка показалась Эстер не то что едва заметной, такою-то она была всегда, но какой-то… до глубины души усталой. – Звездочка, ты всегда знаешь, что правильно и что неправильно. Это твое природное свойство, такое знание.
– Да ну, глупости, – махнула рукой Эстер. – Ой, Ксенечка, извини! Во всяком случае, это какие-то отвлеченности – то, что ты говоришь. И думать о них я не вижу смысла. А вот как мне вести себя в положении неотвлеченном, это надо решить. Но как это решить, я не знаю.
Эстер вовсе не предполагала, что Ксенька поможет ей разобраться в неотвлеченном положении, которое весь последний месяц составляло главную заботу ее жизни. Она просто размышляла вслух.
Эстер давно уже заметила, что Ксенькино присутствие, бесплотное, как присутствие эльфа в лесу или сиреневого облака в весенних зарослях, – явление магическое. Мысли при ней всегда приобретали стройность, а решения, которые во всякой другой обстановке казались Эстер трудными, даже мучительными, от одного лишь молчаливого внимания ее подруги становились простыми и ясными, да и приходили как-то сами собою.
И вот сейчас Эстер надо было решить, оставаться ли в студии Художественного театра, куда ей помогла поступить Алиса Коонен, или же принять предложение, сделанное ей месяц назад, и уйти в Мюзик-холл, на освободившееся место одной из тридцати герлс. Об этих герлс, которых обучил, а точнее, взрастил специально для Мюзик-холла балетмейстер Касьян Голейзовский, не писали или хотя бы не судачили разве только ленивые театральные критики. Одни утверждали, что герлс сделаны по американскому лекалу и потому творчески несостоятельны, другие сетовали, что они не вполне этому лекалу соответствуют, а значит, и не имеют права на существование…
– Но самое отвратительное, когда заводят шарманку про идейную направленность социалистического искусства, – сказала Эстер. – Про жалкое копирование Америки еще мыслимо выдержать, но про социалистическую идею искусства – нет, совершенно невозможно.
– А ты еще не привыкла? – усмехнулась Ксения. – По-моему, из этих пустых фраз состоит вся наша жизнь.
При этом Ксения быстро провела ладонью по лбу – так, словно продиралась сквозь пустые фразы, как сквозь паутину, и они пристали к ее коже, доставляя физическое неудобство. Эстер улыбнулась. Чутье ко всякой фальши и природная к ней брезгливость были у Ксеньки органичны, как обоняние и осязание.
– А зачем к ним привыкать? – сказала Эстер. – Мы же не привыкаем к…
Тут, впрочем, она затруднилась со сравнением. Она хотела сказать, что не привыкают же они, например, к отсутствию у них в «Марселе» горячей воды. Но это было бы неправдой – все-таки без горячей воды они как-то обходились: когда надо было помыться или постирать, то грели воду в бельевых баках. А разговоры и статьи про задачи социалистического строительства в советском театре и про прочие подобные гадости выводили Эстер из себя еще в те времена, когда она занималась в мастерской Фореггера. И теперь, по прошествии двух лет, все это по-прежнему казалось ей отвратительным.
Лишь только она вспомнила про Мастфор, мысли ее сразу же отвлеклись от глупых фраз и вернулись к нынешнему предложению Голейзовского.
– Конечно, я пошла бы в Мюзик-холл, – задумчиво произнесла она. – Я ведь этому у Фореггера и училась.
– Так в чем же тогда дело?
Ксенька, казалось, слышала ее мысли так же легко, как слова. Во всяком случае, на эту фразу она ответила так, словно их разговор не прерывался на то короткое время, что Эстер молча размышляла.
– Но Художественный театр, вот что! Это же мечта, это больше даже, чем мечта, – сказка волшебная, чаша Грааля!
– Так уж и чаша Грааля, – улыбнулась Ксенька. – Не преувеличивай, Звездочка.
– И нисколько не преувеличиваю! – горячо воскликнула Эстер. – Еще даже преуменьшаю. Ну что мне до Грааля? А МХТ… – Мечтательная улыбка мелькнула у нее на губах. Но тут же исчезла. – И к тому же перед Алисой неловко, – добавила она. – Мне кажется, ее оскорбит, если я предпочту Художественному театру Мюзик-холл.
– А мне кажется, нисколько ее это не оскорбит, – пожала плечами Ксения. – Сама она предпочла же когда-то всему Камерный театр. И даже Константина Сергеевича оскорбить не побоялась.
Из-за присущей Эстер потребности делиться с подругой всяческими новостями, как своими лично, так и всеми новостями театральной Москвы, Ксенька была осведомлена о перипетиях биографии Алисы Коонен – в частности, о том, что та на заре своей карьеры ушла от великого и признанного Станиславского к молодому режиссеру Таирову в его Камерный театр.
– Ну, Алиса в Таирова просто влюбилась, – пожала плечами Эстер. – Но я-то в Голейзовского нисколько не влюблена.
– Потому ты сейчас и колеблешься, – чуть заметно улыбнулась Ксения. – Твой барометр временно выключен.
Эстер засмеялась. Все-таки Ксенька читала ее мысли, кажется, даже прежде, чем они превращались у нее в голове из смутных клубков в блестящие нити. Конечно, она была когда-то влюблена в своего учителя Фореггера! Да и была ли у Николая Михайловича хоть одна не влюбленная в него ученица? Дело было даже не в эффектной его элегантности, неизменной частью которой была, например, курительная трубка, а в потрясающей, ни на секунду не иссякающей его фантазии. Фореггер импровизировал каждую секунду – читал ли он лекцию о комедии масок и театре шарлатанов, показывал ли костюмерам, как из старого диванного чехла соорудить одеяние Вестника, парящего над сценой, объяснял ли актрисе смысл какого-нибудь танцевального движения… Конечно, Эстер была в него влюблена, это просто не могло быть иначе! И когда сгорело здание Мастфора на Арбате, когда в газетах написали, что пожар стал лишь материальной точкой идейного конца Фореггера, – господи, какая глупая трескотня, ну как можно сказать «точка конца»? – она готова была работать в подвале, на чердаке, да хоть на улице! Но Николай Михайлович не взял ее с собой никуда. Ни в передвижную труппу, с которой сразу после пожара уехал на гастроли, ни потом на Украину, куда его пригласили руководить Киевской эстрадой… Что с того, что Эстер было тогда шестнадцать лет, что она не была штатной танцовщицей Мастфора? Просто Фореггер не был в нее влюблен, только в этом было дело…
Тогда она ему назло и решила, что никогда больше не будет участвовать ни в гротеске, ни в буффонаде, и влюбилась в Художественный театр. И правда – выключила тот любовный барометр, который всегда руководил ее жизнью. Но откуда Ксенька об этом знает?
Эстер удивленно взглянула на нее. И тут только заметила, как бледно Ксенькино лицо, какие темные тени лежат у нее под глазами. И даже не то что под глазами… Тень заботы лежала на Ксенькином лице, тень неизбывной заботы. И никакой интерес к подружкиным делам – конечно, не деланый, а самый искренний интерес – не мог этой тени скрыть.
– Что с тобой, Ксенечка? – испуганно спросила Эстер. – Ну и дура же я! Эгоистка, – расстроенно уточнила она. – Все о себе да о себе. Месяц тебя толком и не видела, а даже не спрашиваю, как ты, что…
– Да что я? – улыбнулась Ксения. – Идет себе моя жизнь потихоньку, и слава богу.
Эстер трудно было согласиться с тем, что жизнь, идущая себе потихоньку, – это нечто, достойное радости. Но и возражать Ксеньке было бы абсолютным свинством. Лишенцам, какими числились Евдокия Кирилловна Иорданская с внучкой, незаметное течение жизни можно было считать несомненным благом.
Эстер знала, что Ксенька болезненно воспринимает клеймо, которым советская власть отметила ее с такой же неотменимостью, с какой судьба отметила ее всеми нынче презираемым поповским происхождением и соответствующей этому происхождению фамилией. Нет, конечно, Ксенька вовсе не презирала ни происхождение свое, ни фамилию, даже наоборот, гордилась ими. И невозможность принимать участие в выборах советской власти нисколько ее не угнетала. То ли дело Ревекка Аркадьевна, мама Эстер, – она прямо-таки извелась по дороге в Иркутск: а ну как не успеют взяться на учет по новому месту жительства и выборы пропустят?!
О выборах Ксенька не переживала, но вот о том, что ее бабушка на старости лет лишена не то что пенсии – о ней и мечтать не приходилось! – но даже продуктовых карточек, что сама она, тоже заветных карточек лишенная, с трудом находит кратковременную работу, которая только-только позволяет не умереть с голоду, и из-за этой поденной работы, за которую, конечно, надо благодарить Бога, редко выбирается в свои Вербилки, на фарфоровый завод, потому что там работу ей давать боятся, несмотря на ее несомненный, всем очевидный художественный талант, – обо всем этом Ксенька переживала очень.
И со всем этим ничего нельзя было поделать.
То есть по мелочам, в повседневности помочь Ксеньке было можно. Да вот хоть продуктами: Эстер ела, по словам Евдокии Кирилловны, как птичка Божья, поэтому тех продуктов, которые она отоваривала на свои карточки, хватало ей с избытком, да и актерский ресторан «Алатр» на Тверской работал исправно, и кавалеров, мечтающих посидеть в этом ресторане с темноокой красавицей-актрисой, было предостаточно… Но Ксенька категорически отказывалась принимать продукты или тем более деньги даже у своей закадычной подружки.
– Нет, – с обычной своей тихой решительностью говорила она. – Звездочка, я тебя очень люблю и верю в твою искренность, ты же знаешь. Но – нет. – И на сердитый вопрос Эстер, отчего такое твердокаменное упрямство, отвечала: – Я не хотела бы привыкать ни к чьей помощи. Ведь сейчас мы с бабушкой проживаем наверняка не самое трудное время нашей жизни. Кто знает, что нам предстоит в будущем? Лучше не расслабляться.
И что на это можно было возразить? Лишенцев высылали из больших городов целыми семьями. Вон, Петроград, кажется, от них совсем очистили; Эстер вздрагивала, когда слышала это определение. Оно казалось ей даже более отвратительным, чем ненавистная риторика про идейную направленность искусства. О семье священника Иорданского – точнее, о тихом остатке этой когда-то огромной семьи, каковым являлись теперь Ксения с бабушкой, – попросту забыли. Возможно, лишь потому, что отец Илья, муж Евдокии Кирилловны, тихо скончался еще до революции, а отец Леонид, ее сын и Ксенькин отец, был арестован не в Москве, а в своем рязанском приходе, и там же расстрелян.
Правда, все эти обстоятельства являлись слишком ненадежными причинами для того, чтобы Иорданские могли рассчитывать на сколько-нибудь долговременное благополучие. Ксенька права была в том, что они проживали сейчас не самую трудную часть своей жизни – и в сравнении с прошлым, и в предчувствии будущего. Одно то, что их до сих пор не выселили из Москвы, из отдельной комнаты, притом в таком приличном доме, каким являлся «Марсель»… Эту комнату занимал еще до революции старший сын Евдокии Кирилловны, служивший по почтово-телеграфному ведомству, которому принадлежал дом с таким странным названием. Он и взял к себе мать и племянницу в восемнадцатом году, когда они остались без крова и без средств к существованию. Здесь, в этой комнате, он в том же году тихо сгорел от тифа. Все Иорданские умирали как-то тихо, даже если их расстреливали, как Ксенькиного отца…
«Что в голову лезет! – сердито подумала Эстер. – Умирают тихо… Тьфу-тьфу-тьфу!»
Она сплюнула через левое плечо, не наяву, конечно, а тоже мысленно, и поспешила задать подружке очередной вопрос:
– А как там в твоих Вербилках?
– Не знаю, – ответила Ксения. – Я давно там не была. Пожалуй, с самого твоего приезда из Сибири.
– Да ты что? – изумилась Эстер. – Почему?
– Так.
Ксения никогда не краснела – в минуты сильного душевного волнения она, наоборот, становилась еще бледнее, чем обычно. Сейчас, при упоминании о Вербилках, ее лицо стало прозрачным, как фарфоровая чашка. У Иорданских каким-то чудом сохранились две семейные фарфоровые чашки, сделанные почти двести лет назад на заводе Гарднера. Ксенька хранила чашки в коробочках из пальмового дерева, которые когда-то употреблялись для хранения пастельных красок.
Эстер видела чашки однажды и мельком, но запомнила их прозрачную белизну.
И точно такой белизной облилось сейчас Ксенькино лицо.
– С тобой случилось что-нибудь, Ксень? – спросила Эстер. – Там, в Вербилках?
– Нет, ничего. – Ксения уже взяла себя в руки, и лицо ее стало обычным, просто бледным, без фарфоровой прозрачной хрупкости. – Ты сегодня очень занята, Звездочка?
– Совсем не занята. Даже не верится! – засмеялась Эстер. – Я только утром вспомнила, что воскресенье. В спектакле я сегодня не занята, на репетицию меня не вызывали. А ты еще завтракать со мной не хотела, – укорила она подругу. – Часто ли у меня такая свобода с утра до вечера?
Собственно, ей и удалось сегодня зазвать Ксеньку к себе в комнату на завтрак под предлогом своей воскресной свободы. Хотя, положа руку на сердце, следовало признать, что свободы в жизни Эстер и в будние дни хватало. Не так уж велика была ее нагрузка в студии Художественного театра – оставалось и время, и силы на жизнь вполне привольную.
«Вот если перейду в Мюзик-холл, ни времени, ни сил ни на что, кроме работы, не будет», – подумала Эстер.
И поймала себя на том, что чрезвычайно этому рада.
– Вы должны быть выше картофельно-пайковых забот, – говорил когда-то Николай Михайлович Фореггер. – Иначе какие же вы артисты?
Положим, картофельно-пайковых забот в жизни Эстер и в восемнадцатом году не было, все-таки родители ее были крупными специалистами по телефонной и телеграфной связи, и большевики дорожили их знаниями с самого первого дня своего прихода к власти. Но богемная жизнь чрезвычайно ей нравилась – и во времена первоначальной юности, и теперь, когда юность ее была в самом разгаре. И то, что она готова была променять все эти радости юной свободы на возможность работы, кое-что да значило…
– Если ты не занята, – сказала Ксенька, – то, может быть, составишь мне компанию?
– Конечно, – кивнула Эстер. – А в чем? Ты чему смеешься? – удивилась она.
– Твоей манере удивительной. Ты всегда сначала принимаешь решение, а уж после расспрашиваешь подробности.
– Ну и что? – пожала плечами Эстер. – О мелочах и после можно разузнать. А куда мы с тобой пойдем?
– Я Игната хочу навестить, – сказала Ксенька. – Матрешиного сына, помнишь?
– А!.. – вспомнила Эстер. – А он разве обратно не уехал? Я думала, он в деревне давно.
– Теперь, может быть, уже и в деревне. Хотя он возвращаться вовсе не собирался. У них же в деревне совсем тяжело: голод, жить не на что. Он потому в Москву и приехал, на стройку нанялся. Он и деньги, что зарабатывает, почти все родне отсылает. Но он уже три недели у нас не появляется и знать о себе не дает. Мы с бабушкой беспокоимся.
– О чем беспокоиться? – пожала плечами Эстер. – Будто он вам родственник! И когда ему к вам ходить? Днем работает, вечером гуляет. Что еще крестьянскому парню в Москве делать?
– Не знаю… – задумчиво проговорила Ксения. – Мне казалось, он относился к нам с бабушкой сердечно. Видимо, Матреша хорошо о нас отзывалась.
Еще бы Матреше было не отзываться хорошо о Евдокии Кирилловне с Ксенькой! Бога она должна была за них всю жизнь молить и детям своим то же наказать. Кто поселил бы у себя в комнате приезжую крестьянку, да еще в такие годы, когда по квартирам то и дело ходили с обысками революционные матросы, да еще в таком птичьем положении, в каком жили в Москве сами Иорданские?..
– Но если тебе скучно его навещать, я одна пойду, – сказала Ксенька.
– Вот еще глупости! Как же мне с тобою скучно? – возмутилась Эстер. – Прогуляемся, конечно. Вон погода какая чудесная!
Майское солнце в самом деле заливало комнату веселыми лучами, ветерок колебал занавеску, и липа, растущая под окном, от этого ветерка то и дело протягивала в открытую форточку ветки, покрытые первой чистой зеленью.
– Я через пять минут буду готова. – Видно было, что Ксенька обрадовалась согласию подруги. – Бабушка кое-какую еду для Игната собрала, я возьму и тут же выйду.
– Но я с тобой пойду только при одном условии.
Эстер мгновенно сообразила, как можно выгодно использовать Ксенькино приглашение.
– При каком? – удивилась та.
– Что вот этот сыр ты для бабушки заберешь. И масло тоже, и кофе. А хлеб мы вашему рабочему парнишке отнесем. У меня почти полфунта черного осталось, пожертвую уж передовому пролетариату.
Эстер ожидала, что Ксенька, как обычно, станет отказываться, и придется выдумывать какие-нибудь неопровержимые доводы, чтобы отдать Евдокии Кирилловне сыр и масло. Но, видно, Ксенька очень уж торопилась навестить потомка Ломоносова, поэтому возражать не стала.
– Бессовестная ты! – улыбнулась она. – Ну как тебе при таком условии отказать?
– А никак не надо отказывать, – тут же заявила Эстер. – Бери еду и собирайся поскорее. Я тебя через пять минут жду у третьей лестницы, и хлеб вынесу.