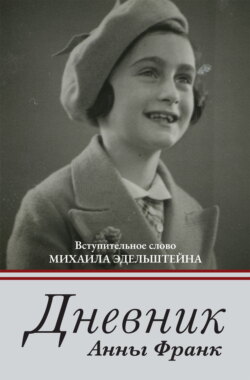Читать книгу Дневник Анны Франк - Анна Франк, Anne Frank - Страница 2
Жила-была девочка
ОглавлениеИз книг об Анне Франк можно составить библиотеку. Бесчисленные издания дневника – в разных вариантах, в оригинале и переводах, сокращенные, дополненные, с комментариями, с картинками, без комментариев и картинок. Биографии членов семьи. Предков. Голландцев, спасавших Анну и ее родных. Знакомых, деливших Убежище с семьей Франк. Воспоминания подруг детства и одноклассниц. Мемуары всех, хоть как-то причастных к этой истории. Многодесятилетние поиски доносчика, выдавшего Отто Франка и его домашних, нередко убедительные и аргументированные, хотя до сих пор достоверно неизвестно, а был ли вообще донос.
Несколько лет назад во время поездки в Нидерланды я решил зайти в амстердамский Дом-музей Анны Франк. Выяснилось, что билеты туда всегда раскуплены на два месяца вперед. Мне удалось попасть в музей только потому, что пятая часть билетов поступает в продажу в день посещения: если встать рано утром, есть шанс купить. Один миллион двести тысяч посетителей в год, более три тысячи человек ежедневно – намного больше, чем в иерусалимском мемориале Яд ва-Шем, считающемся главным в мире центром исследований Холокоста.
Конечно, можно говорить о культе, индустрии – и все это будет правдой. Только надо понять, что иначе и быть не могло. Да, на месте Анны могла оказаться другая девочка, хотя бы кто-то из ее подружек с известной коллективной фотографии 1939 года: Санна, погибшая в Аушвице, или Юлтье, удушенная газом в Собиборе. Но то, о чем 60 лет назад написал Илья Эренбург в предисловии к первому и на долгие годы единственному русскому изданию дневника Анны Франк – «За шесть миллионов говорит один голос», – все равно осталось бы неизменным.
И в этом нет никакого сговора или умысла. Просто человеческое сознание устроено так, что ему легче иметь дело не с абстрактными понятиями, а с конкретными образами, не с множествами, а с единицами. Один погибший ребенок вместо сотен тысяч беженцев. Один солдат вместо всех павших на войне. Праведник народов мира – Оскар Шиндлер. Еврейское сопротивление – Мордехай Анелевич или Александр Печерский. Выживший – Эли Визель. Жертва Катастрофы – Анна Франк.
В 1963 году вышел роман Генриха Белля «Глазами клоуна». И там главный герой говорит про свою мать, которая во время войны призывала всех на бой с «пархатыми янки», а после стремительно и безболезненно поменяла образ мыслей: «За это время мать успела сделаться бессменной председательницей Центрального бюро организации “Смягчим расовые противоречия”; она совершает поездки в дом Анны Франк и при случае даже за океан и произносит в американских женских клубах речи о раскаянии немецкой молодежи».
Почти 50 лет спустя, в 2011 году, американский прозаик Натан Ингландер напечатал в журнале New Yorker рассказ «О чем мы говорим, когда мы говорим об Анне Франк». Две очень разные еврейские пары, одна – секулярные американцы, другая – хасиды из Израиля, играют в странную игру: перебирают соседей, знакомых, друзей и пытаются представить, кто их спрячет, если (когда) начнется новый Холокост. Они называют это «игрой в Праведного Нееврея» или «игрой в Анну Франк».
То есть Анна Франк становится символом, точнее, метонимией не только Холокоста, но и буквально всей постхолокостной реальности – фальшивого покаяния одних, передающегося из поколения в поколение невроза других. Все это оказывается сжато до точки, носящей ее имя.
Анна Франк – бренд. Любой новый документ Холокоста неизбежно сравнивается с ее дневником. Любую новость о Холокосте надо привязать к ней, чтобы донести до читателя. Подача неизвестного через привычное – основное правило медиа.
Несколько лет назад во время археологических раскопок на месте лагеря уничтожения Собибор на востоке Польши был найден кулон, принадлежавший одной из жертв – еврейской девочке из Франкфурта-на-Майне Каролин Кон. Новость прошла практически незамеченной. Но стоило через несколько месяцев кому-то из исследователей заметить, что похожий кулон был у Анны Франк, как едва ли не все ведущие мировые газеты и журналы вышли с однотипными заголовками: «Кулон, найденный на развалинах нацистского лагеря, может иметь отношение к Анне Франк», «Кулон девушки-подростка, возможно, связанной с Анной Франк, найден в лагере смерти» и т. д.
А раз она символ и бренд, то любое событие, с ней связанное, любая реплика, в которой упоминается Анна Франк, автоматически попадает в зону особого внимания и рассматривается под микроскопом.
Осенью 2023 года саксонский город Тангерхютте в первый раз за всю свою историю оказался в топе мировых новостей. Причиной стало решение местных властей переименовать детский сад, названный в честь Анны Франк, в сад «исследователей мира» (Weltentdecker). Мотивировка – имя Анны ничего не говорит родителям-мигрантам и их детям, да и до немецких детей донести историю девочки, погибшей в Холокосте, становится все труднее.
Локальное, казалось бы, событие, случившееся в крохотном городке, вызвало волну возмущения и стало триггером для общенемецких дебатов о соотношении установки на мультикультуральность и национальной исторической памяти. С заявлениями по поводу ситуации вокруг детского сада выступили федеральные политики и представители международных организаций. В итоге дирекция детсада и мэр Тангерхютте дали задний ход, переименование не состоялось.
Но все же почему именно Анна Франк стала голосом, говорящим за шесть миллионов? Отчасти лотерея, отчасти закономерность, второго, наверное, больше. Красивая девочка с чудной улыбкой, явный литературный талант, дневник, найденный и изданный сразу после войны, когда место было еще вакантно, – идеальный кандидат. В результате история, начавшаяся в конце 1940-х, продолжается по сей день: десятки миллионов экземпляров на всех языках, бродвейский спектакль, бесчисленные театральные постановки, экранизации.
Есть и другие причины. Поле для поиска персонификации Холокоста было изначально сужено. Очевидно, что по резонам, отчасти политическим, отчасти психологическим, на этом месте могла оказаться девочка из Нидерландов, Франции, Австрии, но не из Советского Союза, не из балтийских стран и даже не из Польши. Опять же, дело не столько в умысле, сколько в том, что происходившее в СССР или в так называемом Генерал-губернаторстве (так нацисты называли ту часть Польши, которая была оккупирована, но не аннексирована – в отличие от западнопольских земель – Третьим Рейхом) слишком сильно отличалось от того, что видели жители захваченных немцами стран Западной Европы. Другой мир, другая война.
Еще важнее то, о чем говорит Синтия Озик в эссе «Кому принадлежит Анна Франк?»: «Многие считают дневник документом Холокоста, каковым он, безусловно, не является». Дом 263 по набережной Принсенграхт, где больше двух лет скрывалась семья Отто Франка, – это не ад и даже не предбанник ада (таковым с бо'льшими основаниями можно было бы назвать пересыльный лагерь Вестерборк, куда Анну и других обитателей Убежища направили после ареста). Катастрофа началась в момент задержания, продолжилась в Аушвице и завершилась в Берген-Бельзене.
Но всего этого в дневнике нет. А значит, ничто не мешает современному подростку видеть в зеркале дневника себя, свои вопросы, свои проблемы и отождествлять себя с автором. Хроника отсроченной гибели превратилась в подростковый роман, в то, что называется модным термином young adult. Синтия Озик уверяет, что в Японии слова «Анна Франк» стали для девочек эвфемистическим обозначением месячных (в дневнике речь идет о первой менструации) – лучший пример того, какую эволюцию проделал дневник в читательском сознании.
Поэтому школьники, даже мало что читающие, дневник Анны Франк читают и перечитывают без всякого принуждения. Поэтому же для многих юных посетителей музея вся история с Убежищем – что-то вроде приключенческого романа или триллера. «Комната страха», пусть и с трагическим, в отличие от фильма, финалом, остающимся, впрочем, за кадром. Они знают этот дом наизусть – вот здесь Франки прятались, здесь ходили в туалет, обедали, а вот тут Анна целовалась с Петером.
Еще один важный момент – в дневнике есть героические голландцы, которые, рискуя жизнями, помогают Отто Франку и его семье, но нет доносчика, наведшего нацистов на Убежище, вообще нет коллаборационистов. Предательство остается за кадром точно так же, как и многомесячная агония автора дневника. Читатель, вышедший из подросткового возраста, не встает перед воображаемым выбором (вспомним рассказ Ингландера) и может комфортно самоотождествиться с благородными спасителями евреев.
Плохими оказываются одни немцы. Впрочем, и они нашли выход. Первое немецкое издание дневника вышло еще в 1950 году, но переводчица выкинула оттуда все негативные упоминания немцев. В результате «борьба против немцев» превратилась в «борьбу против угнетения» и т. д. В этом переводе текст переиздавался до 1991 года.
Все это я пишу вовсе не для того, чтобы кого-то в чем-то укорить, кого-то кому-то противопоставить. Повторю в третий раз – речь не об умысле и не о сговоре, а об исторической неизбежности. «Время выбрало брата Карла», – утверждал Маяковский, этот же трюк оно проделало и с девочкой Анной. Миру нужен был такой документ, такой образ автора, они не могли не появиться.
Да, адаптация, да (еще одно модное слово) апроприация. Но ведь любая книга о Холокосте, даже свидетельства выживших, любой фильм, даже документальный, неизбежно адаптация. Примо Леви, Имре Кертес, фотографии трупов, кинохроника – все это о Холокосте, но не Холокост. Как «Колымские рассказы» – не Колыма.
В замечательной и недооцененной повести Юлия Даниэля «Искупление» герой смотрит на столичных интеллигентов, перемежающих застольные беседы о Комеди Франсэз хоровым исполнением блатных песен, и вздрагивает от осознания: «Это превратилось в литературу – безумный волчий вой, завшивевшие нательные рубахи, язвы, растертые портянками, “пайка”, куском глины падавшая в тоскующие кишки…» В литературу, однако, все это превратилось не в московских салонах, а раньше, в тот момент, когда вор в бараке впервые провыл: «Ты, начальничек, ты, начальничек, / Отпусти до дому…» Это уже было – о лагере, но не лагерь. Можно, как Хармс, мечтать о стихотворении, способном разбить окно, но никто еще не умер от того, что прочитал «Смерть Ивана Ильича».
Катастрофа – это не здесь и сейчас, а там и тогда. И чем дальше мы отходим от нее во времени, тем с большей очевидностью она превращается не только в литературу, но и в кино, комикс, квест, онлайн-игру. Можно, конечно, этим возмущаться, а можно принять ситуацию как есть. Это не злая воля начальства или толпы, но естественный и неизбежный бег времени: непосредственные свидетели ушли, смыслы сместились, и формат поменялся вслед за ними.
Война – это прошлое. Катастрофа – это прошлое. И если символом ее оказалась именно Анна Франк, значит, так тому и быть. В конце концов, можно сколько угодно объяснять невероятный успех дневника внешними обстоятельствами – и это будет отчасти правдой. Превращение любого текста в бестселлер, в феномен поп-культуры всегда характеризует не столько этот текст, сколько общество, формирующее именно такой читательский (зрительский, слушательский) запрос.
Но это не отменяет главного: перед нами замечательное литературное произведение, «обаятельная, трагическая и трогательнейшая книга», как по совсем другому поводу сказал Набоков. И – вопреки тому, что пишет Озик, – важнейший памятник Холокоста.
«Убивающий человека разрушает целый мир», – говорится в Талмуде. Холокост – это не только концлагеря, газовые камеры и опыты доктора Менгеле. Это, прежде всего, насильственное разрушение миллионов миров. От многих из них не осталось ничего, даже имен. Но жила-была девочка, которая, перед тем как ее мир разрушили, успела его описать. И сделала это так, что до сих пор люди читают ее дневник и приходят в дом, где она пряталась от нацистов. И поэтому ее голос стал голосом шести миллионов.
Михаил Эдельштейн