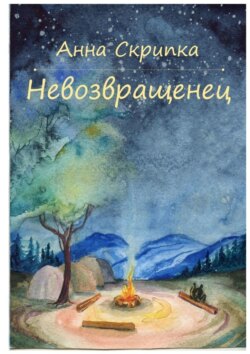Читать книгу Невозвращенец - Анна Леонидовна Скрипка - Страница 4
Рассвет – всегда начало
ОглавлениеЯ пробудила утро впервые, когда небо ещё не окрасилось предвестием зари. Мартовский холодный небосвод прорезался сквозь дома нежной бирюзой, и голубые капли света, срывающиеся из-за задёрнутых штор, тщетно будили пространство: времени осталось мало – если бы мы поднялись раньше, его бы стало немножко больше. Но я сразу окунулась в сон, как только ощутила реальность, оставив утру привилегию проснуться первому и в одиночестве. В момент между сном и явью меня отчаянно притянули к себе, лёгким сквозняком к разгорячённой щеке прикоснулось дыхание.
Момент между сном и явью второй раз был долгим и сильно приглушённым действительностью, в которую я упорно не верила.
Я чувствовала, периодически и случайно приоткрывая заспанные тяжёлые веки, как меня кутают в одеяло, нагретое теплом человеческих тел, а потом как я подлетаю вверх. Сладкий сон понемногу стихал, но не звучала явь, поэтому забвение отхлынуло несколько позже.
Безмолвная кухня утопала в сине-фиолетовой акварели, в окно стучались восточные ветра – но мы не впускали их. В бесшумно закипающем чайнике отражалась безмолвная кухня, утопающая в сине-фиолетовой акварели, с окном, куда стучались восточные ветра, не впускаемые нами. Ничего в этом мире не горело, кроме синих языков пламени, облизывающих блестящее пузо чайника. Лишь на противоположенной от меня стене, где находились и плита, и мойка, и кухонный шкафчик, огненно-оранжевым полупрозрачным горячим пятном, рассекая на две части маленькую кухоньку, разлился свет.
Этот мягкий свет успокаивал и грел, хотя не падал на меня. Рассветный привет, вестник солнца, утренний страж, безутешный утешитель… Рыжий, как Пэппи, разрезанный на квадраты рельефом людского жилища, луч. Мягкий и холодный, но согревающий, явившийся ко мне из дня, давно минувшего, дня, который так же, как и этот, был очередным последним.
В тот последний день этот луч касался мира так же безмолвно и холодно, так же бесстрастно и мягко. Неимоверно тихая вершина оделась в белила и рассветную мантию лимонно-розовой пелены надвигающегося солнца. В палатке уже было жарко, слишком жарко, и совсем не верилось, что за пределами нашего убежища январский мороз беспощадно властвует природой. Я высунула ногу из палатки, и лучи нежно обволокли её негреющим светом. Выбравшись наружу, я обречённо глядела на пламенеющий с каждой секундой мир – рай не может длиться вечно – лишь эта мысль не даёт возможности раю длиться вечно, остальное – дело понимания. Всё было в снегу: вся долина была в снегу, и все деревья были в снегу, и вершина, и все другие вершины были в снегу, и мои босые ноги по лодыжку тоже были в снегу, – в снегу и лучах. Безжалостно восходило ледяное сердце галактики. Горячими от сна пальцами я тронула отяжелевшую от массы серебристого снега ветку, которая нависала шатром над нашей палаткой. Обжигающим пухом, переливающимся розовым перламутром, с ветки полетели белые хлопья, погибающие на моей горячей коже, на обнажённом давно не тронутым загаром теле.
В объятиях одеяла и глубокого кресла я всматривалась в эту до мелочей изученную кухню, в руках у меня была большая чашка с чёрным сладким чаем, поставленная куда-то на бедро, и напротив моего кресла сидел Яр, смотрящий чёрными глазами в меня, как и тогда, в горах в морозный январь, в ещё один последний наш рассвет. Так уж сложилось, что расставались навсегда мы очень много раз – и каждый на рассвете.
«Я люблю тебя», – подумала я.
Я снова пробудила утро, вторично.
– Это солнце? – спросила я, глядя на лоскуты лёгкого света на стене.
– Фонарь, – ответил он, и внутри у меня что-то сломалось: ведь он так красиво горел.
– Сколько у нас осталось времени?
– Нам всё равно не хватит.
Я, не моргая, смотрела в пристальные орлиные глаза. Нет, ничего мне эти чёрные глаза не говорили и не знала я, о чём он думал. Даже в этот последний миг мы вряд ли покажем свои истинные мысли. Мне так хотелось плакать, но пересохшие глаза не выдавали меня – я уберегу его хотя бы от своей слабости. Если я заплачу, ему будет ещё больней, чем мне. Мы просто наслаждались присутствием друг друга. Каждый из нас знал, что мы можем никогда не увидеться, но воспоминания о грустном прощании испортит нам жизнь, а так мы запомним друг друга красивыми, любящими, говорившими о ерунде, сильными… Я запомню эту лавандовую кухню и каждый луч безжизненного фонаря так же, как и то январское утро, погрязшее в снегах. Я запомню Яра таким же спокойным и молчаливым с глубоким взглядом исподлобья, с распущенными, ещё не расчёсанными чёрными волосами – скоро я сама его расчешу и стяну его волосы в низкий свободный хвост, – и я запомню себя такой, какой запомнил меня он, обнажённой и укутанной наполовину в тёплое одеяло, с чашкой чая в белых руках и пшеничными локонами, ложащимися мне на плечи, руки и грудь. Я чувствовала себя красивой, и это придавало мне сил – да, пусть он помнит меня такой. И даже если не суждено мне больше со слезами кинуться к нему на шею, сегодня я этого не сделаю. Это удел встречи – плакать от радости и целоваться до потери самообладания, а сегодня – только выдержка, только сила.
У меня болели губы, и в груди что-то горело. Сильно и болезненно билось сердце.
– Я так люблю март, – задумчиво произнесла я, – выходишь на улицу – и сразу же так вкусно пахнет цветущими деревьями. Всё такое красивое, всё распускается: миндаль, вишни, абрикосы… Мне хочется вечный март.
Яр растянул губы в ехидной улыбке.
– Ты про любой месяц так говоришь.
Это был январь.
Молоком по долине разлились реки тумана, они текли из ущелий, из оврагов и обрывов, заполняя все донышки кривых горных чашек. Деревья там были неразличимы из-за снега, и только скалы иногда сверкали серебром так, что их можно было увидеть. И небо – лёгкое-лёгкое…
Мне с раннего розового детства было интересно, что происходит в самой лесной глуши, когда она недоступна человеческому глазу, когда в ней никого нет и я её не вижу. То розовое детство рисовало избитые сюжеты пикников дриад и сатиров с этнической живой музыкой, всяких фей, эльфов; позже моя фантазия стала мрачнее: мистические существа, скрывающиеся под покровом мрака, не способные, однако, стать осязаемыми, но и без того не внушающие ничего, кроме неприятного холодящего чувства, – сейчас… А сейчас я сама ощущала себя духом дикой чащи. Сегодня я оказалась в самом центре недосягаемого взглядом человеческим, мыслью осознанной. Я как будто нечаянно оказалась там, где не должна была быть, словно я каким-то неведомым образом сбила линию своей судьбы, сошла с видимой тропы куда-то в лесные дебри и застала сию одинокую душу природы врасплох, но не за каким-нибудь постыдным занятием, а за делом весьма тихим, не тайным, просто которое никто и никогда не видит. Я сбила планы, нарушила нормальный ход событий, выпала из ритмичной и последовательной реальности, сбежала незамеченной из многотысячного оркестра посреди произведения, долгого и уже надоевшего – я за кулисами, я там, где быть не должна, где происходит другое представление. И вот я видела, чем занимается природа, когда никто не смотрит, я случайно оказалась зрителем другой драмы, сюжета которой я не читала, своей роли в которой не имела, а посему в этом спектакле была свободной и независимой от сценария. Это приятное чувство вселяло некий неизведанный покой: что-то пошло не так.
Момент за моментом поглощали меня вместе с нашим маленьким лагерем и Яром, впечатывались в долговременную память беловатыми шрамами. И даже если бы я очень захотела, я бы никогда не смогла вычеркнуть строки сегодняшнего дня из своей немыслимо странной жизни. Очень обидно, что самые прекрасные мгновения иногда обречены превратиться в самые грустные воспоминания.
И чем этот мартовский рассвет отличается от того рассвета январского, белоснежного, такого же последнего, как и многие предшествующие? И так я привыкла к неизбежному расставанию навсегда, к этой немой безысходности, что уже смирилась: уже стабильно и автоматически теряла всякую надежду вновь увидеться после каждого прощания и без ропота и возмущения, без слёз и порывов принимала жизнь без Яра. Без всего прожить можно, а без того, без чего нельзя, и не будешь; и всё можно пережить, а то, что нельзя, и не переживёшь.
У меня до сих пор чувствовалась лёгкая дрожь в бёдрах, горела грудь, но мёрзли обнажённые плечи и пальцы, так давно не обласканные летним золотом солнца. Из-за этих совершенно разных ощущений казалось, что у меня поднялась температура. Так чувствовал себя человек, уже начинающий заболевать, но обязанный пережить насыщенный день. И вот, успев посетить пару-тройку сомнительных заведений, отстояв пару-тройку долгих очередей, встретившись с несколькими важными и тяжёлыми в общении людьми и забежав на рынок за продуктами на обратном пути, он возвращается домой выжатым, как лимон, не желающим уже даже кушать и уже заболевшим. Болезнь в эти минуты наступает подобно сну, поглощая человека в себя, как пищу, обволакивая его, обнимая широкими руками. Но уже это становится приятно, уже хочется поболеть, спокойненько полежать в кровати и попить лимонного чая, тратить силы только на интересные книги и осенние фильмы. И даже кажется, что не так сильно першит горло, и голова болит задумчиво и томно, и приятно горячо в груди, и холодно от температуры, но тепло от нескольких одеял, беспорядочно раскинувших свои крылья в твоей обители.
Жизнь, ну где мои романтичные фильмы и любимый Джек Лондон? Где мой насыщенный день обыкновенных житейских проблем, после которого я буду мёртвой и неспособной даже поужинать?.. Нет, я герой не дождливого кино, а весеннего утра и несуществующего прощания. Несуществующего, потому что где-то в идеальном и правильном мире я ещё сплю, вижу красивые сны, а не мимолётные кошмары, пробуждаясь от каждого шороха, от каждого неосторожного вздоха Яра, и Яр в этом идеально-правильном мире давно канул куда-то на дно. Нас как двух любящих людей, по сути, тоже не существует, а мне ведь уже и не помнится, когда я успела стать той, кто принадлежит нереальному человеку, лишённому права на жизнь. Я не знаю, как он выдерживает. Наёмникам присуще непоколебимое и ужасающее спокойствие, но разве способна человеческая психика уместить в себе животную безжалостность и искреннюю любовь? Но как оказалось, человеческая психика может сочетать абсолютно не сочетаемые чувства и качества; совершенно противоположенные эмоции являются друг для друга контрастом, разворачивая в человеке настоящие боевые действия.
– Боюсь, мы не увидимся слишком долго, – произнёс он бесстрастно.
– Я знаю. Всё, как всегда. И знаю, что я даже не имею права спросить, где ты пропадёшь на этот раз.
– Это же ради твоей безопасности, – слабо улыбнулся Яр. – Ты и это ведь знаешь.
И я улыбнулась ответно.
– Год, возможно, полтора, – сообщил он многозначительно.
– Это звучит ещё более жестоко, чем «навсегда». Давай убьём надежду. Яр, я не хочу, чтобы я была твоим смыслом. Таким смыслом тебе нельзя жить. Я не окажусь рядом, когда ты захочешь меня видеть, просто физически не смогу тебя найти, не смогу быть с тобой, не смогу даже позвонить или написать. И в конце концов умру для тебя как смысл. А без смысла умрёшь ты. Яр, ты себя мучаешь. Не делай из меня цель.
– А что ещё мне иметь целью и смыслом, как не тебя?
– Выживание. Тогда мы действительно сможем увидеться, а не надеяться на это. Яр, береги себя. Мысль обо мне отвлечёт тебя в самый неподходящий момент.
Яр не ответил.
Я окинула туманным взглядом освещённую оранжевым светом стену мёртвой кухни. Мне упорно казалось, что на ней спит весеннее солнце, а не искусственный луч фонаря, и я невольно ждала, пока его живые следы сползут немного ниже, известив о часе более позднем.
– А о чём мне ещё думать в неподходящие моменты?
Вопрос звучал риторически и я сделала вид, что вообще его не слушала.
Но Яр медленно встал, взял у меня из рук чашку с чаем и отставил её на стол. Потом он без особых усилий приподнял меня, как ребёнка, а сам уселся в кресло, усадив меня к себе на колени и легко обняв сзади. Настолько привыкнув к его запаху, я непроизвольно начинала засыпать снова. Пахло корицей и гвоздикой, чем-то тёплым и горьковатым, ещё костром, обожжённой шершавой кожей. Это запах безопасности и уюта – для меня, и по началу мне очень сложно было поверить, что для кого-то так пахнет смерть.
Я взяла его руку в свои. Линии на его ладонях были схожи с моими, и линия жизни тянулась до самого запястья – это обнадёживало меня намного больше, чем слова. У Яра тоже длинные тонкие пальцы, как и у меня, и сильно выступают костяшки на тыльной стороне ладони. Его руки выглядели куда грубее моих, а мои – мягче, меньше и легче, его руки – смуглые и с бледными, как туман, многочисленными полосками мелких шрамов, мои – светлые, как сметана, с немного прозрачной кожей и просвечивающимися хрустальными синими венками. Выглядели они куда нежней, чем его, но я-то знаю, самые нежные руки у самых хладнокровных убийц.
– Это были хорошие два дня.
– Это были два дня нормальной жизни, – сухо изрёк Яр с некоторой завистью. – Представляешь, люди так всегда проводят время.
– Когда-нибудь и ты будешь так проводить время. Всегда.
– Нам в этот раз повезло. Мы не виделись всего два месяца. Может… удастся сократить и этот путь.
– Забудь, – легко произнесла я, – не думай обо мне на этой жуткой работе.
– Работе, – скептически хмыкнул он, кажется, хотел сказать что-то ещё, но промолчал. Сердце его стучало по-прежнему очень сильно, и я невольно начинала волноваться. Глаза мои превращались в солёные океаны. – Евдокия, маленькая моя, я устал.
В солёных океанах поднялся порывистый ветер, безумная, ледяная и лишённая тёплого сострадания буря.
– Я знаю, Яр. Ничего… Когда-нибудь…
– Я не хочу, – перебил он меня. – Мы же убили надежду. «Когда-нибудь» звучит ещё более издевательски, чем «никогда». В «никогда» надежды нет. Евдокия, я не хочу никуда ехать. Я хочу к тебе.
– Ты со мной.
– Когда тебя рядом не будет, ты не услышишь, что я хочу к тебе. Поэтому я говорю это сейчас.
– Ты не прав, – и я безрадостно, но искренне улыбнулась, убрав прядь чёрных волос с его лица и глядя в родные чёрные холодные глаза, – ты не прав, я тебя слышу каждый раз, когда ты хочешь мне это сказать. А ты слышишь?
– Всегда, когда не надо, – ответно улыбнулся он.
– Если мы очень захотим увидится, обещаю, я закажу себя.
– Если ты закажешь себя, я буду следующим в своём списке.
Яр крепко сжал меня, уткнувшись лицом мне в волосы; сквозь них пробивалось его горячее дыхание – и у меня по спине пробежали мурашки.
– Ты помнишь нашу предыдущую встречу? – тихо спросила я, вновь разглядывая стену, на которой пламенел холодный след фонаря.
– Помню каждую до мельчайших подробностей, – уверенно сказал Яр, даже не задумываясь. – Заваленные снегом горы, пунцово-красные закаты и вместо рек – гладкие трассы из льда. И тебя, сумасшедшую…
– Почему сумасшедшую?
– А кому ещё придёт в голову в январе голой по снегу ходить?
– Мне не было холодно, – легко напомнила я, вновь взяв кружку с чаем в руки. Правда, больше для того, чтобы согреть замёрзшие пальцы, чем для того, чтобы допивать чай.
– Ты хоть не простыла? – поинтересовался Яр с отчаянием: он знал, что просто физически не сможет защитить меня от большинства моих нехороших приключений – даже от такой мелочи, как простуда.
– Даже горло не заболело, – заверила его я. Чёрные глаза скептически взглянули в мои, светлые и искренние – Яр мне не поверил, но снова решил промолчать. – Можно, если следующая наша встреча состоится, мы пойдём туда же?
– Евдокия, куда угодно.
Я почувствовала, как участилось его сердцебиение. Ах, если б я сама верила в то, что такая жизнь существует. Без расставаний на абсолютно неопределённый срок – от месяца до нескольких дней, от дня до всей жизни, – без постоянных опасений и без страха забыть лицо единственного дорогого человека. Жить, не считая времени, не отбирая с боем у судьбы драгоценные минуты; засыпая и просыпаясь вместе, вместе кушая и готовя овсяное печенье и блинчики с творогом. Жить, читая друг другу интересные книжки вслух, смотря фильмы в обнимку и целуясь медленно и без мысли, что повторится это, возможно, «никогда».
Что я могла ему сказать? Что могу и готова ехать с ним хоть в ад, просто чтобы питать его своими силами всю дорогу? Что и я устала неимоверно от вечного ожидания либо его, либо его смерти?
С наслаждением я кожей впитывала его присутствие, запах, дух. Это была странная реакция: само помещение, в котором находился Яр, начинало немного меня пьянить. С ребяческим увлечением он перебирал мои светлые длинные волосы, гладил по голове и плечам, как любимую игрушку, и я сама автоматически закрывала веки и почти засыпала, словно и впрямь превращалось в большую ласковую куклу. Но в ушах у обоих пульсом всё ещё отдавалась фраза: «Если следующая наша встреча состоится…»
– Солнце, – безэмоционально сообщил Яр, глянув на ту стену, где несколькими минутами раньше перестал пламенеть этот яркий фонарь.
– Солнце, – эхом отозвалась я, не поднимая век. – Пора?
Яр не ответил. Убрав мои пшеничные пряди с плеч, он поцеловал меня в шею и вновь крепко обнял.
Плиты противоположенной стены озарились мягким рассветным заревом, полупрозрачным, как вишнёвый компот, и светлым, как лимонный сок.
– Яр, ты вернёшься. Я же тебя знаю, ты вернёшься.
– Если это будет зависеть от меня.
– Измени мне, что ли… Тебе ведь будет легче. Я всё равно об этом не узнаю, а ты на время будешь думать не обо мне.
Я непроизвольно жмурилась: с другой девушкой в моих глазах Яр выглядел абсурдно. А с кем мог бы выглядеть нормально, с теми не устраивают вечной любви на одну ночь. Да впрочем, это неважно. Я считаю, важно оставить возможность.
– Я подумаю над твоим предложением, – усмехнулся он. – К сожалению, ты не собственник.
– Но ты ведь тоже.
Я встала с его колен на прохладный пол, отложив одеяло на стул. Минуту, пока я понемногу допивала чай, мы молча смотрели в пространство. Я заметила божью коровку на раковине, ползущую к помытому вчерашним вечером блюдцу.
– Тебе сложно изменить, – совершенно спокойно тихо произнёс Яр, поднявшись с кресла и подойдя ко мне почти вплотную.
– Физически – легче простого, психологически… Яр, ты мой на три жизни вперёд. Хотя бы в одной мы с тобой будем счастливы.
– Я бы предпочел в этой.
– Мы же оба знаем, что с нами произошло лучшее из того, что могло произойти.
– Это всё человеческая натура. Сколько бы жизнь ей не дала, ей всё равно будет мало. – Яр на минуту замолчал. Он поцеловал мои разгорячённые губы, лоб, щёки, ласково прижал меня к себе – всё бы ничего, но меня начинало трясти от собственных эмоций, лишь бы он этого не заметил. – Да, возможно, если бы мы радостно жили вдвоём в каком-нибудь домике и никогда не расставались, то уже давно перестали бы ценить друг друга.
– Как же сложно это представить…
Яр стоял, не шевелясь и с упоением рассматривая зелёные радужки моих глаз. Мы, как негатив при фотосъёмке. Он черноглазый и темноволосый – и я, зеленоглазая и светленькая с белоснежной кожей жителей северных стран, но всё же общего у нас было много, и, может, не столько внешнего, как внутреннего, но почему-то мне казалось, что с каждым годом я становлюсь всё больше похожей на него. И с каждым годом я становлюсь куда более практичной и менее доверчивой, и Яр – всё более молчаливым и менее эмоциональным, а рассветы всё те же. Всё те же невыносимые начала бесконечных дней, утопленных в безграничных болотах надежды (сколько бы раз мы её не убивали) увидеться ещё когда-нибудь. И как же это было цинично со стороны нашей судьбы… ведь рассвет мог ассоциироваться с чем угодно, но только не с грустным прощанием, а каждый наш рассвет, предвещающий ещё один солнечный день, нам предвещал только ещё один неизбежный конец. Рассвет – начало, которое является концом. И кто придумал, что самая тёмная ночь – перед рассветом? Самое тёмное время начинается в нашей реальности после рассвета.
Яр ушёл через несколько минут, оставив меня догорать в лёгком догорающем рассвете – и я догорела, как свечка, во время моего маленького завтрака и неспешных сборов. Больше я не должна об этом думать.
На улицу я вышла уже к обеду, когда солнце стояло в зените, насквозь пронизывая своим светом выцветшие улицы, и только запах цветущих молочно-белых вишен напоминал мне утренний разговор: я хочу вечный март.