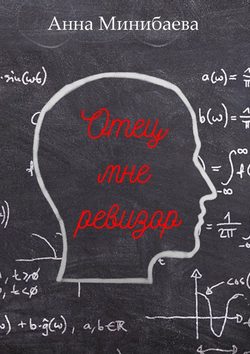Читать книгу Отец мне ревизор - Анна Минибаева - Страница 2
Часть 1. Погибший мальчик
Оглавление– К нам едет ревизор.
Эта фраза, сказанная Казаковой патетическим высокопарным тоном, разорвала надвое медленно струящийся отпуск Виктора, наполненный очарованием родных мест, ворчанием собак и тихим шуршанием книг Старика.
Когда это случилось, он гулял по умиротворенным улочкам, с наслаждением вдыхая терпкий запах дыма, струящегося из десятков банных печных труб. Воздух от него дрожал, а дома и деревья словно были подернуты тончайшим занавесом. Солнце уже зашло, и главная дорога вдали, тянущаяся через весь поселок прямиком до главной площади, потихоньку загоралась тусклыми огнями уличного освещения. В переулках же с каждой прошедшей минутой все громче заявляла о себе весенняя ночь. Она стучалась в задернутые плотными шторами окна, мигала черным глазом из-под завалинок и все смелее расправляла плечи в палисадниках. Изредка то один, то другой хозяин выходил на улицу, лениво почесывая живот, торчащий из-под накинутого поверх голого торса полушубка, оглядывал с высоты крыльца переулок, потягивался и медленно тянулся к выключателю. Ночная тьма, сердито потрескивая, бросалась в разные стороны от лучей электрического света – иногда теплых, как желток, а иногда ледяных, словно блеск снега в солнечный день.
В саду Старика было тихо. Тишина вливалась в уши, наполняла голову, расслабляла конечности. Не считая поскрипывания старых деревянных домов, которые словно нашептывали друг другу свои тайны, да шуршания ветвей, ничто не хотело нарушать тишину погружающейся в сон земли. Даже машины припозднившихся жильцов точно старались ехать тихо – легко ворчал мотор под железным корпусом, скрипел гравий под шинами, доносились из салона приглушенные звуки радио.
Когда Виктор, убаюканный тишиной и теплой мягкостью пледа, почти уснул на садовых качелях, тишину разрезал жесткий звук. Он вздрогнул, резко выпрямился, и сладкие сны, гурьбой склонившиеся над ним, прыснули в разные стороны, как спугнутые резким окриком дикие котята. Он нащупал в траве упавший от вибрации телефон, скорее нажал на кнопку уменьшения звука и тупо уставился на экран. Звонила Казакова.
Он не хотел брать трубку.
В этом году майские праздники выдались особенно замечательными – теплые, сухие, до краев наполненные пением птиц. Старик очень звал его погостить – рыбалка, говорил, будет замечательная в такое время. И Виктор согласился – взял несколько дней отпуска в университете аккурат между праздниками, выпросил у преподавателей задание на дом и отправился к Старику. Тот сильно сдал в последнее время, и Виктору хотелось как можно чаще видеться с ним.
Телефон все не унимался, нарушая тишину своим жужжанием. И Виктор принял вызов.
– Вить, тебя почему сегодня на работе не было? – трубка взорвалась требовательным голосом Вилены Казаковой.
– И тебе привет, Вилена. Я взял два дня отпуска, ты меня сама отпустила.
– Может, и отпустила три дня назад, – проигнорировала его приветствие Казакова. – А сегодня в университете жесть что творится. Срочно возвращайся.
– Вилена, я не могу. Я обещал своему… своему другу, что проведу все выходные с ним.
– Ну что ж, дорогой, придется тебе сказать другу, что злое начальство изменило твои планы. В университете настоящий ужас – через несколько дней грядет внезапная проверка. К нам сама Москва едет – ой как не вовремя. Все на ушах стоят. Кажется, работать придется все оставшиеся майские праздники. Отказов я не принимаю, завтра к обеду жду тебя. Заметь, не к восьми утра, как всех, а к обеду – я же знаю, что ты в области.
Вилена положила трубку, а Виктор еще несколько секунд слушал лихорадочные гудки окончания вызова, пытаясь прийти в себя от сокрушительного напора председателя профкома.
Где-то вдалеке завыла собака. Дымная завеса в воздухе вдруг навалилась на него душным саваном, а ночь обступила со всех сторон, угрожающе скаля зубы. Окна в доме Старика все еще оставались темны и слепы – бывало, он не зажигал свет вовсе, подолгу сидя в темноте у окна под ворчание телевизора или старенького радио.
Виктор повел плечами, как бы сбрасывая с себя покрывало, и отправился по узкой дорожке между ягодными кустами, посаженными Стариком в первые годы их с Виктором знакомства. К этому времени темнота уже полностью вступила в свои права. Небо на востоке обсыпала блестящая россыпь звезд, но на западе оно еще светилось слабыми отголосками былого солнечного дня.
В доме было тихо. Старик стоял у окна в дальней комнате, глядя на желтеющий ярким светом детский дом вдали. На его лицо падали теплые отблески, превращая его в бессмысленную маску, и лишь живые карие глаза как всегда блестели холодным светом, словно их глубина отражала свет миллионов звезд.
– Уезжаешь? – коротко спросил он.
– Ага. Начальство вызывает.
Старик никогда не говорил лишнего, поэтому обычно их разговоры были односложными и сухими. Он не любил выражать свои чувства. На вопросы отвечал конкретно. Лишь заводя разговор о любимом космосе, он оживал. В эти моменты его лицо словно начинало светиться изнутри, а речь раздувалась эпитетами, сравнениями, насыщалась терминами, лилась, как полноводная река, которой не было, казалось, ни конца ни края. Квантовая механика, теория относительности, теория струн, теория Большого взрыва вдыхали в него новые силы. Черные дыры, сингулярность, время и пространство, волны и частицы, звезды, галактики – об этом он мог говорить часами. И тогда Старик словно молодел на десяток лет, его руки оживали, а глаза начинали блестеть еще ярче.
Виктор смотрел на ярко освещенное здание детского дома, в котором он провел все детство. Тогда его будущее, как и будущее остальных воспитанников, будто было поглощено черной дырой – на горизонте событий что-то постоянно маячило, но дальше была лишь неизвестность. Они страшились этой неизвестности. Каждый день они дрались за то, что было положено им по праву рождения, – за любовь и внимание немногочисленных взрослых. Не получая этого в должном количестве, их наивные детские сердца огрублялись, черствели раньше времени. Загнанные в рамки строгого распорядка дня, они пытались бунтовать, сбегать, хулиганить. От этого черная дыра их будущего разверзалась все сильнее с каждым днем. У многих она так и не захлопнулась, оставшись черным провалом, в котором исчезали надежды на будущее.
По правде говоря, его черная дыра до сих пор была с ним. Благодаря Старику она сжалась до небольшого зернышка в его душе, но он всегда чувствовал ее присутствие.
В раннем детстве, Виктор точно помнил это, в его душе сияли звезды. Они были такие большие и такие яркие, что могли осветить любое мрачное событие. Свет этих звезд – свет его души – выливался в звонкий смех, в беготню по мокрой серебристой траве, в непрестанные мечты, в прыжки с разбегу в большие отцовские ладони или нежное кольцо материнских рук. Впереди было лишь светлое будущее, в настоящем – лишь счастливые мгновения.
А потом появилась черная дыра.
В тот момент, когда он узнал о смерти родителей, звезды в его душе на миг потускнели, а потом схлопнулись в одну большую и нестерпимо яркую звезду. Свет этой звезды за доли секунды словно втянулся внутрь самой себя, и там, где раньше были лишь радость и счастье, разверзлась бездонная пасть печали и неизвестности. Эта пасть не давала адекватно воспринимать слова милой женщины из соцзащиты, останавливала слезы, которые готовы были пролиться дождем на похоронах. Ночью из этой пасти наружу лезли кошмары, а днем в ней бесследно исчезали улыбки.
С каждым равнодушным взглядом воспитателей, с каждой дракой с озлобленными обитателями детдома, с каждым вновь постигшим разочарованием дыра внутри него становилась все больше. Она почти достигла точки невозврата, когда появился Старик.
В тот день он сбежал из детдома. Перелез через забор и пошел по узкой тропинке, которая вилась по склону пологого холма. Он шел долго, ни о чем не думая, полностью поддавшись шепотам черной дыры. Он не смотрел вперед, лишь себе под ноги. Неудобные ботинки натирали не успевшие зажить мозоли, и он полностью сосредоточился на этой боли. Он шагал все быстрее, не разбирая дороги, а когда наконец огляделся вокруг, понял, что оказался в незнакомом месте. Он стоял на краю оживленной дороги, по которой не останавливаясь сновали автомобили. Что делать дальше, он не знал, поэтому присел на лежащее на обочине бревно и начал считать машины синего цвета. Счет уже приближался к пятидесяти, когда на его плечо легла рука. Витя вздрогнул от неожиданности, но не испугался. Он будто почувствовал, что от этой теплой легкой руки не исходит зла.
– Из дому сбежал, да? – спросил Старик. Да, это был он.
– Нет у меня дома, – буркнул мальчик в ответ.
– Ясно. Я тоже детдомовский.
Старик сидел рядом с Виктором и болтал ногами, совсем как мальчишка. И Витя впервые взглянул в его лицо: уже тогда оно было изборождено морщинами. Кажется, каждую из них проложила какая-то трудная ситуация или невыносимо печальная эмоция. В коротко подстриженных седых волосах еще встречались черные волосы. Тогда ему было около пятидесяти лет, хотя выглядел он много старше.
– Меня Витя зовут, – он протянул Старику тонкую ручонку, и она скрылась в его широких ладонях. Так началась их странная и нелепая дружба.
Виктор посмотрел на свои широкие сильные руки – сейчас он мог взять словно иссохшие руки Старика в свои ладони, сжать их, скрыть его вялую нежную кожу от всего мира. Защитить так, как Старик в свое время защитил его.
На самом деле, наверное, они спасли друг друга. Старик жил у самого подножья холма, на вершине которого располагался детдом, в уединенном доме с большим садом. Каждый день после школы Витя забегал к нему на чай. Старик ставил чайник и рассказывал об астрономии и физике, читал вслух «Приключения Алисы». Когда выдавались ясные теплые ночи, Витя сбегал к нему через дыру в заборе. Старику это не нравилось, он ворчал, что у него будут проблемы, если воспитатели узнают, но каждый раз доставал из шкафа свой старенький телескоп. Постепенно из дома Старика исчезали залежи пустых бутылок и склады грязных оберток от еды, сад расцветал ягодными кустами и фруктовыми деревьями. Виктор же все больше увлекался научной фантастикой: брал в библиотеке Герберта Уэллса, Орсона Карда, братьев Стругацких, Рэя Брэдбери. Под действием приключенческих книг и горящих глаз Старика, по мере открытия новых космических тайн черная дыра в его сердце медленно съеживалась. К тринадцати годам его сверстники, подавленные действием своих черных дыр, курили за гаражами и совершали набеги на окружающие сады, а он помогал Старику ухаживать за садом и изучал физику по его старым учебникам.
Несколько раз Старик пытался усыновить Виктора, но каждый раз получал отказ, и мальчик продолжал прибегать к нему после ненавистной школы, несмотря на то, что с каждым днем все сильнее становился белой вороной в детдомовской тусовке. Он отделился от своих сверстников, которых представлял теперь лишь стаей орков, а потому часто ходил с подбитым глазом или рассеченной бровью. Те годы вновь начали ожесточать его сердце. Когда ему было пятнадцать лет, парни из детдома недвусмысленно намекнули, что его визиты к взрослому мужику, по их мнению, носят явный гомосексуальный оттенок. В тот день он в сердцах заявил Старику, что лучше бы они никогда не встречались. Заявил и тут же пожалел о своих словах, но все равно больше недели не приходил к нему. Та неделя будто подкосила Старика: когда Виктор пришел к нему с повинной, он вновь увидел несколько пустых бутылок у порога – то, что не случалось уже несколько лет. В тот год они оба снова почувствовали гнетущее действие Витиной черной дыры, но смогли с ним справиться.
Сейчас Виктор понимал, что те грязные намеки парни делали лишь из ревности и зависти. Вите было жаль своих «сокамерников», лишь единицы из которых добрались до третьего курса в университете, как он. Большинство вылетели уже после первого года обучения, их черные дыры не давали им шанса стать нормальными членами общества.
Виктор вздохнул и пожелал Старику спокойной ночи.
Завтра ему предстоит покинуть эту тихую гавань и снова нырнуть в суетную атмосферу университета.
***
Павел Валерьевич Зайков неспешно вошел в широкие двери университета, когда-то принимавшие тысячи студентов, а сейчас довольствовавшиеся лишь парой сотен задохликов, которых приходилось порой с нуля учить выполнять в уме элементарные арифметические упражнения на сложение, вычитание, умножение и деление. Иногда полсеместра уходило лишь на то, чтобы расшевелить их заржавевшие, избалованные калькуляторами мозги.
А вот и один из них – бывший студент, а ныне выпускник, стоял на вахте и возмущенно махал руками. Сухонькая женщина откидывала назад корпус тела и отворачивала лицо, чтобы посетитель случайно не ударил ее. А тот горланил на весь холл:
– Маргарита Львовна, ну вы пять лет меня знаете. Я же здесь учился и всегда с вами здоровался и спрашивал, как дела. Ну, неужели не помните?
– Никаких исключений, Жумадилов! Правила такие, – отбивалась от него вахтерша.
Зайков прошел мимо скандалящей парочки, сделав вид, что не заметил своего выпускника. Он накинул капюшон, чтобы Жумадилов случайно его не узнал, и прошел через новоустановленный терминал, пикнув по нему карточкой.
Закрывшаяся дверь отрезала волну гневных воплей, и Зайков оказался окружен благодатной тишиной, устанавливающейся в коридорах вуза после звонка на занятие. Сегодня у Зайкова не было первой пары, а в части его подработки администратором сайта не предвиделось ничего срочного, поэтому преподаватель не торопясь поднимался на второй этаж. Каких-то шесть лет назад эту лестницу украшали красивые широкие окна с благородными деревянными рамами, которые с приходом нового руководства заменили на современные бездушные стеклопакеты. Они, возможно, и сохраняли больше тепла, но совершенно уродовали парадный вход здания. Правда, если стеклопакеты еще можно было принять, то пейзажи, снятые хоть и на дорогой фотоаппарат, но абсолютно непрофессионально, заменившие висевшие когда-то на стенах лестничного пролета фотографии ученых и известных выпускников, простить было нельзя. Эти фотографии были сделаны новой молоденькой проректоршей по воспитательной работе, находящейся, по слухам, в родстве с ректором. Так потихоньку вуз из храма науки превращался в церквушку культа местных самопровозглашенных божков.
Приближаясь ко второму этажу, где и находился его кабинет, Зайков услышал громкие возбужденные голоса. В первом он с разочарованием узнал голос проректорши Елены Мартышкиной – одной из представительниц «бабского царства», так сейчас называли их ректорат. С ней разговаривала Вилена. Ее громкий и немного визгливый голос вызывал в Зайкове неприятные воспоминания о базарах и рынках, которыми был усыпан их небольшой городок. Все-таки не зря говорят, что до конца вытащить деревню из девушки невозможно.
Зайков замедлил шаг, надеясь, что они уйдут, но голоса все приближались, и вот Мартышкина и Казакова вышли на лестничный пролет. Зайков натянул на лицо притворную улыбку:
– Елена Николаевна, доброго вам утречка! – протянул он, а сам во всех подробностях представил, как жирно намазанное тональником лицо Елены отекает, обнажая тонкие лапки морщин. Улыбаться тут же стало легче.
Та высокомерно оглядела его сверху вниз, не удосужившись ответить, лишь демонстративно посмотрела на дорогие наручные часы.
«Ишь, какими мы стали, – зло подумал Зайков. – Давно ли простым преподавателем была и жаловалась, что руководство ее не принимает. А теперь посмотрите на нее, цаца!»
Зайков прошел мимо, не пытаясь больше заговорить.
– Павел Валерьевич, – донесся до него голос Мартышкиной, когда он уже остановился у двери кабинета, пытаясь отыскать ключ. – Задержитесь-ка на секунду!
Он снова натянул неискреннюю улыбку и не сделал ни единого шага к руководству, предоставив ей возможность самой достучать до него своими высокими шпильками.
– Скажите мне, пожалуйста, почему вы опоздали? – спросила проректорша.
– Я пришел вовремя, – удивленно ответил он.
– Когда вы поднимались по лестнице, было семь минут девятого, тогда как по трудовой дисциплине в восемь вы уже должны быть на рабочем месте.
Зайков почувствовал, как внутри него поднялась волна раздражения. На секунду его лицо искривилось, выдавая его истинное отношение к начальнице, но он довольно быстро смог совладать с ним и снова нацепить простодушно-доброжелательную маску. Впрочем, от цепкого взгляда проректора эти изменения скрыть не удалось.
– Потрудитесь написать объяснительную, – продолжила проректорша и уже повернулась, чтобы уйти, но ее остановил твердый и громкий ответ Зайкова:
– Нет.
Она остановилась, будто ее окатили ведром ледяной воды, и медленно повернулась к преподавателю.
– В смысле нет? – прошипела она. – Я ваш непосредственный руководитель, и я требую, чтобы вы написали объяснительную.
– Вам, дорогая Елена Николаевна, лишь бы в бумажках копаться. Готовимся к аккредитации – пишите отчеты, провели мероприятие – пишите отчеты. Отчеты за неделю, отчеты за день, одни отчеты! А работать-то когда?
Лицо Мартышкиной начало покрываться красными пятнами, и она снова, как всегда в злости, начала наглаживать свои волосы – пушистые, несмотря на ежеутреннюю процедуру выпрямления.
– Хотите, чтобы я написал объяснительную, – собирайте комиссию, выносите постановления и присылайте уведомления. Так Трудовой кодекс утверждает, – Зайков, наконец, повернул ключ в замочной скважине своего кабинета. – А еще лучше, – заключил он, уже наполовину находясь в кабинете, – приходите ко мне в пять вечера, дабы выгнать меня домой. А то, понимаешь, мы должны за те копейки, что вы тут платите, сидеть с восьми утра до восьми вечера. Доброй вам работы сегодня, Елена Николаевна.
Зайков хотел закрыть кабинет, но Мартышкина придержала дверь и вошла вслед за ним, сверкая глазами:
– А вы не смейте в пять вечера уходить! Да-да, не смейте! Вы доплату получаете, вот и сидите здесь столько, сколько понадобится! А то устроились хорошо – деньги за две должности получаете, а уходить хотите ровно в пять!
– Вы свою доплату с моей не сравнивайте, Елена Николаевна. Получали бы столько, сколько я, и такие прекрасные часики на вашей милой ручке не красовались бы.
– Сегодня я жду объяснительную, – сказала проректор, четко разделяя слова. Затем она развернулась, чуть пошатнувшись, на каблуках и вышла за дверь, громко хлопнув ей напоследок.
– Самодурка, – прошипел Зайков, в сердцах бросив на стул свой клетчатый шарф.
***
Вилена со злостью захлопнула ежедневник. Ситуация выходила из-под ее контроля.
Ее личный пятилетний план развития личного бренда висел на волоске из-за этого внезапного визита ревизора. Ей стоило больших сил втереться в доверие руководству вуза, выбить себе нормальную зарплату и получать льготы на учебе. Все может полететь в тартарары, если вуз не пройдет проверку – грянут перемены, которые могут спутать ей все карты. Потому она срочно созвала весь актив, который на время длинных выходных расползся по всей области. Вилена гордилась, что смогла убедить всех вернуться на два дня раньше – кто-то не возражал, потому что действительно был ей обязан всем, как этот сирота Виктор Кравцов, кто-то не отказал из-за дружеских чувств, которые она мастерски внушила, как Вика Крылова, а кто-то попросту был слишком слабохарактерен, чтобы отказать, вроде Лены Штыковой.
По коридору кто-то пробежал, оглушительно стуча высокими каблуками. Вилена поморщилась. Любое подтверждение хаоса в университете раздражало ее.
Она откинулась на спинку кресла и сомкнула ладони на затылке, с силой крутанув кресло. Мир вокруг нее завертелся – замелькали кубки и грамоты, словно помноженные сами на себя десятки раз, окно превратилось в тусклое светящееся пятно, папки с документами закружились в изнурительном танце. Девушка закрыла глаза и позволила миру вокруг успокоиться, замедлить свой бег и остановиться, тяжело дыша.
Она знала, этот мир был лишь агрессивной средой, в которой ей приходилось зубами прогрызать себе путь. Остановись на секунду, сверни не туда – и он вопьется в глотку, раздерет мягкую плоть, перережет артерии и выпьет всю кровь. Так случилось с ее мамой. Она была на вершине мира и уже собиралась переезжать на работу в Москву, как ее сокрушили, отправили обратно в деревню, где она снова стала обычной главой администрации. Уже несколько лет мама сидела там, как лягушка в болоте, ждала, когда власть потеряют люди, сокрушившие ее. Вилена ощущала лишь разочарование – раньше она боготворила маму и во всем старалась подражать ей. Наблюдать ее падение и сохранить благоговейный трепет перед этой женщиной, теперь будто сникшей и опустившейся, было сложно. И Вилена старалась реже приезжать домой.
В коридоре вновь послышались быстрые шаги. Кто-то приближался к двери профкома. Вилена поправила юбку и сделала вид, что чем-то занята в компьютере. В кабинет без стука ввалилась Вика Крылова. Она задыхалась, как от долгого бега.
– Привет, – выдавила она, вывалила на стол перед Виленой свою сумку и потянулась к кулеру.
– Ну, привет, – Вилена с плохо скрываемым раздражением смотрела, как Вика наливает себе воды и тяжело глотает ее.
– Ты сейчас офигеешь, – Вика, наконец, выпила воду.
– Ну?
– Мне только что позвонил Витька. В общаге тако-о-о-е творится!
Вика очень любила делать драматические паузы. Вилена выжидательно смотрела на нее, давая понять, что на уловки не поддастся.
– Ладно. Короче. Там помер кто-то. От передоза.
Вилена резко выпрямилась в кресле и подалась вперед. «Этого еще не хватало», – подумала она.
– Кто?
– Не знаю. Витя был так взволнован! А сейчас он не берет трубку, гад.
– Беги в общагу и немедленно выясни его имя, факультет и курс. Сразу позвони мне, нужно проверить, являлся ли он членом профкома. Как все не вовремя!
Вика кивнула, налила себе еще стакан воды и бросилась в общагу.
Вилена вышла вслед за ней, закрыла профком и побежала в ректорат. «Вот ведь черт, как не вовремя, как же все не вовремя», – думала она на бегу. Она так торопилась, что чуть не врезалась в Вадима Жумадилова, который перекрыл ей дорогу, раскинув руки. Вилена не успела увернуться и попала прямо в пахнущие потом и кислой капустой объятия бывшего председателя спортивно-оздоровительной комиссии профкома.
– Ви-и, – воскликнул он, ухмыляясь. – Все бежишь, все торопишься? Притормози, жизнь никуда не денется, это я тебе говорю как человек, освобожденный из этой шара… эээ… тюряги.
– Вадим, извини, но я тороплюсь.
– Погодь, подруга. Ты мне нужна.
– Чего тебе?
– Подпиши-ка обходной.
– Ты что, до сих пор свой диплом не забрал? Прошел почти год!
– Я так обрадовался, что, наконец, все это закончилось, что ушел в загул на полгода. Вот, оклемался и пришел, – усмехнулся Вадим. – Да шучу, так получилось. Подпиши, а.
Пока Вилена подписывала обходной лист Вадима, ей пришлось выслушать пространный монолог о том, как срок действия его карты закончился, и его не хотели пропускать в вуз через главный вход, и как он вспомнил, что боковой вход практически всегда открыт и что здесь редко сидит вахтерша, и вот он, наконец, прорвался в дорогую сердцу alma mater и теперь вынужден ходить и подписывать обходной лист, потому что просто так ему кровью и потом заработанный диплом не отдают…
Наскоро поставив прочерк, Вилена дождалась паузы в речи Вадима и быстро перебила его:
– Вадим, мне правда пора.
– Меньше работай, больше отдыхай, подруга, – крикнул Вадим ей вслед. Она махнула рукой и припустила в ректорат.
В ректорате ее встретил иконостас проректоров: в центре в рамке из темного дерева висел портрет ректора, который улыбался во все тридцать два зуба с глянцевой фотографии, а вокруг него расположились четыре фотографии с проректорами, из которых лишь один был мужчиной. Под иконостасом за столом, заваленным бумагами, сидела доброжелательная женщина-секретарь.
– Елена Николаевна на месте? – спросила Вилена у секретаря.
– Как слышишь.
Из кабинета Мартышкиной доносились громкие возбужденные голоса. Судя по всему, она снова ругалась с Зайковым. Утром Вилена спряталась за стеной коридора и с большим наслаждением подслушала, как проректор отчихвостила его за опоздание. Вредный преподаватель не признавал общественную работу Вилены за уважительную причину для прогула и отказывался ставить ей зачет без отработки. На третьем курсе из-за этого она чуть не лишилась стипендии. Если бы не Мартышкина, которая подписала приказ о том, что зачет Вилене может поставить другой, менее принципиальный преподаватель, девушка сильно подпортила бы себе репутацию. С тех пор Вилена затаила злость на Зайкова. Впрочем, его самого это не особенно задевало, а мстительную Вилену раздражало.
Девушка присела на кожаный диванчик и откинулась на спинку, вольготно забросив ногу на ногу. Постаралась прислушаться, о чем говорят за стенкой, делая вид, что рассматривает свой изящный сапожок на невысоком каблучке, но слов было не разобрать. Тогда Вилена открыла ленту новостей на смартфоне и начала бездумно ее листать. Внимание ее привлек пост Маргариты Поповой: «Ты справишься – ты ведь сильная. С утра макияж и стильная прическа, деловое платье и легкий завтрак. А потом – жесткий график. Но каждое испытание – лишь бонус к твоему опыту и твоей зарплате. Будь сильной, слабой быть опасно. Закури тонкую женскую сигарету и вперед – летящей походкой беги решать рабочие моменты. А наградой будет две морских недели следующим летом». Вилена фыркнула, прочитав эту запись до конца – она посчитала это лишь еще одним признаком слабости этой безвольной дурочки, называющей себя проректором. Душу в соцсети выливают в первую очередь, чтобы убедить в чем-то самих себя, а не аудиторию бесстрастных подписчиков.
Зайков выскочил из кабинета багровый от злости, чуть не споткнувшись о ножку председателя студенческого профкома, которую она ловко успела убрать.
Мартышкина выглянула в приемную, и Вилена тут же, заулыбавшись, встала с дивана, чтобы подойти к ней, но проректор покачала головой:
– Вилена, зайдите ко мне позже, сейчас я должна закончить с одним делом. Скажем, через час, хорошо?
– Но дело очень важное!
– Все дела, которыми я занимаюсь, исключительно важны, поэтому зайдите попозже, будьте добры.
Больше не обращая внимания на председателя профкома, Мартышкина передала какие-то бумаги секретарю и ушла обратно в кабинет. Вилена же развернулась на каблуках и, нарочито громко стуча ими, выскочила из ректората.
***
Маргарита спешила к входу в общежитие, стараясь не смотреть на полицейский бобик, припаркованный неподалеку, будто не обращай она на него внимания достаточно долго, он растворится, как мираж в пустыне.
Серое здание девятиэтажного общежития словно нависало над ней, грозилось обвалиться и навсегда скрыть под своими обломками ее холеное тело. Перед общагой на заборе сидели двое парней – один из них высокий симпатичный студент с третьего курса факультета журналистики, кажется, Женя, а второй – худенький и невзрачный второкурсник, который несколько раз натыкался на нее в коридорах, краснел и сразу же опускал глаза. Женя тихо сказал что-то второму мальчику и хмыкнул, смело глядя прямо на нее. Она непроизвольно приосанилась и пару раз грациозно взмахнула бедрами, на секунду забыв о цели своего визита – ей нравилось внимание молодых парней.
В холле пахло кислой капустой и горелым молоком. Привыкшая к чистоте и дорогим ароматам, Маргарита поморщилась. Прямо напротив входа располагалась застекленная будка вахтера. Сама вахтер – грозная тучная женщина неопределенного возраста с коротко подстриженными волосами и агрессивной лиловой помадой на губах – возвышалась рядом. Она была одета в балахон грязно-серого цвета, который придавал ей вид подтаявшего городского сугроба.
– Куда прешь без пропуска? – рявкнула вахтерша на Маргариту.
– Я проректор по воспитательной работе, – она двумя пальцами достала свое удостоверение и ткнула женщине в лицо, нарочито оттопырив мизинец. Маргариту раздражало, когда ее не воспринимали всерьез.
– А, здрасьте, – промямлила вахтерша и развязно показала на лестничный пролет, ведущий в правое крыло общежития. – Они там.
Маргарита с замирающим сердцем поднялась на восьмой этаж. Лифт не работал, и она несколько раз останавливалась передохнуть, проклиная свои высокие каблуки и недостаточное финансирование бюджетных организаций. В холле восьмого этажа было многолюдно: студенты толпились, громко обсуждали произошедшее, старались заглянуть в злополучную комнату, у входа которой стоял полицейский.
– Так, ребята, чего толпимся? – громко спросила Маргарита. – Здесь нет ничего интересного, расходитесь по комнатам.
Студенты притихли, но уходить никуда не стали. Маргарита показала удостоверение полицейскому, и тот освободил проход для нее.
Маргарита окинула взглядом помещение. Стандартный общежитский блок на две комнаты и санузел. Крашеные бог знает когда стены в прихожей, старые межкомнатные двери с хлипкими замками…
В свои студенческие годы Маргарита жила в подобном блоке вместе с тремя другими девочками. Они постоянно составляли расписание уборок, чтобы не спорить, чья очередь сегодня, и старались сделать комнату уютнее: покупали цветы, включали теплые желтые гирлянды, развешанные на стенах, украшали помещение плакатами знаменитостей, собственными фотографиями и мотивирующими фразами, вырезанными из журналов.
Этот же блок был явно мальчишеский: спартанская обстановка, обеденный стол в крошках и разводах от чая, а единственное украшение – возвышающийся на полке с посудой кальян, насмешливо блистающий полированными стеклянными боками. Парни явно были в панике, когда вызывали коменданта и полицию, раз не спрятали кальян в самый темный угол комнаты. В большой комнате, куда Маргарита зашла, стояли три кровати. Одна была аккуратно застелена стареньким затертым покрывалом. На ней сидели комендант общежития Мария Петровна – тучная большая женщина предпенсионного возраста, работавшая некогда в силовых структурах, и тощий длинный парень в очках, кажется, Витя из профкома – сирота, которого вечно шпыняла Вилена. Рядом с ними на стуле расположился полицейский, записывающий что-то в какой-то бланк. Напротив Витиной кровати стояла еще одна – незастеленная, с брошенным комком одеялом и примятой подушкой, на вид пустая и холодная, как покинутое птичье гнездо. На третьей кровати возвышался ком сваленной одежды, покрывал, книг, тетрадей – она явно была нежилая и служила обитателям этой комнаты чем-то вроде склада.
Увидев Маргариту, Мария Петровна вскочила и подбежала к ней, схватив за руки:
– Маргарита Алексеевна, какая же беда случилась, а? – запричитала она.
– Где мальчик? – вместо ответа спросила молодой проректор.
Комендант кивнула на раскрытую дверь санузла, на которой болтался вырванный с корнем шпингалет. Маргарита осторожно, будто боялась, что из туалета выскочит мертвец, прошла по узкому коридору с облезлой краской на стенах и заглянула внутрь. Тело полулежало на унитазе, белое и страшное, в рвотных массах, совсем не похожее на когда-то живого человека. Маргарита отвернулась, ее замутило. Внезапно на нее со всей силой обрушилось понимание всей сложности ситуации, в которую попал вуз. И в самом ее эпицентре была она, Маргарита, никогда ранее не оказывавшаяся в кризисных ситуациях.
– Присядьте, присядьте, – комендант подвела Маргариту к единственному незанятому стулу, и та рухнула на него всем весом. Мария Петровна налила в заляпанный стакан воды из фильтра, и Маргарита жадно выпила все до последней капли. Тошнота понемногу отступала. Она автоматически отвечала на вопросы следователя и кивала, когда он объяснял особенности процедуры.
– Тело увезут в морг для опознания родственниками и вскрытия, – говорил полицейский, а Маргарита в панике думала: «Господи, мне же придется звонить его родителям. Что им говорить, как утешать?»
Потом в блок ввалились парни из второй комнаты:
– Мы пришли в гости к… Никите, выпили немного пива. Потом Никита достал какие-то странные таблетки. Нет, мы не употребляли. Нет. Только он. Потом его затошнило, а мы пошли спать. С утра хотели его разбудить на пары, но он сказал, что не пойдет…
Маргарита почувствовала, как на ее плечо легка тяжелая рука коменданта. Женщина вывела Маргариту из блока. Студенты до сих пор толпились в коридоре. Увидев коменданта, они замолчали.
– Чего стоим тут? Бесплатную раздачу пончиков захотели? А ну все по комнатам, пока не выселила! – рявкнула Мария Петровна.
Потом, стоя в пустом холле, комендант тихо говорила Маргарите:
– Возьмите себя в руки. Вы бледная, как восковая кукла. Вы же проректор, решайте проблему. Мальчики сейчас в шоке, им нужна помощь. А родители? Позвоните родителям мальчика, попросите прощения, что не углядели, предложите любую помощь, оплату всех расходов по транспортировке тела. Понимаете? Нужно как-то сгладить эту ситуацию. Возьмите себя в руки.
И Маргарита кивала, одновременно раздраженная снисходительным тоном женщины и благодарная за советы.
***
Университет всегда был тихим местом: студенты апатично ходили на пары, тихо учились или просиживали штаны, потом так же тихо выпускались. Преподаватели смотрели им вслед, слабо надеясь, что смогли внести в их дремучие головы хоть немного света знаний. Тихо здесь проходили и федеральные проверки: ректор встречался с комиссией в приватной обстановке и, спокойно улыбаясь, протягивал председателю туго набитый белый конверт. Комиссия уезжала, а университет продолжал свою тихую, ничем не взволнованную жизнь.
Так воспринимали университет городские обыватели, такие же тихие и спокойные, как сам город. Они радовались, когда дети заканчивали обучение, навсегда покидали их спокойный уголок, не оставив после себя никакого следа, а на их место ступали новые студенты. Конечно, юные горячие сердца вносили определенный хаос в размеренное течение жизни города, но в конце концов никто не мог изменить порядок вещей, устоявшийся здесь за долгие годы.
Александр Сергеевич Краснов любил университет, обожал свою работу, оттого каждое решение глупого и бездарного руководства ранило его в самое сердце. Еще в молодости он понял, что человек – это больше, чем просто отдельно взятый индивидуум. Человек – это тот вклад, который он вносит в существование и развитие чего-то намного большего, чем он: клуба, общества, страны, мира. Винтик, без которого механизм не будет работать. Краснов любил своих студентов и старался внести свой вклад в судьбу каждого из них. Он основал несколько клубов любителей кинематографа и после работы занимался с желающими реализовать свой потенциал в театральном искусстве. Лишь из любви к своему хобби и желанию сделать этот мир лучше, а не из-за денег он ставил театральные постановки раз в год, которые неизменно собирали небольшой зал. Его лучший друг Павел Зайков неизменно фыркал, мол, нашел, чем после работы заниматься – труд твой не оплачивается, зато Попова (произнося ее фамилию, он неизменно делал ударение на первый слог, что заставляло Краснова недовольно морщиться) и Мартышкина включают твою работу в отчет о работе своих управлений. Краснов лишь пожимал плечами и шел в актовый зал к своим обожаемым актерам, декорациям и пьесам. Ему было плевать на отчеты, он просто горел своим делом и хотел зажечь им и сердца студентов.
Сидя на большой перемене в своем кабинете, Краснов в очередной раз редактировал текст новой пьесы, которую они со студентами ставили в этом году, когда в его тихую обитель ворвался шумный и снова возмущенный чем-то Зайков.
– Ну что за сука эта Мартышкина! – выругался он, не обременяя себя приветствием.
Краснов вздохнул и свернул файл с текстом пьесы, откинувшись на жесткую спинку стула.
– Сегодня, блин, поймала меня на опоздании – семь минут, прикинь. Великое опоздание! У меня даже пары не было! Хочет, чтобы я объяснительную писал, сука.
– Ну, так напиши, – флегматично заявил Краснов, вызвав этой фразой целую бурю негодования.
– А я только что от нее. И знаешь, что я ей сказал? Хрен тебе, а не объяснительная!
– Прямо так и сказал?
– Прямо так и сказал!
– Тебе бы, Павел Валерьевич, ко мне в театральную студию походить – такой актер пропадает.
– Очень смешно, Сань.
Зайков опустился на стул и сложил кончики пальцев перед лицом, опершись локтями на стол. Краснова напрягало молчание, воцарившееся в кабинете, поэтому кашлянув, Александр сказал:
– Пару дней назад Мартышкина меня тоже поймала на опоздании – тогда заморозки ударили, дороги в каток превратились, вот машины и ехали как, как ты говоришь, парализованные раки-инвалиды. Я и написал, и ничего. Премий нам с таким руководством все равно не видать, так что сколько этих отписок ни пиши, все одно.
– Нет, Сань, это дело принципа! – воскликнул Зайков вскочив и вновь начал нарезать круги по комнате. Он уже набрал в легкие побольше воздуха, чтобы начать длинную тираду, как его прервали короткие трели телефонного звонка.
Краснов снял трубку с древнего стационарного аппарата, с наслаждением глядя, как Зайков сдувается, словно воздушный шарик, который неплотно завязали тонкой ниткой. Милая секретарь из ректората сообщила Краснову, что Мартышкина вызывает его к себе. Краснов с недовольством покосился на часы – до пары осталось всего пять минут. Его возражения секретарь слушать не стала, сказав лишь, что это срочно. Пожав плечами и недовольно поджав губы, Александр взял свои папки с конспектами, задвинул старенький советский стул, с неудовольствием в очередной раз отметив дыры в обивке, и отправился в ректорат, сопровождаемый Зайковым, который ехидно комментировал возможные причины вызова на ковер.
В ректорате секретарь что-то пыталась объяснить возбужденному парню, который показывал ей обходной лист. Когда Краснов вошел в ректорат, секретарь махнула рукой на кабинет Мартышкиной, как бы приглашая его войти, а сама продолжила разговор с парнем, в котором Краснов узнал выпустившегося в прошлом году Вадима Жумадилова:
– Молодой человек, ну, что я сделаю? Заведующая канцелярией на больничном.
– Мне сказали, вы замещаете ее!
– Замещаю в плане регистрации документов, но я не могу подписать ваш обходной лист, я же не знаю, все ли документы вы ей отдали.
– Я отдал все, что у меня было, а теперь просто хочу забрать свой диплом! Это что, так сложно? Он срочно мне нужен, мне на работу устраиваться надо. Из-за промедления на мое место могут взять другого кандидата!
– Так, а где вы были десять месяцев до этого? Ладно, давайте я попробую позвонить ей.
В кабинете Мартышкиной тоже стоял возбужденный гвалт. Замерев на секунду у двери, Краснов различил голоса Поповой и Казаковой. Мечты попасть на пару разбились вдребезги.
– Чего замешкались, Александр Сергеевич? – спросила секретарь, набирая номер на городском телефоне.
– Секунду, – ответил он, пытаясь выудить из кармана телефон. – Надо позвонить старосте, сказать, что я опоздаю.
Краснов коротко переговорил со старостой группы, дал студентам задание, которое они, скорее всего, не станут выполнять, и вошел в кабинет проректора.
За захлопнувшейся дверью снова раздалась перепалка Жумадилова и секретаря, так и не дозвонившейся до заведующей канцелярией.
Мартышкина сидела в кожаном кресле, свысока взирая на Попову и Казакову, ютившихся перед ней на низких стульях. Перед проректором громоздилось дорогое малахитовое пресс-папье, занимавшее добрую четверть стола. Кроме него, экрана ноутбука и беспроводных мышки с клавиатурой на столе лежало лишь несколько листочков с аккуратными цепочками напечатанных слов. Зато небольшой шкаф за Мартышкиной был завален целыми кипами бумаг, в которых, пожалуй, сам черт не разобрался бы. Казалось, открой одну из его стеклянных дверец, и бумаги волной хлынут под ноги, затопят весь кабинет своей шуршащей сухой поверхностью.
– А, Александр Сергеевич! – воскликнула проректор, подняв на него глаза. – Заходите, мы вас как раз ждем.
Краснов сел на единственный свободный стул у стола Мартышкиной.
– Итак, уважаемый Александр Сергеевич, у нас к вам два вопроса. Скажите, а почему вы в своем этом кружке театралов ставите такие провокационные спектакли? Этот ваш, как его…
– «Потерянное поколение», – услужливо подсказала Казакова.
– Да, вот он. Студенты что, реально играют наркоманов?
– Это экспериментальная драма, – удивленно ответил Краснов. – Да, студенты играют зависимых людей, но это поможет им понять всю трагедию…
– У нас студенты в общаге от передоза мрут, а мы ставим в театре спектакль про наркотики, – резюмировала Мартышкина, глядя на него своими выпуклыми глазами.
– То есть как? – заикнулся Краснов.
– Да-да, вы не ослышались. Сегодня в общежитии нашли тело студента. А теперь представьте себе, что подумает проверка, когда придет на этот ваш спектакль, а у нас там одни, извиняюсь, наркоманы.
– А что вы мне со студентами «Красную Шапочку» предлагаете ставить? «Потерянное поколение» – хороший спектакль, который заставляет задуматься, – неожиданно для себя огрызнулся Краснов.
– Ой, я вас умоляю, ну кто там о чем задумается? Вы средний балл наших абитуриентов видели?
– Может, средние баллы у них и не настолько высокие, как в других вузах, но не дураки же они!
– Короче, – снова пресекла его возражения Мартышкина. – Спектакль надо поставить другой. Хотите – ставьте «Красную Шапочку», а хотите – «Желтый каблучок» какой-нибудь. Только не забудьте предоставить мне краткое содержание.
– Елена Николаевна, я вас умоляю, до премьеры чуть больше месяца! Когда это ставить? Давайте уж тогда отменим.
– Как это отменим? А придет проверка, спросит, где ваш театральный кружок, мы что им скажем?
– Скажите, что его у вас нет, я же работаю на чистом энтузиазме, это моя инициатива и ничего более!
– А вы разве не знаете, в какой стране живете? Здесь инициатива наказуема! Как говорится, назвался груздем – полезай в кузовок. Тем более мы уже давно подготовили все бумаги задним числом, а вы их уже подписали.