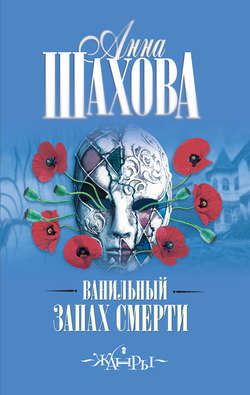Читать книгу Ванильный запах смерти - Анна Шахова - Страница 4
Глава первая
Подарок судьбы
ОглавлениеЛето перевалило на вторую половину – время, когда в городе иссохших тополей и палевых газонов жители понуждали себя с трудом дышать, двигаться и мыслить. Сонная одурь разливалась в сверкающем пространстве: пафос света и пекла, как любой затянувшийся праздник, превратился в утомительную горячку с похмельным, сухим послевкусием. Ни островки запыленных парков, ни раскаленные фонтанчики, ни климат-контроли лимузинов, ни кондиционеры, роняющие бессильные слезы на отмостки домов, не спасали от вязкого жара. Ртуть, втиснутая в стеклянные трубки термометров подскочившим кровяным столбом, вопила: тридцать три градуса в тени! Это в средней-то полосе! В Москве!.. И даже лазуритовые ночи не сулили долгожданной передышки: распахнутые в ночь створки окон замирали молящими, но отвергнутыми руками. Спасаться приходилось бегством: к морю – с его бризом и влагой или в гущу леса – в хвойный сумрак.
Новенький мини-отель «Под ивой» расположился в подбрюшье такого леса. Замечательным местоположение сего заведения делала и близость Москвы-реки: прежний хозяин позаботился об огороженном, крохотном, но личном кусочке пляжа. Нынешние владельцы – молодая супружеская чета – не могли привыкнуть к свалившемуся на них счастью. Дело в том, что трехэтажный бревенчатый дом с двенадцатью спальнями, гостиной с камином, добротной кухней и террасой, увитой актинидией, достался скромным московским служащим чудесным образом. В марте раздался телефонный звонок.
– Могу я услышать Василия Ивановича Говоруна или Дарью Александровну Орлик? – Вкрадчивый баритон сочился нардовым маслом: бесценным и благодатным.
– Да, я у телефона, – напряглась Даша.
– С вами говорит доверенный Марка Ивановича Говоруна – Роман Романович Костянский. Вы, быть может, слышали, что сводный брат вашего мужа… скончался. – Масло приправилось уместной горчинкой. – И он оставил вашему супругу небольшую часть своего бизнеса. Мини-отель в Подмосковье. Прелестное место. Прелестное… Бизнес молодой, едва налаженный, но к нему вам причитается некоторая сумма, которая позволит раскрутить проект.
Неожиданно голос говорящего поскучнел:
– Если, конечно, вы не захотите отель продать… Желающих на сей лакомый кусок полно, уверяю вас…
Даша чуть не вскрикнула:
«Да какой бизнес?! Мы получку распределить на месяц не в состоянии…»
Но благоразумно промолчала, представив ошеломленное, сияющее лицо своего мужа при таком фантастическом известии.
– А почему э-э… Марк Иванович оставил Василию бизнес? Они ведь даже не знакомы.
– Вот это и мучило Марка Ивановича последние годы! Матушка его не хотела соединения братьев. Что, некоторым образом, жестоко. Несправедливо. Согласны?
– Д-да… – Даша не припоминала, чтобы Василий сокрушался об отсутствии в своей жизни какого бы то ни было брата. Он привык быть первым, главным и единственным.
– Что ж, Дарья Александровна, давайте встречаться. – В голосе собеседника зазвучали торжественные нотки.
И достославная встреча, после которой супруги стали обладателями райского уголка Подмосковья, состоялась. До этого момента они знали о Васином брате лишь то, что он родился за тридцать лет до младшего Говоруна и в начале девяностых эмигрировал за границу. Но, оказывается, Марк Иванович давно вернулся в Россию и наладил серьезный гостиничный бизнес. Мини-отель «Под ивой» был сущей безделицей – всего лишь милым капризом бизнесмена. Поначалу он предназначался для летнего проживания самого предпринимателя, но супруга его не жаловала родные просторы, поэтому небольшой дом расширили, снабдили всем необходимым для отеля, и в прошлом году он впервые принял постояльцев – в основном друзей коммерсанта. А спустя полгода Марк Иванович умер, успев оставить подробные распоряжения относительно своего имущества. Оказалось, что он-то всегда следил за судьбой сводного брата…
Юная Марья Петровна, прелестница из Твери, познакомилась с будущим мужем – решительным, порывистым Иваном Ивановичем Говоруном – около ГУМа. Экскурсия в столицу заканчивалась, и, провожая новую знакомую в родной город, немолодой, но импозантный Иван Иванович предложил синеглазке с осиной талией руку и сердце, запрыгивая за ней в вагон. Из вагона его выпроводили – но не раньше, чем он услышал растерянное «Да».
Говорун женился на Васиной матери в возрасте пятидесяти шести лет. А через десять – почил, оставив молодую супругу-машинистку с восьмилетним сыном в коммунальной квартире. От первой своей жены Иван Иваныч ушел, оставив ей кооперативную квартиру, с одним дерматиновым чемоданом: две сорочки да три пары белья. Похоронив мужа, Марья Петровна стучала на своей машинке, а позже – на компьютере до артрозных судорог в пальцах, но вывела Васю в люди! Он закончил престижный технический вуз, начал работать инженером на огромном предприятии, которое реанимировали после упадочных девяностых, женился. И все бы могло считаться более-менее благополучным в его жизни, если бы… не телепрограмма «Ищу вторую половину». Около года назад, ужиная покупными пельменями, из которых жена Даша умудрялась варганить супчик, сдобренный специями, он поперхнулся, услышав фразу безапелляционной ведущей:
– И что же, молодой человек, кроме оклада в семьдесят пять тысяч у вас никаких заработков больше нет? А на что же вы семью собираетесь содержать?
Две другие тетки-соведущие согласно закивали, будто подкидывая дровишек в печку, на которой румянился и, кажется, уже пускал пар потенциальный жених.
Вася стукнул жирной ложкой по столу, оставив на белой салфеточке, которую опрометчиво постелила сегодня жена, жирное розовое пятно.
– Вот интересно, разбил сейчас дядя Витя из Твери телевизор или пожалел ублюдочный экран? У него оклад семнадцать восемьсот плюс тринадцатая! Для кого эти передачи делаются, Даш?! Для Сергея Зверева с Михаилом Прохоровым?
– Ну, эти-то навряд ли ищут вторую половину, – буркнула Даша, убирая со стола пустую тарелку.
– А какая?! Какая зарплата сейчас в России может считаться нормальной? Вот чтобы семью кормить и детей заводить? Хотя бы двоих? – Вася был очень темпераментен. В отца. И говорлив. Видно, в их роду испокон веков оберегали корневую черту, отразившуюся в фамилии.
– Васюнь, я не знаю… Нам хватает, и ладно.
Даша выключила телевизор и стала организовывать чайный стол.
– А что ты меня жалеешь?! Посмотри на свои джинсы! Третий год не снимаешь. Та-ак… – Вася оттолкнулся от стола и начал покачиваться на стуле, взнуздывая его на две ножки (чего терпеть не могла Даша, но смиренно терпела). – Машины нет! Квартира твоей бабки… Счета в банке нет! И зарплата у меня со всеми надбавками… ты сама знаешь какая. – Вася поочередно выбрасывал пальцы правой руки, будто вел отсчет до пуска ядерной боеголовки.
– Обычная, Вась. Скоро тебя сделают завотделом, и будет во-он сколько!
– А сколько, Даш, будет? Пятьдесят?! – Вася встал, отшвырнув стул, и завертелся на месте: маленькая кухонька не давала возможности маневрировать. – Да мы никогда в Испанию не слетаем! Хоть трижды меня завотделом сделают. А если кто-то из нас заболеет? Раком? А?! На что в Германии лечиться-то будем? Я уж не говорю о тратах на ребенка. Он ведь тоже может в любой момент… выскочить. Ребенок-то… – Вася дернул опасливо рукой, будто потенциальный ребенок стоял в одном ряду с грабителями, выскакивающими из подворотни.
Даша выложила на тарелочку несколько кусков лимонного пирога, который опасалась подавать целиком – Вася не замечал, как съедал все до крошки.
– Васюнь, ну что за фантазии? При чем тут лечение в Германии, отдых в Испании. На отдых, кстати, можно мою зарплату откладывать.
– Ага! До Второго пришествия мы твою мульти-пультишную зарплату будем откладывать.
Даша рисовала мультфильмы. Благо в последние годы анимация в России возродилась, и теперь Даше находилась работа не только по рисовке носов и бровей. Она даже разработала целый образ героя второго плана – строптивого петуха.
– Ну почему, – приуныла жена. – За год вполне можно скопить.
Муж с досадой махнул рукой и придвинул стул. Брякнувшись на него, он схватил кусок пирога, который стал молниеносно исчезать в скорбно вращающемся Васином рту.
Видно, именно тогда в голове Говоруна и засела эта навязчивая идея – заняться «как все люди бизнесом». Раньше она посещала инженера лишь в виде отвлеченной, безжизненной теории. Отныне он всерьез вознамерился претворить ее в жизнь.
– Димка возит из Китая пластмассу. Смотри! – кричал он жене, заставляя ее усаживаться напротив и наблюдать за движением ручки по листу. – Вот столько он платит таможне. Столько – закупка. Это – транспорт. Это – налоговая хрень… А вот это цена! Конечная. Ты видишь?! – взвизгивая, он тыкал ручкой в цифры. – Триста процентов навар! Я смотрел каталоги – к лету можно по-настоящему подняться на продаже пластиковой мебели!
Через пару недель мебель сменяли канцтовары. Потом – прожекты о кредите на собственное производство древесины. Далее – кожа, лицензия на золото, полиграфические услуги, сувениры…
Вася чах, не спал ночами, высчитывал прибыли и риски, висел на телефоне, бегал на какие-то «серьезные встречи», опустошив материну пенсионную заначку, дабы приодеться и обзавестись атрибутами «делового человека» – навороченный телефон, портфель, ручка, пальто. На часах закончились материны «гробовые», и Вася приуныл. Портфель пылился в прихожей, ручка сохла внутри портфеля, а бизнес – паскуда! – и не думал материализовываться.
Говорун чуть не вылетел с работы за прогулы и попал с язвой в больницу. Российскую. В которой его отличным образом подняли на ноги.
Даша убрала портфель на антресоли, а пальто в шкаф с лавандовыми отдушками против моли: благо наступала зима и супруги перешли на китайские пуховики.
А в марте раздался звонок Романа Романовича Костянского.
– Ну, давай уже, не стесняйся, Лёва, давай свой шедеврик. – Василий вырвал листок из рук смущенно поникшего Льва Гулькина.
Хозяин и подчиненный являли собой разительный контраст. Молодой Говорун был курнос, статен, светловолос (правда, в последнее время сказалась наследственность – Вася начал лысеть с макушки).
Пятидесятипятилетний Лев Гулькин – мастер на все руки, живший неподалеку от отеля, еще в прошлом году подрядился служить Говорунам, занимаясь всем понемногу: электрикой, доставкой продуктов, отделкой бани, – выглядел со своим крючковатым носом и копной черных артистических кудрей человеком творческим. Что ж, таким он и родился: художником. Если бы не фатальное невезение. До тридцати лет Гулькин ежегодно поступал на актерский, пока не угомонился в районном театре самодеятельности. Кроме того, он виртуозно владел четырьмя аккордами на шестиструнной гитаре, писал стихи и прозу, которой забрасывал издательства, а также разводил цесарок (птицы периодически дохли сплошняком, но Лева с упорством истинного заводчика покупал новое поголовье). Услышав, как хозяева обсуждают наполнение сайта, который становился экстренно необходим для успешного развития бизнеса, Лева всю ночь писал рекламный текст главной страницы. Он, кстати, рассчитывал, что Василий Иванович оценит и его фотографический талант, разместив Левины фото отеля и местных красот в Интернете.
Василий пробежал глазами цветистый текст, нахмурился и решительно сел в плетеное кресло: вчитываться. В этот момент на террасе появилась одна из отдыхающих – Зульфия Абашева, представлявшаяся всем без исключения как Зуля. Несмотря на взятый недавно сорокалетний рубеж, выглядела Зуля сногсшибательно: высокая, гибкая, с ярким хищным лицом. Абашева принадлежала к редкой породе людей, за которыми хочется наблюдать. Киноактеры этого разряда могут не читать монологов Настасьи Филипповны или Ричарда Третьего – им достаточно отрешенно смотреть в пространство, касаться рукой лба, класть ногу на ногу, дежурно улыбаться – за ними будут следить с неослабевающим вниманием. Возможно, это и есть проявление истинной харизмы?
Харизматичная Зуля явилась с пляжа в розовом парео с видневшимся под ним купальником из тесемочек.
– Чудесная вода! Никогда бы не подумала, что в Подмосковье можно получать удовольствие от купания. Только течение все портит. Боюсь далеко заплывать.
Осознав, что звук ее чувственного голоса не привлекает внимания, Зуля уселась в кресло, вытянув длинные ноги, на которые с опаской уставился Гулькин. Он стоял, ссутулившись, у кресла хозяина.
– Что за роковое послание? – обратилась Зуля к Говоруну.
– Да вот сайт разрабатываем. Текст вроде неплохой, – вздохнул Василий.
– Дайте-ка. – Зуля бесцеремонно выдернула бумагу из Васиных рук.
– Я как-никак профессиональный редактор.
Абашева, несмотря на фривольный вид отдыхающей, находилась на работе. Она приехала с народным артистом России, стареющим плейбоем Глебом Архиповичем Федотовым. В прошлом году он не смог откликнуться на приглашение своего старого знакомого Марка Говоруна, но сейчас актер работал над книгой воспоминаний и решил, что лучшего места для уединения на природе не найти. Убедившись, что сам он до обидного бестолково формулирует мысли на бумаге, Федотов нанял литературного обработчика – Зульфию Абашеву, которая некогда помогала с книгой его коллеге – ныне покойной приме одного из академических театров.
Как правило, Глеб Архипович наговаривал воспоминания на диктофон, но иногда Зуля записывала за ним с лету, по телефону – подчас смешные и грустные случаи вспоминались любимцу публики в непредвиденных обстоятельствах: с похмелья на рассвете, при посещении парикмахера, в самый драматичный момент при просмотре кинофильма. Так, умирающая от пули фашиста героиня советской драмы вдруг навеяла Федотову воспоминания о спасенном им от рогатки коте. Эпизод с милосердным пионером Глебушкой получился очень жалостливым. Правда, узнавая Федотова ближе, Зуля начала подозревать, что не Глебушка, а ОТ Глебушки спасали кота: Федотов терпеть не мог хвостатую живность.
Абашева мгновенно прочла литературный перл Гулькина:
«Каждый из нас старается поймать фортуну за хвост! День и ночь мы слышим лихорадочный топот мириады ног – все спешат, все втянуты в безудержную гонку, все выбиваются из сил, у всех трясутся руки, дрожат коленки, бешено стучит сердце и томится душа – ведь успех, маячащий на горизонте, по-прежнему далёк… А счастье от нас ускользает…
Пожалуйста, остановитесь на минуту, отдышитесь, посмотрите на себя, вглядитесь в тех суматошных людей, которые, суетясь, спотыкаясь и падая, проносятся мимо Вас по большой дороге жизни.
Так, может быть, счастье – это задумчивое личико, нежная ручка, подпирающая подбородок, пара нежных, затуманенных слезами глаз, обращённых в прошлое, смутно темнеющих в ночи тенистой аллеи Времени?
Вопрос только, где это прошлое, где эта тенистая аллея Времени? Да, всё правильно! Запоминайте адрес:…Именно здесь, стоя в тиши под мерцающим куполом неба, Вы поймёте, что человек достоин большего, чем дает ему его жизнь».
Зуля помахала листком:
– И кто создал сей говносиропный опус? «Трясутся руки», «томится душа», «затуманенные глаза, обращенные в прошлое», «аллея времени»… Жуть с рогами! Если бы я узнала, что отелем заправляют… чудаки с претензией на творческий поиск, ни за что не поехала бы.
– Ну, а что бы написали вы? – выпалил бордовый от смущения Вася.
Зуля погладила накладным синим ногтем пухлую нижнюю губку – излюбленный ее жест. После чего непререкаемо ткнула перстом в бумажку.
– Я бы вместо невразумительного бреда про купол неба указала на отличный спуск к реке и рыбалку, наличие настольного тенниса, бильярда и русской бани. Вместо аллеи посулила прогулку по девственному лесу. И главное – упирала на тишину и малолюдность. Десяток постояльцев – это вам не восьмиэтажный отель с дискотекой. Ну, шеф-повара своего легендарного приплетите. И баста! Свою целевую аудиторию вы уже схватили. И еще. «Топот мириады ног» – это перебор даже для местного графомана.
Зульфия царственно скривилась – даже улыбку на этих инфузорий ей тратить не хотелось, и, поднявшись, прошествовала в дом.
– Василий Иваныч! Так я и хотел после этого вступления! После затравки, так сказать, и обрисовать красоты поконкретнее, – залепетал Лева, всем видом своим символизируя фразу о «художнике, которого обидеть может каждый!».
Вася, ставший из бордового лиловым, ткнул в Гулькина листком с «затравкой»:
– Поконкретнее, пожалуйста.
И в крайнем раздражении сбежал с террасы. Василий видел, что жена вздумала перед самым «файв-о-клоком» отправиться в лес. С подозрительно большой сумкой. Уж не рисовать ли? Вопиющий наплевизм!
Новые хозяева учредили в отеле «семейное» чаепитие в семнадцать часов на террасе. Инициатором выступил креативный Василий. Он сам растапливал шишками ведерный самовар, купленный по дешевке у бабки на трассе.
Даша, конечно, покорилась: надевала белоснежную наколку, крахмальный фартучек и женственное платье стиля «нью-лук»: утянутая талия, пышная юбка, легкий верх. Стройной Даше платье шло. Но столь призывный, обтягивающий силуэт был непривычен для двадцатишестилетней женщины, предпочитавшей джинсы и ветровки. И эта роль официантки… Нет, конечно, она выглядела гостеприимной рачительной хозяйкой, и ревность за новое дело с каждым днем разгоралась, даже появлялся азарт, сноровка. Но сколько же это отнимало сил, нервов, времени! Даша рабски уставала. И ночами, лежа без сна, увещевала себя тем, что люди де́ла и должны уставать, чтобы добиться результата.
– Даша, это наша работа, жизнь! – тряс Василий руками перед женой, когда она готовилась к выходу к гостям, как на эшафот. – Все изменилось – ты должна стать бизнес-леди. Понимаешь? Как это здорово! Самостоятельность, новые знакомства, прибыли. Эх, Дашка! – Василий в экстазе кидался на кровать, закидывал мечтательно руки за голову, и жест этот навевал Даше воспоминания о советских фильмах, где положительные герои сплошь романтики и энтузиасты. – Как представлю, что это может быть началом большого пути, – голова кругом! Сеть отелей в Подмосковье, на Кавказе… Для начала. Потом – на разведку в Европу.
– Хорошо бы окупить этот сезон, – вздыхала Даша, которую Говорун заставлял вести ежедневную бухгалтерию. Траты нарастали, как снежный ком, а финансовая «подпитка», оставленная покойным благодетелем, стремительно таяла. Цены же за проживание супруги твердо решили держать пока на демократичном уровне – необходимо было завлекать клиентуру. А завлекалась она со скрипом: два-три номера все время пустовали.
Говорун решил пробежаться к лесу, на поляну с островками васильков, которые покоя, видите ли, не давали его супруге «ван-гоговским оттенком». С ума сойти! Василий шел, широко размахивая руками и щурясь от палящего солнца. Жару он терпеть не мог, и эта горячечная, истеричная погоня за несознательной женой, будто за нашкодившей кошкой, бесила его и отнимала остатки сил, которых и так не хватало на чертову пропасть гостиничных дел. Говорун по привычке бормотал себе под нос:
– Какой вменяемый человек променяет серьезное, настоящее дело, приносящее доход, на рисование за бесценок тысяч примитивных картинок? Лягушки, грибочки… Тьфу!! Нет, в свободное время для души ковыряйся хоть со всеми оттенками мира! А по уму, для дела на курсы бухгалтеров беги, чтобы наконец всерьез помогать мужу в финансовых вопросах. Нет! Она снова с холстом на пленэр шмыгнуть норовит.
Василий дернул травинку – хотел сунуть сладкий стебель в рот, но лишь полоснул острым листом по пальцу, обрезался и в бешенстве дернул рукой.
Все семейство Орлик было не от мира сего, что безумно раздражало Василия. Тесть преподавал черчение и рисование в школе. Это после архитектурного института! Ему даже в голову не приходило устроиться в перестроечные годы в дизайнерскую или строительную контору. «Трусость! Трусость и инертность!» – выносил свой вердикт Говорун. Даша лишь пожимала плечом: «Свобода и покой ему дороже».
Теща тоже занималась «любимым делом» – шила кукол. «До пятидесяти лет все наиграться в пупсиков и фей не может! Нет чтобы свое экскурсионное бюро организовать, будучи профессиональным гидом со знанием немецкого! Так нет – для нее важнее покой, творчество, призвание. Какие-то картонные слова из зачитанной книжки для оправдания бесхребетной, рафинированной жизни!» – вел бесконечный внутренний спор с женой Говорун.
Порой казалось, что взбешенный Василий готов разорвать всяческие отношения с безалаберной Дашей. Но это был традиционный ритуал выпускания пара. Таким уж уродился Говорун: классическим делателем слонов из мух, неисправимым холериком. Близкие с его словесными извержениями смирились. «Ну, характер… Что ж теперь? Зато он Дашу любит», – вздыхали старшие Орлики.
Василий полюбил Дарью с первого взгляда. Она стояла на пыльной Ордынке, перегородив мольбертом узкий тротуар, и, не замечая натыкавшихся на нее пешеходов, рисовала храм «Всех скорбящих Радость». Гладкие темные волосы до плеч, узкий нос, небольшие карие глаза – задумчивые, сосредоточенные на своем, всегда сосредоточенные на своем! Мягкая линия губ, длинные руки. И вся она – в простеньких джинсах и футболке – устремленная ввысь, тонкая, без тени вычурности и позерства. Художница водила грифелем, будто совершала колдовские пассы: казалось, подвижные пальцы летали над листом, и на бумаге волшебным образом проступало изображение. Ощущение волшебства и загадки оставалось рядом с Дашей всегда. Иногда Говорун просыпался от безотчетного страха, что жена исчезла. Как эльф, подхваченный лунным светом из окна.
Дарья тоже полюбила Василия сразу, безоговорочно и глубоко. Так бывает: один взгляд – и ты принимаешь человека целиком. С его манерой щурить глаза, вечно что-то доказывать, с ужасной привычкой барабанить пальцами по столу и качаться на стуле, с его смехом взахлеб, нежностью и фантазиями. «Ты МОЙ родной человек», – говорила Даша мужу, когда он с извечной мнительностью спрашивал, что она могла найти в «задрипанном инженере». Они были бесконечно разными. И бесконечно близкими: сужеными, назначенными друг другу судьбой.
Подбежав к жене, поглощенной смешением красок на палитре, Василий уже истратил запас суточного гнева. Посапывая, он уткнулся подбородком в Дашино плечо:
– Ну, получается?
– Это может примирить со всем, что происходит вокруг, – вздохнула Даша и, сдвинув широкополую панаму на затылок, опустилась на траву. Муж сел рядом и обнял ее.
Покой и радостная, жизнеутверждающая красота сине-зеленого пространства – васильковой поляны, клином разрезавшей темную громаду леса, вдруг отозвалась в душе Говоруна воспоминанием о белом солнце из детства. Они с мамой ездили летом в деревню, и путь до бабкиного дома шел через поле, изнемогавшее от жара, залитое светом. Упругие колосья выступали сомкнутыми рядами стражей: Васе казалось, что под такой защитой все в его маленькой жизни идет правильным, надежным путем. «Всё путём!» – встречал их пьяненький дед и, наклонившись к внуку, колол его щёку репьём своей, небритой…
– Василий на васильковой поляне. Просто символ какой-то. Знак. – Даша поудобнее устроилась в мужниных руках. – Тебе нравится? – она подбородком показала на картину, где из сонма хаотичных точек проступала гладь травы и цветов.
– Да не то слово! Ван Гогу и не снилось, – хмыкнул Василий и поднялся вслед за женой, которая, посмотрев на часы, вспорхнула и начала торопливо собирать художнический скарб.
Жара не располагала даже здесь, «Под ивой», к активным передвижениям в разгар дня – все предпочитали отдавать дань Морфею. После четырех начиналось легкое оживление: кто-то выходил в холл купить газировки, кто-то распахивал окно, выключая кондиционер и пуская живой воздух, кто-то курил на балкончике, любуясь серебряной листвой огромной ивы, растущей с северной стороны дома. Потом раздавались смешки, громкие голоса, топот на лестнице – и к пяти гости сходились, нарядные и румяные после сна, на террасе.
Сегодня первой свое место за столом заняла дальняя родственница Даши – Лика Травина: толстенькая улыбчивая женщина без возраста, преданная «нарядной» одежде с люрексом и детскому крему как универсальному косметическому средству. Тонкие соломенные волосы она стригла под «гарсон», который немилосердно подчеркивал ее круглые щеки. Даша пообещала ей проживание за полцены и теперь с ужасом считала дни до отъезда Лики, когда откроется правда: с гостями рассчитывался ТОЛЬКО муж. Лика принарядилась в кумачовую футболку с блестящей пандой на груди. Зуля, выйдя на террасу и уставившись на объемный бюст Травиной, аж поперхнулась, приветствуя ее.
– Вы, Зуленька, как всегда, неотразимы! – расплылась в бесхитростной улыбке Лика. Зуля вымучила крокодилий оскал и уселась, сверкая загорелыми плечами. Она была в донельзя открытом сарафанчике лососевого цвета. Копну каштановых кудрей Абашева собрала высоко на затылке. Расположившийся напротив редакторши Степан Никитич Бултыхов глаз не мог оторвать от ее лебединой шеи.
Описать внешность самого Степана Никитича представлялось большой проблемой. Он был классически невзрачен: ни толст ни тонок, ни стар ни молод, русый, с простоватым лицом и серыми глазами, а довершали невзрачный образ бесформенные усики. Приехал по рекомендации то ли соседа, то ли приятеля покойного хозяина. Он так мало и невразумительно говорил, что Василий отказался от идеи завести дружески-деловые связи с этим бирюком. Приехал сам – и ладно. Чем занимался Бултыхов, также оставалось загадкой. В течение недели, что Степан Никитич проживал в отеле, он с рассветом уходил на рыбалку – незначительный улов торжественно вручал местному приблудному коту, а после сидел с газетами на террасе, потягивая мятный настой. К спорту, прогулкам и купанию Бултыхов не проявлял ни малейшего интереса.
– Дашенька, мне бы, как всегда, кофейку, – голосом капризного ребенка обратилась Абашева к хозяйке, расставляющей вазочки с печеньем и кексами на столе.
– Хотя бы раз попробуйте наши травяные чаи, Зуленька, – сказал Василий, водружая с превеликой осторожностью устрашающий самовар на стол.
Зуля в ответ скривилась:
– Все они для меня на один вкус: крапива крапивой. Нет-нет, и не пытайтесь сделать из кофеманки чаеманку. Это также бессмысленно, как делать из кошатника собачника.
– А вы сами, конечно же, кошатница, – пробурчал Бултыхов в усы.
И страшно смутился, натолкнувшись на колючий взгляд.
– Отчего же? Собачница. У меня французский бульдог Кузя. Жуткий храпун и пердун.
– Какая прелесть! – хлопнула пухлыми ладошками Лика. – На кого же вы его оставили?
Зуля оставила вопрос Травиной без ответа, беря из рук Даши свой «американо». На приготовление кофе, как и вообще на кухню в этом смехотворном обиталище, Абашева пожаловаться не могла. И где только эти супруги-дилетанты раздобыли такого повара?
– Лёвочка Зиновьевич! Идите к нам! – крикнула Лика, взмахнув рукой.
От входа, мимо теннисного стола, к дому шел Гулькин с тюками в руках.
Даша сделала мужу «страшные» глаза. Вася категорически запрещал прислуге болтаться около гостей. Хозяйка умолила сделать для Гулькина исключение, когда речь шла о Лике. Тут явно вырисовывалось что-то романтическое с явной перспективой на дальнейшие отношения.
– Вечер добрый, господа! – почтительно поприветствовал всех, склонив голову, Гулькин и, послав ослепительную улыбку Лике, прошествовал к черному ходу, где его уже встречала хмурая, но исполнительная горничная Ида: она с утра ждала чистое белье из прачечной. Только творческий Лева в заботах о создании креативного сайта совсем позабыл о простынях и полотенцах.
Надсадный баритон заставил постояльцев вздрогнуть. Герой-любовник Федотов не мог эффектно не обставить свой выход к собравшимся. На этот раз он прибегнул к арии Германа из «Пиковой дамы». Народный артист вплыл на террасу в сопровождении пожилой отдыхающей – ярко накрашенной, очень продуманно одетой и поддерживающей безупречный маникюр Адели Вениаминовны Пролетарской. Главной заботой старушки, пекущейся о внешних приличиях и сохранении себя в форме, была маскировка устрашающего второго подбородка. Сегодня Адель Вениаминовна накрутила на шею лиловый шелковый платочек, в тон юбке и аметистовым серьгам.
– «Что наша жизнь? Игра!» – Глеб Архипович обрушил последнее слово с такой силой на голову семенящей рядом с ним Адели Вениаминовны, что та споткнулась, но, подыгрывая милому ребячеству актер актерыча, очаровательно рассмеялась. Спускаясь по лестнице, эти двое успели поспорить.
– Нет-нет, Адель Константиновна, тут вы меня не убедите никогда. Любой, я подчеркиваю, любой человек играет роль. Находится в образе. Причем в каждую конкретную минуту – в определенном, заданном предлагаемыми обстоятельствами.
Сухощавый, высокий и все еще замечательно красивый Глеб Архипович галантно выдвинул стул перед Пролетарской.
– Благодарю, Глеб Архипович, но вы можете взглянуть на меня и удостовериться в исключении из вашего правила. Я всегда едина. Никогда и ни для кого роли играть не буду. И умудрялась не делать этого даже в цековские времена.
– Ну, не знаю, не знаю. Кстати, исключение ведь подтверждает правило. О, благодарю, Дашенька. – Актер принял из рук хозяйки чашку, пригубил напиток и остался необычайно доволен им. – Что это? Смородиновые нотки… чудесно. И клубника. Определенно клубника!
– Роли-то вы все еще играете, а вот имена персонажей напрочь забываете. Отчество Адели Вениаминовны – Вениаминовна! По буквам повторить? – Зуля затянулась духовитой розовой сигареткой.
Панибратский тон как-то естественно сложился между литераторшей и актером. Глеба Архиповича нагловатость безвестной редакторши лишь веселила. Ему вообще очень нравилась эта «горячая штучка».
– Ах, Зулечка, у нас, актеров, вообще никаких отчеств не существует. Все это незначительно. Правда, Адель Валентиновна?
– У, проказник! Ну, держитесь, – кокетливо погрозила пальчиком в пигментных пятнышках Пролетарская.
– Вы лучше скажите мне – откуда у вас такая фамилия? Псевдоним? – поинтересовался Федотов, прихлебывая чай.
Вдова вздохнула:
– Увы, нет. Родители мужа дали моему Марлену не только соответствующее имя, но и придумали фамилию.
Глеб Архипович расхохотался.
– А вы знаете, что бывают такие непридуманные фамилии, которые похлеще любых придуманных? – оживился вдруг бирюк Бултыхов.
– Вы о себе? – поддела его Зуля.
– Ну, я в сравнение не иду с одним моим сослуживцем. Вот у него фамилия так фамилия. Передистый! Полковник Передистый, представляете?
– Да уж… – погладила пальчиком губку Зульфия, критически рассматривая раскрасневшегося Степана Никитича, которому с трудом давались потуги рассмешить аудиторию.
– Но дело не в полковнике, а в его жене. Она звалась Передистой ровно один год. Больше не выдержала! Потом вернула девичью – Зоб! – Бултыхов тоненько захихикал, а Адель Вениаминовна поджала накрашенные губки, стукнув чашкой о блюдечко, и поправила на шее платочек.
– Свежайшие пирожки! Свежайшие пирожки от нашего дорогого Феликса Николаевича! – разрядила обстановку Даша, неся высоко над головой блюдо с искусительно пахнущей сдобой.
– Плакали мои диеты, – обреченно вздохнула Зуля и первой схватила с блюда слоечку.
– А ну, Зулька, «положь взад»! – хриплый мужской голос раздался от ворот.
Оцепенев, все уставились на наглого мужика – коротко стриженного, вальяжного здоровяка в шортах и темных очках, с дорожной сумкой на плече. Он мог бы стать зримым воплощением понятия «бесцеремонность».
Однако Зуля, бросив пирожок, вскочила и бросилась ему навстречу с воплем:
– Эдичка-а-а!
Она повисла на шее расплывшегося в улыбке знакомого.
– Прошу любить и жаловать – Кудышкин Эдуард. Тележурналист и мой хороший друг. – Зульфия за руку привела на террасу нового гостя.
Эдуард в ответ облапил собственнически Зулю за бедро и поцеловал «хорошего друга» в плечо, отчего редакторша затрепетала. Похоже, в ближайший вечер и ночь народному артисту придется довольствоваться обществом диктофона.
– Милости просим! Разрешите представиться – Василий Говорун. Очень рады приезду в наши благословенные края. Будьте как дома. – Хозяин с чувством тряс вялую руку потенциального отдыхающего.
– Зулечка, вы не предупреждали меня о возможных визитах ваших друзей. Я некоторым образом рассчитывал на ваше участие в моей судьбе нынешним вечером, – ласково, но с нескрываемой ревностью выступил Федотов.
– Ой, да ладно, Глеб Архипович, завтра все нагоню ударным трудом. Целый день буду стучать на ноутбуке. А сегодня пообщаюсь с другом. – Зуля коснулась ладонью щеки тележурналиста. И в этом едва уловимом жесте была и нежность, и еле сдерживаемая страсть.
– Может, чайку с дороги? – предложила робко Даша, которую Эдуард разглядывал поверх очков, не мигая.
– После! – Зуля схватила Кудышкина за руку и потянула в дом. – Ну, мы пока осмотримся тут…
И парочка стремительно исчезла.
«Только бы они не открывали окна», – взмолилась про себя Даша, вспоминая, что Зулина комната обращена к террасе. Да и вообще звукоизоляция в доме оставляла желать лучшего.
– Ну, такое время… – по-философски заметила Пролетарская, стряхивая крошки с пальчиков над блюдечком.
– Бросьте, Адель Серафимовна, ко мне тридцать пять лет назад девчонки в окна на четвертый этаж сочинской гостиницы лазали. Природа! Я за естественность и открытое, нелицемерное выражение чувств, страстей. Это все бесценный опыт. Который лично мне всегда пригождался в профессии. Как и вообще любой опыт. Что давать ему оценку? Ну, было! Было! Препарируй, переплавь. Даже самое низменное, быть может, постыдное. Извлеки урок, в конце концов. Жизнь, дорогие мои, это цепь уроков. И мы все хорошие или плохие ученики. – Даше казалось, что Федотов произносит отрепетированный монолог. Актерствовал он, впрочем, мастерски, вдохновенно.
– И каким образом подобный опыт или урок может пригодиться шестнадцатилетней девчушке? Моя соседка по коммуналке – Машенька, в психушку попала после похода в горы с такими вот Эдуардами. – У воспитательницы детского сада Лики Травиной горело лицо.
– А вот это уж родители должны были регулировать. Пугать и запрещать! Объяснять, в конце концов. Иметь время и силы говорить, наставлять. Я с моим Лешенькой столько разговоров провела. Ежевечерне, с примерами, с разбором ситуаций. Воспитание – не только наука. Тут интуиция и терпение, конечно, нужны, – мяукала Пролетарская.
Кошачья манера произносить слова почему-то страшно раздражала Василия. Он, давший себе слово не вступать в беседы с гостями, если тебя не спрашивают, не удержался и буркнул:
– Подонков и насильников хватало во все времена. Каждого бояться – эдак и с печи нечего слезать. А объяснять надо – кто урод, а кто нормальный. Конечно… – Говорун с силой оторвал самовар от стола и потащил его в дом.
Адель Вениаминовна проводила его сочувственным взглядом и потихоньку обратилась с вопросом к Федотову. Компания распалась – «семейное» чаепитие подошло к концу.
Уязвленный бессердечием и распущенностью Абашевой, Степан Никитич отгородился ото всех газетой, Дарья убирала посуду, Лика прогуливалась по дорожке, поглядывая на черный ход: не покажется ли Лева. Пролетарская с Федотовым завели размеренную беседу об искусстве. И только в комнате на втором этаже «хорошие друзья» безумствовали. Впрочем, Даша могла не опасаться: зная темперамент любовницы, Кудышкин завязал ей на первое время рот полотенцем.
Вечер принес неожиданный «сюрприз», выбивший из колеи бестрепетную, как казалось, Зулю. Эдик вознамерился за ужином расположить к себе народного артиста. В корыстно-профессиональных целях. Тайн и скандальных историй за Федотовым тянулось много. А вот документального фильма, с покаянными слезами и «несвежим бельишком» советского Казановы, не имелось. Кинолог из Мытищ Эдуард Кудышкин, бросив немодных питбулей, десять лет назад стал служить верой и правдой желтой прессе, а затем и телепрограмме «Звездная правда-кривда», выходящей в прайм-тайм на скандальном телеканале. Он и сам сделал вполне звездную карьеру и уже пожинал ее сладкие плоды: «Лексус», членство в элитном яхт-клубе и главное – крохотная квартира, но на Покровке!
– Ды ты просто мерзавец, Кудышкин! – расхохоталась Зуля, когда воркующая парочка покидала террасу: Глеб Архипович решил угостить журналиста в своем номере изысканным вином.
– Зуленька, не беспокойтесь за своего любимца. Верну в целости и сохранности. Беседа с молодым и неглупым представителем древней профессии – большая редкость. Просто подарок судьбы. Уж не лишайте вашего патрона маленькой, краткой радости.
Эдик же не стал тратить слов – он просто щелкнул Зулю по носу и поцеловал в запястье, схватив грубовато любовницу за руку. В ответ на дружеское подмаргивание «мерзавца» Абашева вскочила и, обращаясь к Даше, суетящейся у стола, крикнула:
– Заткните вы эту слезливую Хьюстон!
Бесспорно, непревзойденная Уитни, вызывавшая на чувственный танец, оказалась сегодня ни при чем.
Литераторша надела к ужину темно-синее декольтированное платье из шелка, которое обтекало ее тело, придавая ему трогательную девическую округлость. Бултыхов не мог проглотить ни кусочка обожаемой им баранины – предпочитал пожирать глазами Абашеву, которая, пройдя мимо круглого столика с игравшими в скребл Ликой, Аделью Вениаминовной, Василием и Левой Гулькиным, сбежала с террасы и пошла к воротам. Зуля не обратила никакого внимания на порыв Бултыхова бежать за ней. Она не намеревалась снисходить до неуклюжих знаков внимания какого-то «капитана» – так почему-то Зульфия про себя его называла. И напрасно. Степан Никитич носил звание подполковника.
Народный артист занимал самый большой и комфортабельный номер: с плазменным телевизором на стене, отличным баром и двуспальной кроватью. Гость и хозяин расположились у журнального столика в высоких креслах. Эдик потягивал с хищной, но одновременно угодливой улыбкой коньяк, Федотов предпочитал красное вино. Он встряхивал седыми власами и масляно улыбался гостю, пыхая сигарой. Кудышкин курил цветные Зулины сигаретки.
– А сюрприз, Эдвард, – вот он. – Глеб Архипович достал из ящика комода неказистую коробочку.
– Тра-авка, – захохотал Кудышкин, когда народный артист поддел костлявым пальцем крышку, под которой обнаружились простейшие самокрутки. – Да вы, похоже, привыкли отрываться по полной, Глеб Архипыч!
С восторженным недоумением Эдик взял из коробочки сигаретку и поднес ее к носу.
– Как бы на хохот гости не набежали.
– Ну, мы же в разумных пределах похулиганим. – Федотов вдруг резко встал с кресла и, подойдя к Кудышкину, погладил того по голове, тронул шею, проникновенно вглядываясь в глаза.
Телевизионщик перестал улыбаться, встряхнулся, загасил сигарету, а самокрутку вернул в коробочку.
– Не опасаетесь с таким багажом – и в общественных местах, под прицелом испытующих глаз? – заговорил он сухо.
Федотов, поскучнев, вернулся в свое кресло.
– Не вздумайте, меня, мальчик, бояться. Я же не насильник и против природы никогда не иду. А травка… это спонтанный подарок. Здешнего поклонника. Да-да, даже здесь, представляете, нашелся верный и сообразительный человечек. Вообще я к этим изыскам не приучен. Но по натуре – великий экспериментатор и авантюрист. Чего только не приходилось испытывать в жизни! Так почему не попробовать и это? Сколько мне осталось. – Актер прочувствованно сглотнул, дернув острым кадыком.
– А вот это очень интересно. Ваш опыт… Я о программе, Глеб Архипыч. О возможной программе с вашим участием. Вы поймите, что для меня скандал – пустое. Главное – суть человека, его подлинное нутро. Я даю своим героям, которых искренне уважаю, высказаться сполна. На те темы, что волнуют их. – Журналист пытался быть по-настоящему искренним, задушевно-серьезным.
Как правило, контраст, на котором он работал – этакий внешне нахальный пофигист с глубокой байронической душой, – срабатывал безотказно. Сколько «кривды» таким макаром вытянул Кудышкин из несчастных артистов – представить страшно. Но сегодня он лишь наталкивался на лукавый взгляд ушлого развратника.
– Да-да-да… Это после, после, Эдик. – Глеб Архипович поддел отточенным ногтем сигаретку, стал разминать ее и с вожделением нюхать. – Расслабимся, мон ами. Вам еще с вампиршей татарского происхождения кувыркаться. А это, я так чувствую, очень много сил отнимает. Да вы мне все после и расскажете. Правда? Я люблю, когда молодежь со мной откровенна. Будто соки свежие в тело вливаются. Ну, и многому можно у вас научиться. Бесспорно. Очевидно. Так что не только вы исповеди любите слушать, я их тоже в своем роде коллекционирую. – Артист ослепительно улыбнулся. Кудышкин не мог не оценить знаменитую, подкупающую улыбку мастера отрицательного обаяния.
Федотов решительно протянул самокрутку Кудышкину:
– Учите, сэнсэй.
– Да невелика наука.
Эдик начал раскуривать косячок.
Через пятнадцать минут новоявленные друзья позабыли о лукавых беседах с прицелом на извлечение выгоды. Эдик, приняв нелепую позу – ноги на подголовнике, голова на сиденье, расслабленно подхихикивал, наблюдая за перевернутой в его глазах фигурой Федотова, который заходился в конвульсивном танце. Народный артист скинул рубаху и выполнял странные женственные телодвижения: то поводил плечами и грудью, поросшими редким седым пухом, то тряс тощими бедрами, то, встав на мыски, будто пытался взлететь, размахивая длинными руками, которые уже потеряли упругость и болтали брылями обвислой кожи.
– Жах! Жах-хх! – заклинал пространство актер. И вдруг он стал задыхаться, вытаращив глаза. Схватившись за горло, налился синюшным румянцем, захрипел, повалился на колени с вылезающими из орбит глазами: считаные секунды – и тело Федотова забила судорога, а из мертвеющего рта полезла пена.
– Г-глепп Архиы… – Фаза возбуждения стремительно сменялась тяжелой оторопью и у Кудышкина. Ему потребовалось какое-то время, чтобы перевернуться в кресле, вдохнуть полной грудью и встать.
«Чертовщина… Что-то подмешано туда…» – это была последняя мысль Эдика, после которой журналист, почти ничего не видя, с заходящимся сердцем, успел рухнуть у окна, дернув створку и крикнув дикое:
– Бля-а-а-рва!..
Под окном, в сгущавшихся сумерках, загороженные кроной раскидистой ивы, стояли Лева и Лика, целомудренно держась за руки. Лева прервал на полуслове монолог о значении в его жизни поэзии Северянина, с испугом глянув на стукнувшее федотовское окно.
– Вот звезды, – укоризненно покачал он головой. – Интеллигентные, уважаемые люди, а напиваются, как недоросли на дискотеке.
– Послушайте, Лева, нужно подняться посмотреть. Мне кажется, что у Глеба Архиповича не все благополучно.
Лика решительно выдернула свою руку из ладоней Гулькина.
– Я должна сказать Дарье. Вдруг ему плохо?
– Но ведь с ним человек! Этот журналист.
– Какой это человек, – отмахнулась Травина и покатилась, бойко перебирая кругленькими ножками, к террасе.
Через пять минут у двери в комнату артиста, из-за которой не раздавалось ни звука, в растерянности стояли четверо: Лева, Василий и, вторым рядом, Лика с Дашей.
– Глеб Архипыч! – очередной раз крикнул Василий, тщетно пытаясь вставить запасной ключ в замок: ключ, вставленный с обратной стороны, не давал возможности открыть дверь. Вася, обреченно помотав головой, выразительно посмотрел на Леву.
– Давай ломать.
Гулькин прошептал, наклонившись к уху хозяина:
– Женщинам бы отойти. Мало ли…
Василий категорично кивнул дамам.
– Никуда я не уйду, – глухо, но бесповоротно изрекла Даша. – Может понадобиться помощь.
– Но не ваша же! – отмахнулся от нее муж.
– Да что мы – пьяных мужчин в неглиже не видали, что ли? – возмутилась Лика. – Давайте скорее дверь выбивать. Трупов еще тут не хватало. – Травина оказалась на редкость рассудительной и смелой.
Василий с болью поморщился. «Такую дверь уродовать…» Впрочем, преграда оказалась не так уж неприступна. Лева вышиб ее с первого удара.
Зрелище предстало страшное. Полуголый Федотов лежал на полу посреди комнаты с искаженным судорогой синим лицом и закатившимися глазами. Эдик – ничком у окна. Даша вскрикнула и зажала рот рукой. Лева подбежал к Кудышкину, перевернул его на спину: журналист был без сознания, но выглядел вполне живым и даже румяным. Василий так и не смог переступить порог номера – побелевший, с раскрытым ртом, он не отрывал взгляда от страшного лица Федотова.
Жена дернула его за руку:
– Я вызываю «скорую» и полицию.
Говорун посмотрел на нее безумным взглядом, будто Даша собралась вызвать духов при помощи спиритизма.
– Он дышит. Пульс слабый, – сказала решительная Лика, опустившись на колени перед Кудышкиным и держа его руку. Она начала делать журналисту массаж сердца, с силой наваливаясь на свои ладошки, сложенные крестом на груди Эдика.
Ей хватило одного взгляда на Глеба Архиповича, чтобы понять: никто и ничто больше не поможет ему в этой жизни «извлекать уроки».
– Да что за мертвая тишина такая?! – Зуля поднималась по лестнице в сопровождении Бултыхова, который все же нагнал ее у речки и неуклюже навязался в сопровождающие.
Увидев смятенную Дашу, которая не могла выговорить ни слова, пробегая мимо них к телефону в холле, Абашева схватила Степана Никитича за локоть. Впрочем, от неуклюжести «капитана» не осталось и следа. Он рванулся к номеру Федотова, подлетел к мертвому артисту, склонился на секунду над телом, приложив пальцы к его шее, и тут же, вскочив, подошел к другому пострадавшему. Бесцеремонно оттолкнув сопящую Лику, пощупал пульс у журналиста, приоткрыл пальцем веко, потом взглянул на стол. Увидев бутылки с напитками и пепельницу с окурками, хищно прыгнул к столу, едва не всунув нос в «бычки». Потом вытащил носовой платок из кармана брюк, жестом бывалого эксперта, обмотав большой и указательный пальцы правой руки, схватил одну полуистлевшую самокрутку. Понюхал и, левой рукой прихватив свободные концы платка, разломил окурок. Начинка столь поразила Степана Никитича, что он отдернул пальцы от сигареты, упавшей рядом с пепельницей.
– Федотов наркоман? – строго спросил он у Зули, замершей в нелепой позе с полусогнутыми ногами, вытянутыми вперед руками и раскрытым ртом.
– Что? – обескураженно отозвалась Абашева, посмотрев на Бултыхова расширенными, непонимающими глазами, и кинулась к Кудышкину. – Эдичка! Эдюля мой!! – завопила она, падая на колени перед неподвижным любовником.
– Лева, немедленно «скорую»! Отравление наркотиками. Скорее всего, опиатной группы. Быстро, Лева… – четко и сурово обратился Бултыхов к Гулькину, игнорируя топчущегося у двери Говоруна, который, видимо, представлялся ему бесполезным в этой трагической ситуации.
Лева кинулся из комнаты, а Степан Никитич, бестрепетно отдернув Зулю от груди Эдика, начал с профессиональной сноровкой делать сопернику искусственное дыхание.
– Вы… кто? – просипела Абашева.
– Я врач. Военный, – ответил Бултыхов и вновь приник, набрав побольше воздуха в легкие, ко рту Кудышкина.
– Не охранник на проходной? – ошеломленно спросила Зуля и, поднявшись с колен, начала тереть глаза, в которые попала потекшая тушь с ресниц. Тушь размазалась до скул, и Абашева стала похожа на зловещий персонаж из фильмов про нечистую силу.
– Зуленька, возьмите себя в руки. «Скорая» приедет быстро, – тронула ее за руку Травина. – Пойдемте. Умоетесь. Мы здесь больше ничем помочь не можем.
«Скорая» и в самом деле приехала молниеносно. Врачи констатировали смерть Глеба Архиповича Федотова и коматозное состояние у Эдуарда Владимировича Кудышкина, предположительно от отравления наркотическими веществами. После внутривенного укола сердечный ритм и давление журналиста стали приходить в норму, и равнодушный врач со «скорой» ободряюще кивнул уже умытой бледной Зуле, заверив, что с «ее мужем обойдется».
Порыв ехать в больницу за возлюбленным категорично пресек следователь, молодой, развязный парень в помятой и мокрой от пота рубахе. У него была стриженная ежиком вертлявая голова, блуждающий взгляд и вид человека, донельзя изможденного жарой и происшествиями наподобие сегодняшнего, в отеле «Под ивой». Звали следователя Геннадием Борисовичем Рожкиным.
– Куда же это вы?.. Как же я вас?.. Да что же вы думаете себе? – ворчливо тараторил он, наступая на дрожащую Абашеву. – Дело серьезное, с тяжелыми подозрениями. Пока всех здесь не допрошу! – Рожкин рассек воздух рукой, будто невидимой шашкой рубанул. Мол, за непослушание – и «голова с плеч». – А как вы думали?
Рожкин ненавидел частных собственников, зажравшихся артистов, развратных гламурных девиц, никчемных молодящихся старух и всех, всех остальных, кто находился тут, но кому он еще не дал исчерпывающей и краткой характеристики.
Бултыхов попытался обратить внимание следователя на необычный состав самокруток, курение которых, видимо, и привело к трагическим последствиям. Но Геннадий Борисович пригвоздил врача взглядом к стулу (дело происходило в холле, где собрались постояльцы, работники отеля и его хозяева).
– Экспертиза – это я вам скажу… дело особое. Дилетантский подход, это же ни с какого боку! – Рожкин закрутил головой с удвоенной силой, оглядывая растерянных свидетелей.
К известным нам персонажам присоединились еще двое: горничная и повар – племянница и дядька. Горничная, по совместительству кухарка – тридцатилетняя Ида Щипкова – была широкой, высокой и крепкой, как опора монумента «Рабочий и колхозница». Она отличалась угрюмостью и неимоверной работоспособностью. Сила ее молодых рук была устрашающа: Ида могла поднимать полные ведра над головой.
Рядом с ней сидел добродушный пышнотелый усач. Он являл собой до смешного типичный образчик щедрого и мастеровитого повара. Лучшего персонажа для телерекламы майонеза или пельменей, чем Феликс Николаевич Самохин, было не сыскать! Казалось, тягостную обстановку, установившуюся в холле, просветляли его густые пшеничные усы, под которыми угадывалась неизменная улыбка, а глаза с лукавым прищуром, несмотря ни на что, не утратили своей природной веселости. Впрочем, впечатление это могло оказаться и ложным. К допросу шеф-повар и любимец публики отнесся предельно серьезно. Его первого допрашивал Рожкин.
– Я уже собирался домой, – веско, густым голосом говорил Самохин. – Напитками и сладостями, которые могут понадобиться гостям, вечером распоряжаются Дашенька с Василием. Я кое-что подготовил к завтрашнему и хотел уже проститься с Идой, мывшей посуду, как услышал крики Адели Вениаминовны и фырчание «скорой».
– Я поторапливала врачей, – встрял мяукающий голосок Пролетарской. Старушка сидела в кресле навытяжку. – На их медлительность и равнодушие просто невозможно было смотреть без содрогания! – Вдова прижала скомканный надушенный платочек к глазам.
Рожкин прервал ее раздраженным жестом. Он намеревался провести допрос быстро. Кто где был в момент происшествия? Что видел и слышал? Лишь два вопроса интересовали дознавателя. Ответы устраивали лаконичные, без никчемных подробностей. Но к Зуле он отнесся с пристрастием:
– Почему вы так уж уверены в том, что ни Федотов, ни ваш приятель… как его… Кудышкин не могли принимать наркотики? Вы вообще сами-то как к травке относитесь? – Следователь с уничижением рассматривал замотанную в шерстяную шаль Абашеву, которую колотило, несмотря на не спадавшую даже к вечеру жару.
– Идите к дьяволу! – Зуля вскочила и едва не швырнула в должностное лицо при исполнении платком, сдернутым с плеч.
К полуночи постояльцы разбрелись по номерам, и следственная бригада, изъяв с федотовского стола бутылки, пепельницу и коробочку с самокрутками, отбыла из отеля, который погрузился в оторопелую тишину – будто в ожидании новых напастей.