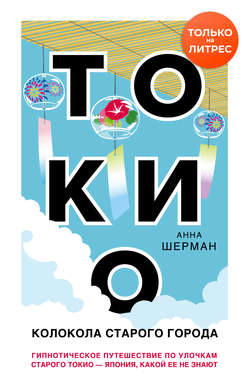Читать книгу Токио. Колокола старого города - Анна Шерман - Страница 4
«Нихонбаси»
日 本 橋
ОглавлениеВ период Токугава Нихонбаси был отправной «нулевой точкой», откуда отмерялись все расстояния в стране, и именно по мосту Нихонбаси проходили все официальные процессии, как направлявшиеся ко двору сёгуна, так и покидавшие его12.
Теодор Бестор
Нихонбаси: Нулевая точка
Свыше двух столетий первый колокол времени отзванивал часы во дворе тюрьмы сёгунов Токугава.
Часы и тюрьма представляли единое целое.
– Место казни было вон там, – поведал смотритель. На нем розовая футболка под линялым черным комбинезоном. – Тюрьма доходила до самой школы, – показал он пальцем. На нем солнцезащитные очки-авиаторы; уложенные гелем волосы лежат «шипами», как у звезд японской поп-музыки.
Тюрьма Кодэмматё обрела второе рождение как детский парк; под камнями, перемолотыми в серую с металлическим блеском крошку и серебристый песок, почвы не видно. Земля здесь настолько продезинфицирована и вычищена, что кажется, ее обработали щелочью или кипятком. Все выглядит монохромным, сизоватым – кроме ступенек на детскую горку. Они выкрашены в кричащий красный цвет.
Сам колокол остался на месте. Он висит на верхнем ярусе башни бледно-желтого кирпича, построенной в имперском коронном стиле 1930-х. Бронзовый колокол далек и недосягаем. Вокруг его короны обвился дракон.
В парке пахло нагретым асфальтом, пылью, дождем. Несколько офисных служащих курили, сбившись в кучку под строительными ограждениями неподалеку от школьной ограды. У подножия колокольной башни спал бездомный. Я взглянула в его сторону. Он перевернулся во сне и, как ребенок, подтянул колени к подбородку. Рядом, на клумбе, выложенной обыкновенными булыжниками, росли две сосны и кусты юкки садовой. Дальше торчали грубые камни с вырезанными на них иероглифами и обелиск, огороженный металлическими цепями.
– Что там написано?
– Понятия не имею, – ответил смотритель. – Никогда не интересовался.
Он отвернулся и пошел по дорожке, сметая граблями окурки сигарет, сухие листья и прочий мусор. Прутья его метлы оставляли на светлом песке ровные завитки: круг, «ноль», только задом наперед. Завитушки окружали смотрителя со всех сторон, как энсо, образ круга в Дзен13, как те «почти завершенные» круги, которые воплощают пустоту всех вещей.
Служащий в рубашке и брюках без пиджака подошел к павильону и, обращаясь к спящему, тихим голосом произнес несколько слов. Тот не спешил просыпаться.
На детской площадке за лесенкой стояли три потрепанных зверя на пружинах: панда, коала и красное существо, которое становилось незаметным, если смотреть на него спереди.
Когда я оглянулась на колокол, бездомный уже отошел от башни и привязывал свои пожитки к деревянной тачке, которую накрыл куском светло-синей ткани. Затем навалился всем телом на ручку и повлек поклажу в сторону Даи-Анракудзи. Этот «храм спокойствия» был основан в 1870-х «для упокоения душ» тех, кто расстался с жизнью в Кодэмматё. С 1610-х, когда тюрьма была только построена, до закрытия в 1875-м их набралось десятки тысяч.
Служащий отбросил сигарету и затоптал её. Прислонился к одному из столбов колокольни и закрыл глаза.
Городская тюрьма в Кодэмматё была старше сёгуната Токугава и пережила его14. Больше двух столетий она принимала карманников и поджигателей, убийц и хулиганов, картежников и вероотступников. Решения суда не подлежали обжалованию, смертные приговоры приводились в исполнение немедленно15. Один из заключенных, описывая тюремную атмосферу, писал, что она «напоминала Период сражающихся царств, когда доведенные до отчаяния люди поддерживали друг друга и учились смеяться в лицо неотвратимой судьбе»16.
В Эдо были еще два места для публичных казней, у северного и южного выездов из города17. По мере того как он рос, места казней перемещались все дальше от центра. Их каждый раз переносили за пределы города: от Сибагути до Синагава и до Судзугамори на юге; на севере от Асакусабаси до Коцукаппара на восточном берегу реки Сумида. Только огороженный участок Кодэмматё оставался на прежнем месте внутри города. За пределами его Больших Ворот преступников подвергали телесным наказаниям; внутри осужденных татуировали, и здесь же они дожидались решения суда. То могла быть ссылка в исправительные колонии на островах, на юг или на запад; либо же смерть.
Публичное наказание в Японии эпохи Токугава, как пишет Дэниел Ботсман в своей книге, было популярным драматическим жанром. «Важнее было создание спектакля, наводящего ужас, а не [причинение] боли отдельно взятому преступнику»18. Сёгунат тем не менее тщательно заботился, чтобы открытые публичные казни совершались только в случаях самых тяжких преступлений. В противном случае толпа проникается сочувствием к осужденному и может взбунтоваться.
В 1876 году, через восемь лет после того, как последний сёгун Токугава покинул город, тюрьма была перенесена на запад, в Итигаю. Но и после того как она прекратила существование, район Кодэмматё слыл нечистым. Сама почва в этом месте считалась зараженной kegare, духовной скверной, источником которой были кровь и преступления19.
Писательница Хасэгава Сигурэ росла неподалеку от района Кодэмматё, где привычными были звуки кузниц, запахи жареных морских моллюсков и масла камелии с маслобоен20. В своих мемуарах она писала, что тюрьма считалась грязной, но ей это казалось несправедливым, ведь «там ни в чем не повинные люди были заперты наряду с виновными». Когда в 1875 году тюрьма была закрыта, а здания снесены, отцу Хасэгавы была предложена часть квартала, на землях которого они стояли, однако он наотрез отказался: Категорически нет. Ya da kara, na. Он не был слабым человеком, писала Хасэгава. Как самурай, он носил длинный меч и охранял Замок Эдо еще несколько месяцев после того, как его покинул сёгун, а новая столица императора считалась едва ли не противозаконной. Но никакие выгоды не заставили его преодолеть отвращение к этому месту.
Мать Хасэгавы уговаривала его пересмотреть решение – ведь с этими землями мы станем богаты! – Но он оставался непреклонным: «Я слышал крики людей, которых здесь пытали. Их пытали без всякой вины. А люди, которых ждала казнь! Одного, я видел, волокли к месту казни за волосы. И он продолжал вырываться. Даже когда ему отрубили голову, руки оставались связанными за спиной, а тело продолжало дергаться. – Мне не нужно ни клочка этой земли».
– Вы пришли, потому что вы христианка? – спросил Накаяма, здешний священник. – Я всегда отличаю христиан, впервые пришедших сюда. Они приносят белые лилии в честь иезуита, которого пытали и казнили в этой тюрьме.
– Я ищу колокола времени.
– Вот как? – Священник оглянулся на башню с колоколом. – Он был в замке Эдо. Но его перенесли в тюрьму, так как звон раздражал сёгуна. Теперь мы звоним в этот колокол накануне Нового года. У него не самый лучший тон. Хотя чем чаще звонишь в колокол, тем лучше он звучит.
Священнику – Накаяма Хироюки – около восьмидесяти лет. В Даи-Анракудзи он живет с тех пор, как ему минуло четырнадцать. Его семья переехала тогда из Киото.
Внутренний двор храма Даи-Анракудзи – водоем, заполняемый приливом; в нем множество предметов, принесенных из других храмов, других мест и других эпох.
Отполированная каменная глыба считалась священной у айнов, коренного населения Японии. Внутри находятся окаменелые останки змеи. Приходящие в храм больные проводят ладонями по ромбовидной голове змеи и по ее чешуе, молясь об исцелении. Окаменелость извилистой формы похожа на плеть. Или же на букву какого-то неизвестного алфавита.
Деревянное изваяние богини литературы и музыки, восьмирукой Бэндзайтэн. У нее эмалевые глаза и лицо, потемневшее от дыма; в конце XIX века ее привезли в Даи-Анракудзи во время реставрации Мэйдзи, когда по всей Японии буддийские храмы подвергались разорению и уничтожались.
– Этой Бэндзайтэн тысяча лет. Она была изготовлена для воинственной жены сёгуна. – Накаяма улыбнулся. – Четыре руки богини недавно отреставрированы, это обошлось в двенадцать миллионов иен за каждую! А когда мастера приступили к работе, голова статуи качнулась. Резчик ее снял и нашел миниатюрную копию «Сутры золотистого света». Когда свиток развернули, он оказался 25-метровой длины. И еще девять сутр обнаружилось внутри Бэндзайтэн. Накаяма поднял большой палец: «Вот такой свиток».
Священная cутра золотистого света названа так по Десятой главе, в которой бодхисатва мечтает о золотом барабане, который «освещает небо подобно диску солнца»21. Святой человек появляется, чтобы ударить в барабан, который призывает всех, кто его слышит, покаяться. Правитель, который сделал бы копию этой сутры, мог быть уверен, что он будет процветать, его царство станет богатым и мирным; что не будет ни болезней, ни бедствий в его царствование. В средневековой Японии копии сутры Золотистого света хранились в тайниках под потолком для защиты дома от молнии или иных бедствий.
Изображение Бэндзайтэн имело собственное небольшое, красное с золотом святилище совсем неподалеку от храма Даи-Анракудзи, напротив места, где казнили осужденных. Оно имело форму лунных ворот; такое святилище – только портал, самого здания как такового нет. Внутри, в темноте, мигали электрические свечи, освещая золотой лист на туфельке богини, её усыпанные блестками одеяния, глаза дракона на ее нагруднике, плод в одной из ее восьми рук. Глаза богини сияют, отражая весь свет, что вокруг нее.
– Цвет почвы рядом с колодцем был другим, – заметил Накаяма. – Темнее. В этом месте палачи обмывали отрубленные головы, прежде чем вывесить их на пиках у южных и северных ворот города. Колодец использовался до 1964 года.
Накаяма сам наблюдал, как наглухо перекрывали воды источника и камни над ними.
Мы сидели на полу в одной из задних комнат храма и пили чай из Киото. Накаяма предлагал приготовить кофе, однако чтобы «обжарить зерно, понадобился бы час времени». Он очень сожалел.
Комната была пуста, если не считать низкого, красного, лакированного столика, свитка и доски для игры го из светлого дерева. Бумажные экраны рассеивали свет.
– В 1875 году один священнослужитель проезжал мимо старой тюрьмы Токугавы в Кодэмматё. Заключенных к тому времени только что перевели в Ёцую, а старое здание стало использоваться как продовольственный склад.
На том самом месте, где осужденным рубили головы, священнослужитель увидел воспаряющий фосфор.
– Фосфор? – переспросила я.
– Существует поверье, что фосфор воспаряет там, где есть души умерших.
Накаяма спокоен, словно изображение Кобо Дайси в главном зале. Это тот самый монах, что основал буддистскую секту Сингон. Кажется, Накаяма не испытывает никаких затруднений, сидя в положении сэйдза, поджав под себя ноги. Я тем временем стараюсь не ерзать, но получается плохо: колени онемели, голени и щиколотки нестерпимо болят. Ведь мы сидим уже свыше двух часов.
– А не был кто-нибудь из семьи этого священнослужителя заключен в Кодэмматё? Его ничего не связывало с этим местом?
– Он был просто священником – из храма, расположенного близ Адзабу и Роппонги. Он случайно проходил мимо и заметил странное свечение, о котором я вам рассказывал. Нет, у него не было родных среди тех, кого казнили.
Я спросила у Накаямы, не думает ли он, что увиденное священнослужителем было отражением его шока – оттого, что старый порядок после 250 лет поменялся; или кто-то вдруг заговорил о том, что происходило в стенах тюрьмы.
Накаяма помедлил.
– Знаете, сейчас люди даже не понимают, что значит «горение фосфора». Видеть это – особый дар, как и умение читать по ладони. Хотя многие понимают, что означают линии на руке, очень, очень немногие еще умеют их читать. Сто пятьдесят лет тому назад, в последние годы перед появлением электрических лампочек, Токио ночами погружался в черноту. Это в XXI веке – яркий свет автомобильных фар, уличное освещение, светодиодные экраны, неоновые вывески, галогенные лампы. Начни фосфор от асфальта подниматься – никто и не заметит.
Так вот, священнослужитель направился к ближайшему ресторану и обратился к двоим мужчинам с просьбой о пожертвовании на строительство храма. – Накаяма улыбнулся. – Один был Окура Кихатиро. Другой – Ясуда Дзэндзиро.
Окура и Ясуда создали бизнес-империи, которые оказались среди первых японских дзайбацу, влиятельных конгломератов фирм, лидеров японской промышленности перед Второй мировой войной. Основатель храма Даи-Анракудзи был необычайно удачлив или очень практичен, а может быть, и то, и другое.
– Так вы считаете, что первый священник этого храма на самом деле что-то видел?
Накаяма поиграл четками, обернутыми вокруг запястья:
– Меня там не было. Ничего не могу сказать.
– Школа напротив скоро закроется, – сообщил Накаяма. – В районе не хватает детей, чтобы заполнить классы. На этом месте построят дом престарелых.
В ходе реновации бригада строителей обнаружила фундамент старой тюрьмы. Накаяма хотел, чтобы эти камни были занесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
– Там можно увидеть, откуда арестанты получали питьевую воду и как тесно им было спать. Можно увидеть кухню, где готовилась еда, и место, где они мылись, – когда им давали такую возможность. Осужденных на смерть казнили всегда в одном и том же месте. Оно не менялось. Я бы хотел, чтобы связь времен – между тем и этим веком – была сохранена.
Когда руины оказались на поверхности, строительная компания стала настаивать, чтобы всемерно ускорить возведение дома престарелых.
– Я обратился в столичный муниципалитет с просьбой, чтобы тюрьму сохранили. Но там сказали, что сохранить оставшееся не в их власти, этот вопрос в ведении администрации района. Прибыли археологи для изучения развалин. За сохранение остатков тюрьмы выступили два нобелевских лауреата, но когда администрация района провела голосование, результат был 40:1 в пользу дома престарелых.
Единственный голос «против» подал сам Накаяма.
– Ваши шансы были ужасно низкими! – посочувствовала я, припоминая, как по-японски сказать сокрушительное поражение. Существует много слов, означающих проигрыш, наверное, не меньше, чем слов, обозначающих время. То, как вы проигрываете, и сколько раз, имеет значение.
– Да, – ответил Накаяма. – А ведь взглянув на эти развалины, вы с первого раза могли понять, как жили тогда люди!
– Да, их очень жаль.
– Я направил петицию в администрацию района, и там решили сохранить каменные стены. Их можно будет увидеть и рассмотреть сквозь стеклянный пол.
– Как вы добились, чтобы они пошли на это? – спросила я, помня о соотношении 40:1 не в пользу Накаямы.
Он довольно улыбнулся.
– Дело в том, что глава администрации хотел – сильно хотел – уйти в отставку в определенном звании, с определенными почестями. Но если бы против него была бы хотя бы одна жалоба, он всего этого никогда бы не получил.
– Всего одна жалоба? – переспросила я, опершись на лакированный столик.
Накаяма кивнул.
Я перевела взгляд в угол, на доску для игры го. Подумалось, что это самый красивый предмет из всего виденного мной в Японии, да и где-либо еще. Стратегическая игра, в которой игрок пытается окружить камни противника своими.
– Не хотелось бы мне играть против вас, – заметила я.
– Эта доска слишком хороша, чтобы ею пользоваться, – пожал плечами Накаяма. Он продолжал улыбаться. – Мне было почти жаль главу администрации района.
– За этой доской лучше мечтать.
– Обидно, что мы не сумели сохранить старую тюрьму. Можно было бы увидеть, какой она была в самом начале 1600-х. Она двенадцать раз горела, и после каждого пожара ее перестраивали, с самого начала – по карте.
Пожары… Я представила тюремщиков, стены, металлические замки.
– А те, кто был там заперт, они как?
Накаяма перестал улыбаться.
– Когда город горел, надзиратели открывали двери и всех выпускали. Когда пожар тушили, у заключенных было трое суток, чтобы вернуться обратно в тюрьму.
Я подняла брови.
– Да-да, они возвращались. Все всегда возвращались22. Если сам не вернешься… тебя найдут. И убьют. Лучше было вернуться в тюрьму самому.
Драматург кабуки XIX века, Мокуами, вырос в Нихонбаси, всего в десяти минутах ходьбы от Кодэмматё. В его поздней пьесе о самурае, схваченном в момент кражи из сокровищницы сёгуна («Четыре тысячи золотых монет, как листья сливы»), Мокуами приводит зрителя в стены старой тюрьмы23. Писатель расспрашивал людей, которые там бывали, надзирателей и осужденных. Он описал тайный язык обитателей тюрьмы, их повседневный быт, иерархию и кодекс чести. Вереница тюремных сцен в пьесе открывается эпизодом с бедным провинциальным актером, которого заставляют исполнить «голый танец», да так, чтобы окружающие забыли про чувство голода. Дополнительную жестокость сцене придает то, что этот персонаж у Мокуами танцует под ритмичные крики торговца сладостями за стенами тюрьмы (Кодэмматё славился своими кондитерскими). «Всё лучшее для вас! Всё лучшее для вас!» – с плачем повторяет за ним пляшущий актер.
В течение двух с половиной столетий тюрьма оставалась местом ужаса и тайн. Мокуами показывает новичков, попавших в западное крыло, пользовавшееся самой дурной репутацией. Им приходилось проползать через дверные проемы, а потом между вытянутыми ногами сокамерников, чтобы уяснили: каков бы ни был их статус на воле, теперь они ничто. Мокуами изображает пахана в камере, наблюдающего за арестантами с высоты башни из положенных один на другой матов «татами», отнятых у самых слабых и незащищенных. Этих затолкали скопом в угол, называемый «дальней дорогой». Драматург повествует о болезнях и голоде, о красивых молодых парнях, ищущих защиты у более сильных, о старых дрязгах, улаживаемых в драках, о вновь прибывших, наказанных за то, что не сумели достать денег, чтобы откупиться от тюремного насилия. «Твоя судьба в аду зависит от наличных денег, которые у тебя есть», – пишет Мокуами, и это одна из самых цитируемых фраз в пьесе. «Это ад номер один. Второго такого нет».
Кодэмматё в изображении Мокуами – кривое зеркало города, лежащего по ту сторону тюремных рвов, со своими ритуалами, иерархией, правилами24. Сидельцы подразделялись по классу и статусу. Самураи, чей ранг давал им право на аудиенцию с сёгуном, занимали особые помещения на первом этаже. Буддийские монахи, синтоистские священники, а также женщины помещались в верхних комнатах. Внизу, на «дальней дороге», обитали рядовые заключенные, не имевшие денег и вынужденные делить на шестерых или семерых единственный мат «татами», часто оставаясь совсем без пищи25.
В пьесе Мокуами «Четыре тысячи золотых монет» грабителем сокровищницы восхищаются, высоко ценя его отвагу и неукротимый дух. Пахан в тюрьме предлагает ему красивое кимоно и пояс, чтобы одеться перед казнью. «Ты должен умереть в прекрасной одежде, – говорит главарь. – Ты заслужил все это – благодаря яркости твоего преступления».
– Тут очень тихо, – говорит Накаяма. – Живя здесь, мы не ощущаем, что находимся в самом центре города.
Я прошла за ним следом по коридору, где тени окутывали свет и звук, а потолок вздымался так высоко, что упирался, похоже, в самое небо, хотя наверху наверняка всегда царила ночь, настолько потемнело там дерево. Коридор огибал углом небольшой сад камней – горки с деревцами сасанквы вокруг пруда с карпами, которые скользили и плескались в воде. Все это больше походило на Киото, чем на Токио.
– Прежде чем войти в святилище, вам нужно очиститься, – сказал Накаяма. Он открыл небольшую круглую лакированную коробочку и достал из нее щепотку благовоний, растер пальцами, жестом приглашая меня сложить и потереть ладони.
– А это, пожалуйста, съешьте, – протянул он баночку с гвоздикой.
Я взяла крошечный стебелек и пожевала. Удивительно, насколько легко удалось проглотить гвоздичку и какой сладкой горечью наполнился рот.
Мы вступили в зал буддийского храма, который вряд ли был красив, однако нес печать достоинства своего времени. Золотые листья на потолочных балках более чем за век потемнели от дыма. Накаяма включил мощную светодиодную подсветку, и ее направленный свет заиграл на священном изображении в центре зала – статуе Кобо Дайси, на лице которого испарения ладана за тысячу лет оставили матовый цвет мокрой древесной коры.
– Во время землетрясения 1923 года местные жители погрузили скульптуру на платформу и дотащили до токийского вокзала.
Представить только: толпы кричащих, толкающихся людей, а верующие грузят тяжелую деревянную фигуру на платформу и, выбиваясь из сил среди дыма пожарищ, тянут ее мимо брошенных машин и телег, огибая образовавшиеся на дорогах провалы.
– А это нэндзю, молитвенные четки. Как думаете, сколько им лет?
Накаяма протянул янтарные бусы, я покачала их на руке. Всегда считала, что четки делают из дерева, но эти были слишком легкими, даже для пробкового дерева, и внутри каждой блестящей сферы едва виднелись белые черточки. Я смотрела на белые шелковые кисточки, приобретшие сероватый оттенок.
– Эпоха Мэйдзи? Им лет сто двадцать пять?
– Очень хорошо, – ответил Накаяма вежливо. – Однако им четыреста лет. Когда-то они были позолоченными. Но время все течет и течет. Оно никогда не останавливается, даже на секунду. Мы иногда оглядываемся назад: «Мне нужно было поступить так, я должен был сделать эдак…» И через эти наши сожаления, эти размышления мы и движемся вперед…
Над нашими головами свисал развернутый желтоватый свиток: «Для спокойствия и утешения тех, кто умер».
– Именно потому, что наша жизнь длится всего лишь миг, она так много значит, – произнес Накаяма.
Я вышла из храма к яркому солнечному свету Кодэмматё, увидев напротив колокол, переживший тюрьму, которую стерли с лица земли. Накаяма поклонился, вновь улыбнулся и пошел обратно в храм. Его шаги были легки.
В 2002 и 2003 годах, когда богемные анклавы Омотэсандо отступили перед натиском застройщиков и модных магазинов, мои любимые кофейни стали закрываться одна за другой – Café des Flores на Омотэсандо-дори, Aux Bacchanales в квартале Харадзюку. Внезапно, где их никогда не было, возникли четыре кофейни «Старбакс». Оставалась только одна старая кофейня Дайбо – на том же самом месте с 1975 года. Ее обветшалое четырехэтажное здание выстояло среди сверкающих коробок из стекла и бетона. Я приводила сюда тех, кого любила, или тех, на кого хотела произвести впечатление, пока смотришь, как Дайбо поджаривает в полумраке кофейные зерна; как кофе разливается летом через зазубренные осколки льда, зимой – в фарфоровые чашки.
Когда в кафе было тихо, я практиковалась в японском с Дайбо, который немного говорил по-английски. Я проверяла на нем слова и фразы, но независимо от того, что я говорила, Дайбо про себя посмеивался. Я называла словарь велосипедом. Или употребляла выражение невиданная катастрофа там, где надо было сказать небольшая неприятность. Дайбо любил поправлять меня. «Надо стараться!» – повторял он, убежденный тем не менее, что мой японский всегда будет ужасным. Его жена, иногда работавшая вместе с ним в кафе, беседовала со мной по-английски. Как и Дайбо, она была родом из Снежной страны; они познакомились на студенческой постановке пьес Жана Ануя. Это было в 1960-х, когда в Японии сходили с ума от французской культуры. Ее семья не хотела, чтобы он увез ее в Токио. Тогда Дайбо уговорил ее бабушку научить его делать лапшу «соба» из гречневой муки и понравился ей. А раз бабушка одобрила партию, Дайбо добился разрешения перевезти невесту в большой город.
Лицо у госпожи Дайбо похоже на цветок, ирис.
В отсутствие жены Дайбо обслуживанием занималась красивая, но неприветливая помощница Маруяма, которая принимала заказы и выписывала счета. Если Дайбо куда-нибудь уходил или был занят сортировкой кофейных зерен, кофе готовила Маруяма. С ней я никогда не заговаривала.
Чем дольше я жила в Токио, тем больше кофейня «Дайбо» становилась местом, куда я шла, когда что-то не так.
В этом смысле я была не одна. Однажды в кофейне появилась сумасшедшая японка. Став рядом со мной, она высыпала на прилавок содержимое огромной сумки и принялась рыться в тюбиках губной помады, использованных носовых платках, пакетах чистых бумажных салфеток, обломках карандашей, обрывках бумаг и щеток для волос.
Маруяма свирепо взглянула на женщину, осквернившую безукоризненно чистый прилавок. Ее лицо выглядело маской театра но: «разгневанная красавица». Впрочем, она ничего не сказала, потому что Дайбо ничего не сказал. Он, как всегда, улыбался.
– Что я могу вам предложить? – спросил он.
– Мне капучино. Можете сделать для меня чашку?
– Нет. Я не подаю кофе со вспененным молоком.
– То есть что значит «не подаете»? – выдохнула она, продолжая рыться в своем утиле: косметике, канцтоварах и прочих цацках, которые она запихивала обратно в кожаную сумку. – Как это нет капучино! Во всем мире его подают!
– А мы нет, – мягко ответил Дайбо. – Не желаете чего-нибудь другого?
– Дайте мне кофе с молоком, что ли, – согласилась она.
Дайбо повернулся спиной и снял с полки винтажную чашку Бидзэн. Он мне как-то говорил, что любит простую глазурь и что эта чашка – его любимая, «потому что видно, как ее обжигали. Глина не умеет лгать. Она всегда остается самой собой». О чашках из белого китайского фарфора, которые я всегда выбирала (абсолютно белые, без единого изъяна), он отзывался: «Они красивые, конечно, но никогда не знаешь, что у них под глазурованным покрытием. Я им никогда не доверял».
Дайбо поставил кофе на прилавок. Женщина пила и становилась тише, разумнее, спокойнее.
Настала моя очередь.
Дайбо положил зерна для моего кофе в мятую, старую алюминиевую мерную кружку. Смолол зерна и насыпал молотый кофе в матерчатый фильтр. Он смастерил его сам из небеленого тонкого полотна и толстой проволоки, которую согнул, пользуясь бутылкой от виски. Взял кофейник из нержавейки и принялся лить горячую воду сверкающей нитью, капля за каплей, на кофе. Он был абсолютно спокоен, двигались только руки…
Дайбо налил в кофе молока, процедив его так, чтобы на поверхности не оставалось никаких пленок. Чашка была белой, как луна.
Выпей! И исцелись.