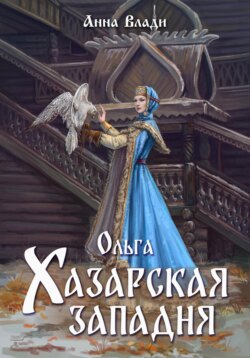Читать книгу Ольга. Хазарская западня - Анна Влади - Страница 2
2. Уловки
ОглавлениеКиев
Иегуда отложил перо и перечитал записанное на языке иудеев пятистишие. По-славянски это звучало бы примерно так:
«Тот, кто первый среди самых главных, тот, кто украшен диадемой «Конечный и Первый»,
тот, кто слышит шепчущий голос и слушает громкую речь и язык – да хранит их
как зеницу ока и позволит им жить, вознесясь высоко, подобно Нахшону20, как первым
людям правды, презирающим выгоду, дарующим любовь и доброту, представляющим милостыню,
стражей спасения, чей хлеб всегда доступен каждому страннику и прохожему».21
Иегуда не всегда жил в Киеве. Он поселился тут около десяти лет назад, скопив достаточное состояние для того, чтобы заниматься ростовщичеством. Иегуда выбрал этот город, расположенный на перепутье дорог, соединявших восток и запад, впечатлившись ощущением великих грядущих свершений, прямо-таки витавшим в здешнем воздухе. Киев кипел желанием первенствовать и богатеть, а значит, имел существенный спрос на серебро.
Прежде Иегуда занимался торговлей невольниками и попутно наживался на сделках с серебром и золотом. На одних торжищах предприимчивый иудей покупал драгоценные слитки и монеты по низкой цене, а на других продавал или менял по более высокой. В торговых сообществах от Регенсбурга до Итиля Иегуда бар Исаак Левит был известен как расчётливейший лихоимец и успешливый купец.
Теперь же, осев в Киеве и обеспечив себя и семью доходом от ростовщичества, он получил возможность вести размеренную жизнь, а заодно и предаваться любимому занятию. Немногие из его именитых знакомцев и торговых сорядников ведали о его увлечении. Зато о его страсти были осведомлены держатели книжных лавок всех крупных городов, которые иудейский купец посещал по торговым делам. Иегуда являлся завсегдатаем подобных заведений. Он обожал поэзию и сам сочинял стихи. Куда бы ни приводили его пути многолетних скитаний – в Прагу, Регенсбург, Кордову, Константинополь, Бердаа, – он всюду скупал поэтические сборники, тратя на то немалые средства: книги были весьма дороги. Но ведь монеты для того и наживаются, чтобы позволить себе удовольствия. А Иегуда был ценителем изысканных, возвышенных удовольствий. Под личиной ловкого дельца скрывался человек тонкого душевного устройства, остро чувствующий красоту слова.
Иегуда ещё раз пробежался глазами по строчкам пятистишия. Нынешнее его творение, пожалуй, не уступало гимнам прославленного Калира.22 В нём присутствовали все необходимые поэтические составляющие: чёткий ритм, иносказательный смысл, схожие по звучанию слова, сливающиеся в строфы, услаждающие слух и завораживающие ум. Ему чудился в них шорох носимого ветром по пустыне песка, и перед мысленным взором возникала вереница барханов, за которой из дрожащего марева у кромки неба проявлялись миражи.
На сей раз, однако, строфы, вышедшие из-под пера Иегуды, были рождены не столько вдохновением, сколько усилием воли. И ценность их заключалась не в одной словесной красоте. Тайно донести важное знание важным людям – вот какова была благородная задача пятистишия.
«Да услышит Хазарский каган и шёпот соглядатаев, и громкий глас советников. Да пребудет милость божья с этими людьми, презревшими выгоду ради мира» – так должен был толковаться иносказательный смысл его поэтического творения. Кроме того, последние буквы каждой строфы пятистишия складывались в сочетание слов, по-славянски означавшего «каган русов». Этот поэтический приём назывался по-гречески акростих.
Иегуде следовало написать ещё несколько отрывков, чтобы тайнопись читалась следующим образом: «Каган русов. Кустантина и Херсонес. Сговор. За торг в Кустантине. Поход руси на Самкерц. Новым летом. Во главе сын кагана. Спасайтесь сами. Сберегите нас».
Когда остроумный замысел пришёл ему в голову (а кому бы ещё он мог прийти?), Иегуда поделился им с Авраамом. Парнас поддержал его затею. Теперь от Иегуды требовалось сочинить пятистишия, а парнасу Аврааму переписать их собственной рукой. После этого они скрепят листы харатьи со стихословиями в книгу и отправят в Тмутаракань в качестве дара Киевской иудейской общины своим единоверцам с берегов Сурожского моря. Так это будет выглядеть в глазах непосвящённых. Об истинном назначении дара не узнает даже гонец, который повезёт книгу ребе Хашмонаю, главе иудеев Самкерца-Тмутаракани. А мудрейший, образованнейший и, стало быть, знающий, что такое акростих, Хашмонай сможет её правильно прочесть.
Осталось только исхитриться отправить человека из Киева в Самкерц-Тмутаракань так, чтобы он совершенно точно добрался до места назначения. Эту часть их замысла должна была устроить княжна Предслава, и Иегуда не сомневался, что сестра князя Киевского справится с ней наилучшим образом. Она ведь возжелала получить за свою услугу изрядную меру серебра. Иегуда хмыкнул, подумав, как напрасно порой обвиняют в алчности его народ, а вот та же княжна Предслава подвержена греху сребролюбия не в меньшей степени. Иудеи, конечно, заплатят ей. А почему бы и нет, ведь это серебро затем вернётся обратно к Иегуде в качестве заёма.
Застава на правом берегу Днепра
В ста пятидесяти вёрстах от Киева вниз по течению Днепра на высоком правом берегу возвышалась дозорная вежа. Напротив неё, обвиваемые серебристыми рукавами Днепра, лежали два больших острова. Левый берег реки был низинным и ровным, правый же, изрезанный оврагами и рытвинами, являлся местом, удобным для укрывательства всякого разбойного люда. В этом месте через Днепр проходил один из бродов, красноречиво зовущийся Татинец23. Брод никем не охранялся до тех пор, пока Свенельд во время своего третьего полюдья в землях уличей не велел возвести здесь вежу, оборонительные валы и стены и переселил в крепость для дозора людей из близлежащих весей.
Прошлой зимой, когда Свенельд находился в Ладоге, за данью к уличам из Киева отправился Ивор, сын Асмуда. Когда киевский воевода был в поселениях на Тесмени, с ним пришли воевать варяги, нанятые князем Пересечена. Прежде они укрывались в крепости у Татинца. Вместе с варягами киевской дружине противостояло ополчение уличей и печенеги из недружественного Киеву кочевья. Не собрав дани в самых богатых поселениях на Тесмени и Днепре, Ивор вынужден был отступить.
Нынешним летом крепость у Татинца была отбита дружиной Свенельда. Перед тем воевода победоносно прошёлся по землям уличей. Но вот уже и осень была не за горами, а Свенельд с дружиной так и не продвинулся дальше Татинецкой крепости. Для захвата городов на Днепре ему не хватало людей.
Гридни и наёмники Свенельда были закалёнными в боях и умелыми воинами, каждый из них стоил двух, а то и трёх ополченцев уличей, но часть людей пришлось оставить в самых крупных поселениях на Буге и Тесмени.
Само собой, воевода не бездействовал, пытаясь покорить земли вдоль Днепра не силой, а хитростью. Для этого Свенельд посылал своих людей с тайным поручением в Родень, поселение в полуторадневном пешем переходе вверх по Днепру от Татинца.
Этим вечером Фролаф вернулся из Родня и явился в дружинную избу на доклад.
– Будь здрав, ярл, – приветствовал Свенельда оружник.
Происходивший из данов Фролаф, более десяти лет назад вслед за Свенельдом, которого считал не просто господином, но спасителем своей жизни, попал в славянское окружение. Он давно в совершенстве освоил славянскую молвь. Однако называть господина предпочитал северным титулом, а не славянским словом «воевода».
– Здорово, Фрол. Видал Ворчуна?
– Так точно, ярл.
– Как он?
– Всё та же гнида… – безо всякого выражения ответил Фролаф.
– И славно… – невозмутимо отозвался Свенельд. – Что он донёс? Каков настрой в Родне?
С Деляном-Ворчуном Свенельда свела судьба пять лет назад, во время войны князя Киевского с древлянами и уличами. На глазах этого уличского воина Свенельд убил пятерых человек из десятка, несшего дозор на берегу Днепра у Витичева. Ворчун тогда показался будущему воеводе малодушным, склонным к измене гриднем. Потому он и пощадил его. Свенельд рассказывал басни про волкодлака, намекал, что и сам причастен к роду нелюдей. Ему удалось запугать парня этими страшными байками. Убитые один за другим соратники, понятное дело, тоже произвели впечатление. Ворчун провёл его в стан уличей, и Свенельд отправил за стены Витичева несколько стрел с княжескими грамотами, предупредив дружину о том, что Игорь прислал подкрепление. Наутро дружины князя Киевского слаженно ударили по уличам и древлянам и победили.
Когда позже Свенельд стал ходить к уличам за данью, он отыскал Деляна-Ворчуна, дал ему серебра, на которое предприимчивый Ворчун устроил в Родне корчму и постоялый двор. Дела у Ворчуна шли хорошо: постояльцы в Родне не переводились. А Свенельд и дальше вёл с ним через Фролафа всякие тайные дела. Ворчун оказался человеком весьма полезным и неоднократно оказывал ему услуги.
– Средь жрецов нет единства, – продолжал доклад Фролаф. – Опасаются старцы, что Киев своих жрецов пришлёт. Но Еловит – за тебя. Токмо он тебя ждёт, с тобой толковать хочет. Бает, люб мне Белолют – так он тебя кличет, ярл, знаешь ведь. И богам люб. Но пусть слово мне даст, в глаза глядючи, что в наши дела никто из киевских сунуться не посмеет. Здесь, мол, – Рода земля. Его и славить до́лжно…
– Ворчун слух пустил, как велено было?
– Да, ярл. Торговцы и умельцы крепко усвоили, что коли ты наместником сядешь в Родне, они станут над пересеченскими главенствовать, князевы ладьи в греки обихаживать, князевых людей холить. И, стало быть, серебрениками мошну набивать. Сам слыхал такие речи и у Ворчуна в корчме, и на торгу. Понятно, и несогласные имеются… Еловит толкует, вече, мол, надо созвать.
– Что в Пересечене? Без перемен?
– Без перемен. Сидит князь, как мышь в норе. И дружина евойная варяжская на месте.
Свенельд замолчал, задумался, устремив взгляд в никуда. Фролаф внимательно рассматривал господина, напряжённо сжав губы, что выдавало наличие в мозгу некой свербящей мысли, которую оружнику очень хотелось высказать.
– Ярл, позволь спросить…
– Спроси…
– Роденские за нас. В спину не ударят. Там, глядишь, подмога придёт из Киева. Когда мнишь Пересечен в осаду брать?
– Подмога из Киева придёт, когда Володислав даст согласие на брак дочки. Таков был уговор с Рюриковичем…
– Умыкнуть, могёт, дочку-то? Глядишь, шибче дело пойдёт… А невеста уж сколь радостна будет…
Свенельд резко выпрямился, метнул Фролафу недовольный взгляд:
– Я у тебя совета просил, умник? Доложил – ступай себе. Отдыхай. На днях в Родень двинем. Вече созывать. Новую власть утверждать.
Фролаф покорно развернулся и направился к выходу. У двери он замешкался, взялся за ручку, бросил взгляд на своего господина. В глазах оружника вопреки обиде, вполне уместной из-за незаслуженно услышанной от воеводы резкости, было сочувствие.
– Не желаешь ты, ярл, на смолянке жениться. Не люба она тебе. Вот и вся недолга, – проворчал Фролаф со вздохом и вышел.
Дождавшись, когда оружник удалится на достаточное расстояние – потому как встречаться с Фролафом и видеть исполненный переживаний за его судьбу взгляд мочи не было, – Свенельд покинул дружинную избу. Направился он не в гридницу, а в сторону дозорной вежи. Он поднялся на башню, осведомился о положении дел у дозорных и велел им оставить его.
Свенельд любил осматривать с верхней площадки вежи окрестности и размышлять. Здесь, на высоте, хорошо думалось. А подумать нынче было о чём. Над речью на вече в Родне, к примеру. А прежде того – над разговором с Еловитом, главным жрецом святилища Рода. Святилище давно уже было не просто капищем бога у места впадения реки Рось в Днепр, а ядром, вокруг которого, как пчёлы возле улья, гудели пёстрые по народностям веси. Жили в них не одни только уличи, но и поляне, и древляне, и севера, и даже ясы с болгарами. Свенельд называл всю эту местность Роднем, по имени наиболее богатого здешнего поселения, расположенного на высоком берегу Днепра. Власти единой, кроме жреческой, в Родне не было. Стоило бы как следует укрепить прибрежное поселение, устроить детинец и поставить у власти княжеского наместника – и Родень не уступил бы и Пересечену. Об этом Свенельд толковал со старейшинами и ранее, для того отправлял своих послов к ним этим летом – сразу вслед за тем, как князь обещал ему наместничество в Пересечене…
Розовели окрашенные закатными лучами облака над Днепром. В низине стелился туман. Зелёное полотно древесных кущ у подножья холма, нетронутое заплатами человеческого жилья, напоминало морскую гладь. Явственней, чётче воспринимались вечером звуки. Резкие, жутковатые вопли неясыти перерезали пение прочих птиц – трели варакушки, урчание козодоя. Но птичья разноголосица не раздражала, а, наоборот, усиливала чувство оторванности от житейской суеты. Течение мыслей Свенельда обретало плавность. Думы о делах грядущих уступали место воспоминаниям…
Всегда было неспокойно на правом берегу Днепра. И полюдье на Правобережье с тех пор, как Олег Вещий покорил древлян, являлось для киевской власти делом непростым. Правители Червонной Руси исправно подогревали в умах и душах былых своих данников неприязнь к киевским князьям. Лишь слава могущественного чародея, сына бога, ореолом сиявшая вокруг личности великого Олега и при его жизни, и некоторое время после смерти, не позволяла вражде разгореться. Отблеск той славы лёг на его сына. После Вещего в полюдье к древлянам стал ходить Моровлянин24.
Но время шло, память о Вещем стиралась. А вот о том, что дань Олег Олегович собирал не для себя, а для князя Игоря, который не являлся ни чародеем, ни волхвом, ни сыном бога, ни даже сыном Вещего, но был пришлым новгородским варягом, червонные князья, да и сам Моровлянин не забывали. Однажды их тлеющее недовольство вспыхнуло пожаром мятежа и войны. Им не повезло, их бунт был подавлен – не без участия Свенельда, между прочим. В исходе той брани Киевская держава приросла подвластными землями. Но полюдье в мятежных краях по-прежнему оставалось делом опасным. А к древлянам добавились ещё и отданные червонными князями в качестве виры восточные лендзяне, и неукротимые уличи, покорить которых не сумел даже Вещий.
Пять лет назад ходить к ним вызвался Свенельд. Впервые представ перед очами князя Игоря, Свенельд самоуверенно заявил, что храбрость – его заработок. И это было не пустое бахвальство. Оставшись в Киеве после наёмной службы у греков, он быстро взобрался на вершину власти Киевской державы. Не одна храбрость, понятно, вознесла его – ещё и хитрость, и ловкость, и прочие уменья, о которых князю Киевскому знать не следовало, и которые Свенельд готов был проявить за серебро и золото. Сбор дани для князя Киевского в землях недовольных он, разумеется, тоже мыслил услугой небезвозмездной.
Свенельд начал готовиться к своему первому полюдью задолго до осени, даже ещё до того, как ему удалось убедить князя возложить на него обязанность собирать дань. Он был уверен, что помощью своей знатной полюбовницы, сестры князя Киевского, княжны Предславы, и собственными способностями добьётся желаемого.
Всю весну после усмирения мятежников Свенельд провёл со своими людьми на ловах. По возвращении из Царьграда в Киеве с ним осталось около двух десятков варягов, признавших его своим воеводой. Охотился он не ради дичины и дорогого меха. Целью являлись малопригодные в этом качестве волки. Оголодавшие после зимы лесные хищники теряли всякий страх и нападали на домашний скот, нанося окрестным вервям немалый урон. Но и не ради страдавших от зверей сёл выезжал Свенельд на лов. Он дюже уважал волков. Велеты, народ, из которого происходила мать будущего киевского воеводы, считали лютого зверя прародителем. Серые хищники были справедливы, верны своей близкой стае, убивали лишь из необходимости. А некоторые не знавшие меры люди поступали так, что воевода скорее пожалел бы волков. Но сейчас ему требовались волчьи шкуры.
Покорённым народам его дружина должна была показаться не простым воинством князя, а стаей самых настоящих оборотней. Древляне боялись Вещего, считая его чародеем и сыном Сварога, а уличи будут бояться его, Свенельда, потому что он станет для них волкодлаком, крадущим не только жизнь, но и посмертие. Подобная мысль пришла воеводе в голову после того, как ему удалось запугать и склонить на свою сторону Ворчуна. От него он узнал, что уличи относились к лютому зверю с не меньшим трепетом, чем велеты, и тоже вели свой род от волка.
Во время полюдья Свенельд приказал своим гридням накидывать поверх кольчуг волчьи шкуры и завывать по-звериному каждый раз, когда они приближались к местам стоянок дружины.
Его первое полюдье стало не обыкновенным походом за данью, а настоящим представлением. Свенельд заводил с князьями и старейшинами древлян, лендзян и уличей леденящие кровь речи и не скупился на угрозы. Рядясь в обличье волкодлака, он вдохновенно изображал жестокого оборотня. Данники боялись его, ненавидели, не раз пытались убить. Но на второе и третье полюдье восприняли приезд Свенельда к ним как должное, а в четвёртый – его едва ли не приветствовали. Тогда в землях уличей он почувствовал себя повелителем, князем. Во всех крупных поселениях у него имелись постоянные хоти для наложных утех, ожидавшие и с радостью встречавшие его – с жёнами воевода всегда был ласков и щедр; прикормленные соглядатаи, вроде Ворчуна, доносившие о людских настроениях, о недоброжелателях и недовольных; уважительные старейшины, успевшие разглядеть под личиной безжалостного нелюдя разумного мужа и выдающегося вождя. Большинство уличей больше не испытывало к нему ненависти, а некоторые даже обращались за советом, просили рассудить прения, защитить от степняков.
В тот, четвёртый, раз ему пришлось напомнить им, что он действует не сам по себе, а как воевода князя Киевского. Тогда же Свенельд распространил среди уличей слух о том, что он вскоре покинет Киевскую державу и следующей зимой к ним придёт другой соратник князя Игоря. При этом он, не стесняясь, намекал, что новый воевода с опаской относится к бесстрашным, непокорным уличам.
Вернувшись в Киев, Свенельд предупредил князя Киевского о зреющих мятежных настроениях данников. А между тем он сам их и посеял. Свенельд действительно задумал уехать из Киева и не мыслил возвращаться назад. Но облегчать урок своему преемнику он не собирался. Не хазары, не печенеги, не Вещий и не червонные князья, а он, Свенельд, оказался первым воеводой, сумевшим подчинить себе сей непокорный народ. Запросто делиться своими достижениями он не собирался.
Разумным было бы вообще никуда не уезжать из Киевской державы. Свенельд многого добился на службе у князя Игоря, оброс связями, знатно обогатился. Но серебро ему нужно было не для одного лишь обладания. С малых лет он носил в сердце желание мести человеку, повинному в смерти его отца и матери, знатному и могущественному хёвдингу-дану, приближённому самого датского конунга Кнуда. Против него следовало выходить во всеоружии, не оставляя убийце ни единой возможности выжить. При этом самому надо было избежать наказания. Мало было бы радости убить кровника25 и лишиться свободы и жизни. К тому же Свенельд хотел убить не только врага, но и всю его семью. Да и месть, отложенная на годы, добавила бы ему уважения.26 Вот потому столько лет Свенельд усердно взбирался на крутую гору жизненных достижений, у подножья которой большинство простых смертных теснились и толкались в борьбе за скромные блага жизни.
Покидая Киев, Свенельд не знал, приедет ли назад. Он хотел поселиться на земле своих предков. Но что-то в глубине души подсказывало, что возможность возвращения исключать нельзя. А вёльва, разглядевшая в нём дар прорицателя, велела чутко слушать свои ощущения. Свенельд слушал. Его неумолимо тянуло на Русь. И он вернулся. И узнал, что дружина под предводительством Ивора, сына Асмуда, едва унесла ноги из неспокойного края уличей, оставив прошедшей зимой князя Игоря без дани. Предвиденье это было или точный расчёт, непонятно. Но без сомнения, он не зря возмутил уличей и не зря привёл с собой датских наёмников.
В новое полюдье Свенельд шёл знакомым путём. Завершив объезд земель древлян и восточных лендзян в Виниче27 и отправив часть дружины с собранными данями в Киев, Свенельд вместе с княжичем Олегом спустился по Бугу в земли уличей. Уличи легко покорялись ему. Хотя теперь у его гридней не имелось с собой волчьих шкур. Впрочем, если бы они даже и имелись, он не стал бы рядиться. Ему не нужно было устрашать, его и так уважали и признавали его силу. Да и негоже было бы устраивать подобное на глазах у следовавшего с ним в полюдье княжича Олега. Присутствие сына Игоря одновременно тяготило и было полезным. Оно ограничивало Свенельда в свободе действий, но вместе с тем дружина княжича, пусть почти и не принимавшая участия в битвах, создавала видимость значительного войска.
Вот только когда киевская рать по притокам Буга и Тесменю вышла на Днепр, дружина княжича направилась на юг, вниз по течению. Свенельду же следовало идти на север, в сторону самых значительных и богатых поселений – Родня и Пересечена.
Свенельд рассчитывал, что князь Киевский поддержит его гриднями, ведь в дани доля Игоря была большей. На сей раз воевода ошибся. Игорь привычно стремился извлечь всемерные выгоды из своих предприятий, и, более того, как подозревал Свенельд, князь хотел поставить чересчур удачливого и оттого зарвавшегося – так, верно, думал о нём Игорь – воеводу на место.
Князь прислал гридней лишь для того, чтобы обезопасить следование касожской невесты Олега и греческих послов до Витичева. От Витичева на север начинались покорные Киеву, безопасные земли.
Тогда же Свенельду было приказано явиться в Киев, куда он и поспешил, опередив медленно идущий вверх по Днепру ладейный поезд касожской княжны. В ту пору он ещё не знал, для чего князь велел ему приехать, даже и предположить не мог, что речь пойдёт о женитьбе на смоленской княжне.
Подмога с войском пришла не так, как ожидал Свенельд. Игорь пообещал ему поддержку людьми и наместничество в Пересечене взамен женитьбы на смоленской княжне. Надо было соблазнить княжну и тем разрушить её помолвку с князем Новгородским. Дочь Володислава Смоленского была невестой выгодной: пригожей, молодой, знатной. Свенельд, конечно, подчинился князю Киевскому. Однако, согласившись на брак, он отступил от одного своего убеждения. Вопреки предельной расчетливости, жениться воевода хотел по любви. Он никогда не сомневался, что ему, прославленному воину, влиятельному и видному собой мужу, доселе без труда получавшему любую угодную ему женщину, будет просто жениться на той, которая придётся ему по сердцу.
В яви всё складывалось как-то иначе, чем он себе представлял.
Небесные пряхи смеялись над самоуверенным честолюбцем. Любовь оказалась не тем благом, которое можно было получить, взобравшись на гору жизненных достижений. Она пришла не по велению разума и не прекратилась усилием воли. И самым грустным оказалось то, что за любовью не следовало неизбежное обладание, как и наоборот.
Родень
В полуденный час на исходе лета в Родне, располагавшемся на каменистом кряже близ места слияния Роси с Днепром, было необыкновенно людно. Вокруг помоста, установленного в середине площади, толпились самые знатные жители поселения и окрестностей: главы ремесленных концов, торговцы, старейшины вервей, десятники сторожевой охраны. По краям теснился простой люд, наряженный как на праздник: мужики в белых рубахах, бабы в узорочье. Некоторые бойкие, деловитые парни взобрались на принесённые из корчмы Деляна столы и лавки, на прикаченные с бондарного двора бочки и на прочие подручные, а вернее, подножные предметы. Народу на площади набилось столько, что, казалось, и шагу ступить некуда. Возбуждённо шумело людское море. Почти не прерываясь, с раннего утра бил на звоннице вечевой колокол.
– Волхвы, волхвы едут! – закричали наблюдатели с возвышений. – И воевода Белолют с дружиной!
Люди потеснились, в толпу вклинилось шествие: впереди на белом жеребце, более похожий на воина, нежели на волхва, ехал верховный жрец святилища, Еловит; за ним следовала телега с навесом, запряжённая парой белых же быков – повозка жрецов. Завершал шествие десяток конных гридней во главе со Свенельдом, которого роденцы, вторя Еловиту, прозывали Белолютом.
У помоста шествие остановилось. Почтенные старцы выбрались из повозки, Еловит и Свенельд спешились, взошли на высокую степень28. Люди Свенельда рассредоточились, оцепили помост, оттеснив от него народ. Они зорко всматривались в толпу, выискивая лиходеев. Правда29 запрещала приносить на вече оружие. Если и случались на подобных сборищах разногласия, которые невозможно было разрешить словами, противные во мнениях стороны бились на кулаках. Однако всегда находились те, кто поддавался искушению преступить закон. И здесь среди толпы весьма вероятно присутствовали соглядатаи пересеченского князя Вестислава.
– Здравы будьте, жители Родня! – разнёсся над площадью густой, звучный голос Еловита. Толпа зашумела ответными приветствиями. – Собрались мы ныне на вече, чтобы союзно решить: быть нам с Киевом или с Пересеченом. Решенье непростое. Выберем одного – знать, враждовать нам с другим. Думать надобно крепко. Заслушаем всех, кому есть, что ныне сказать по сему поводу, но прежде всех слово держать воеводе Свенельду.
– Люди добрые! Представляться вам нет нужды. Все вы меня давно знаете. Было время – я воевал с вами, склонял под длань князя Киевского. И удача была со мной. Но никогда я не таил зла против народа уличей и против прочих народов, живущих в здешних землях. Когда можно было – я всегда мир ладить силился. Но Пересечен – отрезанный ломоть. Ему гибнуть от моей руки иль от какой другой – то дело решённое. Пусть не сейчас, но со временем – тому бывать. Многие из вас давно поняли, сколь весомые выгоды можно извлечь из союза с Киевом. Каждую весну ладьи князя Игоря идут в Царьград и каждую осень обратно. И переправа через Днепр может быть единственно вашей. Кому ещё быть первым в окрестных землях, как не граду, осенённому благодатью самого Рода?
– Мы долго жили под рукой князя Вестислава. Но четыре из пяти минувших лет платили дань Игорю Киевскому, – добавил Еловит. – А по чьей вине мы склонились под Киев? Помните, люди добрые? Вестислав уступил в брани Игорю Киевскому, а вернее всего – воеводе Свенельду. И после того мы жили в мире и покое, покуда Вестислав не начал баламутить людей.
– Будто Белолют нас не баламутил! – выкрикнули из толпы. – С панталыку нас не сбивал…
– Перята-торговец верно говорит, – поддержал роденский старейшина Замята, стоявший рядом с помостом на перевёрнутой вверх днищем лодке. – Две весны тому ты, воевода, баил, что покидаешь земли руси. А заместо тебя другой киевский воевода за данью к нам придёт на будущую зиму. Шибко податливый да боязливый… Я своими ушами о том слыхал на сходе старейшин. Не ты ль его собрал, воевода? А?
– Разве ж я тебе, Замята, велел гнать киевского воеводу взашей из роденских земель? – вкрадчиво спросил Свенельд. – Браниться с ним? Обижать? Разве так?
– Для чего тогда намекал о слабости киевского человека?
– Для твоей же пользы. С податливым человеком проще сторговать себе выгод. Хитрее действовать надобно было, а не за мечи и топоры хвататься.
– Хитёр ты, воевода. О том нам вестимо, – возмутился Замята. – Гладко баешь, не подкопаться.
– Верно Замята речёт! Волкодлаком ты рядился. Народ пужал. Да токмо сдаётся – то болтовня.
– Люди правду говорят, воевода. Никто ни разу не видал, чтоб ты обернулся зверем, – раздался из-за спины Свенельда голос жреца по имени Любр. – Лукавил ты, голову нам морочил ранее, и кто поручится, что дальше не будешь?
Толпа зашумела, соглашаясь со словами жреца.
– Лицедей ты лютый, а не волкодлак, Белолют!
– Бывал ты, Любр, и приметлив, – ответил Свенельд, не повернув головы. – Всё верно сказал. И я, люди добрые, не стану более лукавить. Чтоб вам покойно было, признаюсь. И покаюсь. Никакой я не волкодлак! Я человек!
Людское море заволновалось, зашумело шибче, покатило волны пересудов.
– Человек? Не волкодлак?
– Не волкадлак, баит. Человек, мол…
– Да как же так?
– А вот так… Брехал, вещает…
– А нынче не брешет?
– Кто ж его знает…
И явственно слышались в многократно повторённых вопросах и ответах оттенки разочарования. Порой нечто наиболее вероятное оказывается наименее желанным для человеческой души. В очередной раз Свенельд убедился, что люди не хотят скучной правды, они жаждут чудес.
– Стало быть, нет в тебе вещих умений?
– На кой нам тогда таков князь сдался?
– Так вам волкодлак всё-таки надобен? – рассмеялся воевода. – Любо пужаться? Ну, есть у меня умения… Коли желаете, покажу, повеселю вас… Пусть мне глаза завяжут, а моего коня станут мордой к помосту держать. Буду его глазами глядеть и всех священных мужей угадаю. Любо?
– Любо, воевода! Любо! Давай, удиви нас!
– Вы согласны, высокочтимые жрецы? – Свенельд обернулся к священным старцам. Утвердительные кивки были ему ответом.
– И меня заодно угадай, воевода, – выкрикнул Перята и поднялся на помост.
Быстро была найдена тряпица. Принёс её Замята. Жрецы и Перята поочерёдно приложили свёрнутую в несколько раз ткань к своим лицам, проверяя, плотно ли повязка закрывает зрение. Все одобрительно кивнули – подтверждая, мол, подвоха нет, всё по правде. После этого Свенельду завязали глаза. Священные мужи поднялись с лавки и, перемешавшись, выстроились посередь помоста. Вместе с Перятой-торговцем их было шестеро. Народ на площади замер. Фролаф подвёл коня. И тут вдруг, подтянувшись на руках, на край помоста присел невесть откуда взявшийся молодец. Был он одет в нарядную вышитую рубаху, подпоясанную поясом, и свободные порты, обмотанные на лодыжках онучами. На ногах – кожаные поршни. Парень как парень.
– Это кто ещё? Чегой-то он? Чего удумал? – зашумели в толпе.
Гридни Свенельда ринулись к нему, но парень поднял руки, показывая, что никакого оружия при нём нет.
– Ярл! – крикнул Фролаф на северном языке. – На помосте – чужак! Задержать его?
– Не трогайте! – ответил Свенельд по-славянски.
Гридни отошли от незнакомца. Парень ловко вскочил на ноги и бесшумно приблизился к ряду жрецов. Склонил голову перед Еловитом и, подойдя к Любру, жестами предложил ему уступить место.
– Да! Да! – загудела толпа. Затея усложнить воеводе задачу пришлась зрителям по душе.
Фролаф встревоженно глядел на Свенельда. Воевода стоял неподвижно, никак не отвечая на творившиеся вокруг непонятности. Любр вышел из ряда, шутник зянял его место. Парень приложил палец к губам, призывая людей к молчанию.
– Священные мужи готовы, воевода Свенельд, – провозгласил Замята. – Позволь подвести тебя к ним?
– Справлюсь сам, – глухо ответил воевода и направился к ряду жрецов.
Ступал Свенельд спокойно, но явно не так уверенно, как он ходил с открытыми глазами, и даже споткнулся раз, вызвав в толпе удивлённый и взволнованный ропот. Он подошёл к жрецам, замер напротив первого, ничего не сказал, сделал шаг ко второму. Не проронив ни слова, он недолго постоял напротив каждого. Незнакомец, заменивший Любра, был предпоследним. Когда Свенельд миновал его, парень скорчил забавную рожицу: вытаращил глаза, почесал темя, взлохматив волосы.
Завершив проход вдоль ряда мужей, Свенельд вернулся на место. Некоторое время он стоял недвижим, молчал, словно над чем-то раздумывал.
– Называй давай! Не тяни! – раздался выкрик из толпы.
– Я не тяну, а безмолвствия жду! – ответил воевода.
Вечевые сходники зашикали на болтавших и шумевших, и на площади воцарилась мёртвая тишина.
– Еловит, – произнёс Свенельд, шагнув к первому человеку из ряда, и толпа одобрительно загудела: воевода назвал имя жреца верно. Свенельд чуть развернулся и вскинул ладонь.
– Роденцы, вы молчите, покуда воевода всех не поименует, – счёл нужным пояснить Замята.
– Ждажир, Перята, Колун, – назвал Свенельд ещё троих, передвигаясь вдоль ряда от одного к другому.
Пятым стоял незнакомец. Свенельд замер напротив него, подумал, ничего не сказал и сделал шаг в сторону, к последнему жрецу. Парень нетерпеливо переступил с ноги на ногу. Одной рукой он упёрся в бок, другой сделал широкий плясовой жест. Вёл он себя по-скоморошьи, дурачился, словно всё происходившее донельзя веселило его. Люди в толпе посмеивались над чудаком.
– Дивлян, – сказал Свенельд и толпа опять зашумела, но воевода вновь вскинул руку, призывая к молчанию: – Ещё один.
Он сделал шаг к незнакомцу. И вдруг жрецы, стоявшие рядом, отшатнулись; люди, наблюдавшие зрелище у торца помоста, испуганно ахнули. Кто-то крикнул «Берегись!». Фролаф взвился на помост. Еловит метнулся к Свенельду. Поймав солнечный луч, сверкнуло лезвие ножа в руках незнакомца. Направлено оно было в шею Свенельда. Но спасать воеводу не пришлось. Молниеносно Свенельд перехватил руку, занёсшую нож, и сжал запястье злодея. Второй рукой сдёрнул повязку и вцепился железными пальцами в шею нападавшего. Еловит за его спиной грохнулся на помост. Его толкнул Фролаф. Повалив волхва, оружник Свенельда и сам упал на дощатый пол. Свенельд вывернул нападавшему руку и отшатнулся в сторону. Всё это произошло в считанные мгновенья до того, как брошенный из толпы нож просвистел над ними и впился в бедро злодея. Кто-то явно метил попасть в Свенельда и промазал, потому что воевода вовремя увернулся. Прикрывшись израненным злодеем как щитом, Свенельд огляделся. Его люди уже прорывались ко второму нападавшему сквозь гомонящую толпу. А шутник-покуситель бился в его руках, но не для того, чтобы вырваться, а от сотрясавшей его предсмертной дрожи.
– Ножи в отраве! Берегись! – крикнул Свенельд.
– Всё подстроено! – прохрипел лиходей. – Подстроено! Сговор со жрецами!
Больше он сказать ничего не сумел: изо рта его хлынула кровь. Свенельд оттолкнул от себя тело, и оно тяжко упало на помост. Фролаф склонился над покусителем, вглядываясь в шевеление его губ и прислушиваясь: не скажет ли ещё чего невольно перед смертью?
Второй злоумышленник был схвачен быстро. Но он до того, видно, успел полоснуть себя лезвием отравленного ножа и, когда люди воеводы подтащили его к помосту, уже извивался в судорогах и не мог говорить.
Часть сходников ринулась прочь от помоста, однако все выходы с площади оказались перекрыты гриднями дружины Свенельда, занявшими улицы в то время, когда воевода держал речь.
– Остановитесь, чада! – нёсся над площадью зычный голос Еловита. – Остановитесь! Передавите же друг друга!
– Роденцы, угомонитесь! Угрозы нет! – взывал к собравшимся Свенельд.
– Охолонись, дурачьё! – орали гридни, сдерживая щитами натиск горожан. – Не выпустим!
Некоторое время сходники пытались прорваться сквозь заслоны, но сладить с гриднями, ежедневно упражнявшимися в умении держать «стену щитов», было непросто. Сопротивление плавно перетекло в словесные перепалки:
– Воевода, ты, знать, положить нас всех нынче удумал! – выкрикнул Замята. Во время заварухи с нападением староста спрыгнул с помоста, но, подвернув лодыжку, уйти далеко не сумел и прятался под лодкой.
– На кой ляд мне с вами речи тогда было разводить?
– Пошто зверей своих согнал в том разе?
– Потому как ожидал от пересеченцев пакостей. Оборонить и себя, и вас желал. Угомонитесь уж. Угрозы боле нет.
– А коли убивцы в толпе?
– Убийцы не по вашу душу пришли! Чего трусите! Я на обозрении стою, а ум от страха вы растеряли. Друг друга затоптать готовы.
– Тебя нож не имёт, мы видали! – звонко крикнула баба.
– У нас таких уменьев нет! – поддержал её стоящий рядом мужик.
– Роденцы, давайте вы сейчас помолчите немного. – Свенельд поднял обе руки, призывая внять ему. – А я кое-что скажу убийцам.
Сходники притихли, устремив взоры к воеводе. В залитом с одной стороны кровью кафтане, с растрёпанной после схватки гривой волос и при всём при том с невозмутимым лицом он выглядел впечатляюще. Свенельд действительно не боялся. И это поражало народ на площади.
– Тати! Коли вы меж добрых людей затесались и зрите, знайте: вам не уйти! Даже если и убьёте меня, тут же сами бесславно рядом с подельниками поляжете. Пока моя дружина блюдёт площадь, нет никому хода отсель! Но коли вече завершим как положено, проверять никого не станем. Всех выпустим. Обещаю!
– А коли исход тебя не устроит? Ну как супротив тебя в посадниках голосовать станем? – не унимался Замята, устыдившийся, видно, собственной трусости и пытавшийся теперешней дерзостью её возместить. – Тоже не выпустишь?
– Выпущу. Слово даю… – серьёзно сказал Свенельд и тут же с усмешкой добавил: – Но столов пиршественных не накрою. Думайте, роденцы, решайте…
И вновь зашумело людское море. И каждый норовил поделиться мыслями и наблюдениями.
– А вы слыхали, что тать-то рёк? Мол, подстроено всё действо?
– Убивец и сам тоже подстроен, выходит?
– Народ! Да воевода с закрытыми глазами татя за руку поймал! Вы чего, не видали разве?
– Да видали… Как не видать…
– Всё же он не людского роду-племени…
– Верно, опять брехал теперича, что не волкодлак…
– Волкодлак – не волкодлак, главное, чтоб нас не ущерблял… – вставил словцо Перята-торговец.
– Баил, о наших прибытках печься станет…
– Честной народ, а какой ещё нам посадник нужен? На кого лучшего потягаем? О ком речь ведём? – вмешался Еловит.
– Воевода – муж разумный и сильный. Пусть же он правит и Роднем и всеми окрестными землями, – поддержал его Ждажир.
– Пущай тогда Белолют нашим князем будет, а не Игорь Киевский!
– И Родень станет первым, а не Пересечен! И не Киев!
– Не справимся мы с Пересеченом без Киева…
– Дружить надобно с князем Киевским, дурни! Чтобы серебро из его мошны перемещалось в наши!
Долго волновалось людское море: шипело недоверием, бурлило недоумением, вспенивалось то руганью, то смехом. В исходе горячих прений вече утвердило Свенельда наместником Родня и пообещало воеводе полторы сотни мужей для осады и брани Пересечена. Кормление его дружины отчасти становилось заботой роденцев.
Тем же вечером Свенельд отправил гонца в Татинец с повелением собрать добровольцев в поселениях на Тесмени, о чём воевода уже имел предварительный уговор с тамошними старейшинами, и выступать всем войском в сторону Родня. Он решил не ждать подмоги от князя Игоря, а справляться собственными силами. Володислав Смоленский мог ведь и не согласится отдать Свенельду в жёны свою дочь, и тогда Киев подкрепления воеводе не пришлёт. Честно признаться, в глубине души Свенельд надеялся на это. Но небесные пряхи имели на него собственные виды.
День спустя, когда Свенельд угощал народ на площади мёдом и пирогами, устроив обещанный пир, с которым ему помог Ворчун и прочие роденцы, из Киева приехал утомлённый гонец. Гридень уже несколько дней разыскивал воеводу по ратным станам и заставам, чтобы сообщить ему важные вести. Володислав прибыл из Смоленска, заключил ряды с князем Киевским и благословил дочь на брак со Свенельдом. Князь Игорь повелевал Свенельду ехать в Киев на его же собственную свадьбу.
20
Первый человек, кто во время бегства евреев из Египта вошёл в воды Красного моря, ещё не расступившегося перед народом Моисея.
21
Поэтический отрывок из так называемого Киевского письма – исторического документа, вышедшего с территории Киевской Руси. Датируется X веком. Некоторые исследователи видят в нём приём акростиха.
22
Елеазар Калир – поэт еврейского происхождения, предположительно живший в VII веке в Византии.
23
От слова тать – разбойник. Место находится в районе современного г. Черкассы.
24
Олег Моровлянин, сын Олега Вещего.
25
Здесь: кровный враг.
26
По мнению скандинавов того времени, месть не должна была свершаться по горячим следам, ее следовало как следует выносить.
27
Современная Винница.
28
Помост.
29
Свод законов в раннефеодальных государствах.