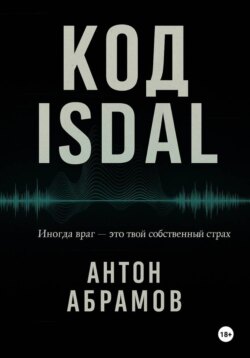Читать книгу Код Isdal - Антон Абрамов - Страница 2
Глава 1. Тело
ОглавлениеСнег этой зимой ложился как будто не по своей воле: не метель и не кружево, а какое-то уставшее зерно, редкое, будто его перед уходом из страны долго уговаривали задержаться на одну ночь. Подмосковный посёлок «Сосны-2» распластался на холмистом берегу старого пруда, где запруда давно держала воду так же упрямо, как старуха держит язык, чтобы не сказать лишнего. Дачи стояли как расставленные в шахматном порядке привычки – каждая со своим характером: одна с облупленной жёлтой вагонкой, другая – с коротким крыльцом, третья – с забором, который зарос мхом и не стеснялся своей старости. Тут редко появлялись чужие, если только весной не завозили чёрный грунт для аккуратных клумб, а осенью – сухие венки для поминок.
В середине января воскресенье пришло без колокола и без новостей. Туман с утра держался над замёрзшей гладью пруда; он не рассеивался даже к полудню, только чуть темнел к верхушкам сосен. В таком свете всё казалось слегка больше и тяжелее, чем есть: дом – как будто на размер, как будто на выдох. На узкой улице, где бок о бок стояли пять однотипных участков, на окраине ряда – тот самый дом, который никогда не заканчивал себя. Его строили в разные годы разными руками: пристроенная веранда выглядела как довесок к памяти, сарай опирался на кирпичную подушку, не проседающую со временем, а крышу недавно латали битумной лентой, оставив на чёрном шве отпечатки ладоней. Рядом со второй створкой ворот валялся одинокий кирпич, который кто-то использовал, чтобы подпирать калитку на время выгрузки – он так и остался стражем, бессменным и никому не нужным.
Соседи привыкли, что зимой тут тихо. Семья, которой дом принадлежал, появлялась редко: летом подросток гонял мяч, пожилой мужчина курил на крыльце, женщина поливала из зелёной лейки розы и ругалась на муравьёв. Зимой окна становились ровными прямоугольниками льда, и дом делался прозрачным, словно изнутри его вытряхнули. В эту зиму люди на участке не появлялись вовсе – разве что пару раз видели, как белый «пикап» подруливал к воротам, стоял минут десять, потом уезжал, оставляя полосу из двух гладких змей на свежем снегу.
Первым заметил дым дворник посёлка – высокий, сухой мужчина по имени Левон, работавший здесь третий сезон. Он приехал с утра к пруду, чтобы расчистить лопатой переправу для рыбаков, и заметил, что от дома на углу идёт тонкая белая струя, не похожая на печной пар. Он стоял с лопатой, щурился, различая, откуда «идёт», и не верил глазам: белая нитка поднималась не из трубы – а где-то из-за веранды, у самого окна.
– Замёрзло, что ли, – буркнул он, решив, что трубу прихватило морозом, насупился и поехал ближе на своём старом «уазике».
Дверь веранды была приоткрыта. Он взялся за ручку и ощутил липкость тонкого скотча, в который вплавились песчинки, похожие на янтарные осколки. Внутри пахло странно: запах не густой, не удушливый, не тот, что заставляет кашлять, а тонкий, неприятно сладковатый, похожий на то, как пахнут дешёвые свечи, если их поджечь и тут же задуть; и ещё – что-то от машинного масла. Левон тихо позвал: «Кто есть? Эй». Никто не ответил. Он шагнул внутрь, согнул спину, чтобы не зацепить бьющийся о стекло засохший плющ. И остановился.
В комнате, которая когда-то была столовой, а потом стала «проходной», на полу у стены лежала тёмная, почти чёрная лужа неправильно круглой формы. По краям её шёл градиент: от плотного чёрного – через серое – к тонкой корочке, как у лужи, которую прихватил краткий мороз. В этой корке застыл рисунок – морщины, пупырышки, маленькие островки, похожие на стеклянные пуговки. Над лужей воздух был ощутимо теплее, но не жаркий, нет, скорей, как над лампой, которую только что выключили. В нескольких местах от пола шли тонкие неровные струйки пара; и, казалось, что воздух выдыхает.
Левон не сразу понял, что видит. Сначала он отметил лампу без плафона, лежащую на боку; потом – опрокинутый стул, ножки которого цеплялись за коврик; потом – на столе под окном старый приёмник, тяжёлый, с металлической решёткой и шкалой, где зелёная стрелочка застыла между непонятными делениями. На столе валялись какие-то обломки пластика, спичечный коробок – та самая старая «Балтийская серия»: с синей фигуркой женщины в платке на белом фоне, и рядом – маленький, улыбающийся, как ребёнок, стеклянный шарик, в котором вместо снежинки была пыль.
Ещё через секунду Левон увидел то, чего не хотел видеть. Тёмная лужа была не просто лужей, и корочка по краям её скрывала обугленную, слипшуюся массу, напоминающую оплавившуюся ткань – и не только ткань. Вдоль плинтуса мелькнуло тёмное, как обгоревшая косточка, – фаланга? и он резко отступил, ударился закоченевшей лопатой о косяк, выругался на армянском и, не оглядываясь, выскочил в снег, где воздух резанул лёгкие так, что начало тошнить.
Он не был трусом. Он работал на мясокомбинате и видел, как режут туши, и мыл руки в воде с жиром и кровью. Но это было другое. Это не было похоже на пожар – нет вулканического совпадения огня и хаоса, нет того, что остаётся после огня: осевшей на волосы копоти, запаха сырых досок, крошек гипса. Здесь был чужой, искусственный порядок. Как если бы кто-то в этой комнате хотел получить не «огонь», а результат – быстро и без свидетелей, и чтоб огонь ничего лишнего не тронул.
Левон стоял у ворот, держал телефон и никак не мог нажать зелёную кнопку. Он вдруг почувствовал, что у него стучат зубы. И в этой дрожи было не то, что замёрз – было ощущение, будто сейчас позвонит – и что-то уже началось, придёт, надвинется. Нажал. Сказал куда. Сказал тише, чем обычно: «Похоже… Человек. Сожжённый. Не знаю».
Пока они ехали, соседка из дома через два – Александра Фёдоровна, сухая, как кофейное зерно, женщина с внимательными глазами, – вытащила из укромного места термос и кастрюлю: «на всякий случай, всегда должно быть под рукой». И вдруг она услышала из дома странный звук – будто в огонь бросили мокрое полено, и оно зашипело, выпуская пар. Александра выглянула во двор: у ворот стоял Левон, держа телефон обеими руками.
– Господи, только не опять, – сказала она. В её памяти был один пожар – пять лет назад, летом, когда горел дом у дороги, – и она не могла забыть звук, с которым падает скат крыши и ломается под собственным весом.
Первым приехал участковый – молодой, с русым хвостиком под шапкой, в машине с мигалками, но без лишнего шума. Увидел Левона, увидел приоткрытую калитку. Спросил только: «Вы заходили внутрь? Что-нибудь трогали?» – и не дождался, отошёл к веранде, сделал вдох и вошёл.
Пахло не так, как на улице: сладковатая нота давала крошечную тошноту. На столе у окна он, как и Левон, мгновенно увидел приёмник. Опытным глазом отметил: кнопки не нажаты, тумблеры в нейтральных положениях. Шкала пыльная. На подоконнике – след от кружки, тёмный круг с рваными краями. На полу – сухие, белёсые крупинки, как если бы кто-то просеял щепотку соли. Несколько крупинок поблёскивали радужными очками, если сдвинуться на полшага и поймать свет.
У плинтуса лежал огрызок пластикового кожуха – он заметил его не сразу, потому что тот сливался с тенью. Пластик оплавился по краю и застыл, как слеза, которая не успела упасть. У окна – на рамe – тонкая вялая капля прозрачной массы, затвердевшей в форме серпа.
Участковый медленно подошёл к тёмному пятну, попытался обмануть глаза: как всегда, мозг ищет в хаосе знакомую фигуру – простыню, валенок, коврик. Но это было тело. Тело, от которого осталась тяжёлая, обвязнувшая у самой земли тьма, и в этой тьме – угадывалась поза: едва согнутые, близкие к себе ноги, один плечевой «выступ», где кожа превратилась в коричневую кожу без человека под ней, и один неловкий изгиб, похожий на упавшую рамку. Он вцепился пальцами в блокнот, который лежал на краю стола. Тонкий, с тиснёной крышкой, какой бывает в сельских библиотеках, из тех, где подписывают «Декада чтения». Листы пожелтели, по краю – слегка съеденный мышью уголок.
Он не хотел открывать его. Служебная осторожность и личное, тонкокожее: «Не надо. Всё равно сейчас приедут те, кто знает лучше тебя». Но рука сама перевернула обложку. На первой странице – ничего: колоночный штамп «Субъект» и «Дата». На второй – строки, в которых чужая рука записывала аккуратно, как урок каллиграфии: «4972 – 21:35 Z – 51», «5250 – 06:10 Z – 43», «4385 – 20:10 Z – 09». И короткие слова на полях: «жен. голос», «шум низкий», «вода». Он не понимал, что это значит. Он не был радиолюбителем, и «Z» для него было только буквой, не временем; и «51» ничего не говорило. Он только ощутил, как от этих цифр, от их правильности, от этой школьной аккуратности, у него по коже побежали мурашки, пробирая до костей. В такие моменты вспоминается какая-то ни к селу ни к городу фраза: «чужой порядок страшнее чужого беспорядка»