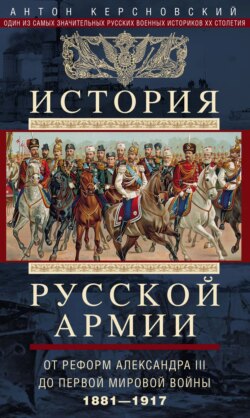Читать книгу История русской армии. Том 2. От реформ Александра III до Первой мировой войны. 1881–1917 - Антон Керсновский, Антон Антонович Керсновский - Страница 2
Часть первая
1881–1915
Глава 1
Застой
Закат петровской империи
ОглавлениеЦарствование императора Александра III именуется «эпохой реакции». Если слово «реакция» понимать в его обывательском и упрощенном смысле как противовес «либеральным реформам», усиление полицейских строгостей, стеснение печати и т. п., то этот термин здесь, конечно, уместен. Но если под «реакцией» понимать ее первоначальное (и единственно правильное) значение, то характеризовать этим клиническим термином внутреннюю политику Российской империи 80-х и 90-х годов не приходится. Реакцией называется активное противодействие разрушительным возбудителям человеческого организма (а перенеся этот термин в плоскость политики – организма государственного). Противодействие это вращается в выработке организмом противоядий этим разрушительным началам (в государственной жизни эти противоядия именуются национальной доктриной – твердой народной политикой).
Никакого противоядия разрушительным началам, все быстрее расшатывавшим здание построенной Петром империи, в русском государственном организме выработано не было. Болезнь все ширилась и въедалась в этот организм, нисколько ей не сопротивлявшийся и не хотевший ей сопротивляться. Общество радостно приветствовало раковую опухоль на своем теле, ожидая от этой опухоли своего чудодейственного перерождения. Правительство, предоставленное своим силам, действовало неумело, а зачастую и неумно. Вся его работа в этот период сводилась к борьбе с наружными проявлениями этой болезни, к стремлению загнать ее вовнутрь организма. На корень зла не было обращено никакого внимания – его не замечали и не хотели замечать.
Этот корень зла заключался в изношенности и усталости государственного организма. Здание Российской империи было выстроено на европейский образец конца XVII – начала XVIII столетия. Выстроенный на сваях в северных болотах блистательный «Санкт-Питербурх» являлся живым воплощением великой, но чуждой народу империи. Эти петровские сваи за два столетия подгнили. Вместо того чтоб их заменить более прочными устоями, к ним лишь приставили подпорки в надежде на спасительное «авось».
Государственная машина износилась. Петр I лишил ее могучего духовного регулятора, сообщив ей взамен свою мощную инерцию. Но инерция эта к половине XIX века иссякла, и машина стала давать перебои. Необходим был капитальный ремонт, а ограничились лишь заменой (в 1860-х годах) нескольких особенно сносившихся ее частей.
При таких условиях три устоя русской государственной жизни, правильно формулированные Победоносцевым, теряли свою силу и вообще оказывались неприменимыми. Православие выражалось в вавилонском пленении церкви у светской власти, что неизбежно атрофировало церковное влияние на страну и приводило к духовному оскудению общества, а затем (не в такой, правда, степени, но все же значительному) к духовному оскудению народа.
Самодержавие сводилось к пассивному следованию по раз навсегда проторенной бюрократической – «шталмейстерско-столоначальной» – дорожке, в пользовании уже износившейся и обветшалой государственной машиной и в отказе от какой бы то ни было созидательной, творческой инициативы. Народность постепенно сузилась, перейдя с имперской установки на узкоэтническую, отказавшись от широкого кругозора имперской традиции и пытаясь создать одно великорусское царство от Улеаборга до Эривани и от Калиша до Владивостока. Александр III сказал: «Россия – для Русских», не совсем удачно выразив прекрасную по существу мысль. Екатерина сказала бы: «Россия – для Россиян».
Весь трагизм положения заключался в том, что правительство видело одну лишь дилемму: либо сохранить существовавший строй в его полной неприкосновенности, либо пуститься в различные демократически-либеральные реформы, которые неминуемо должны были бы повлечь за собой крушение государственности и гибель страны. Но оно не замечало третьего выхода из положения: обновления государственного организма не в «демократически-катастрофическом» духе «влево» (как то в конце концов случилось в 1905 году), а в обновлении его «вправо» – в духе сохранения всей неприкосновенности самодержавного строя путем применения его к создавшимся условиям, отказа от петровско-бюрократически-иноземного его уклада, поведшего к разрыву некогда единой российской нации и утрате правительством пульса страны. Этот третий путь стихийно чувствовался славянофилами, но они не сумели его формулировать, не владея государственной диалектикой.
Правительство же царя-Миротворца этого пути не замечало. Обширному и холодному государственному уму Победоносцева не хватало динамизма, действенности. Он правильно поставил диагноз болезни, формулировал даже «троичное» лекарство против нее, составить же правильно эти лекарства и правильно применить их не сумел. Быть может, потому, что больной ему уже казался неизлечимым. Этому ледяному скептику не хватало пламенной веры в свою страну, ее гений, ее великую судьбу. «Россия – ледяная пустыня, – говорил он, – и по ней бродит лихой человек». Люби он Родину-мать любовью горячей и действенной – он этих слов, конечно, никогда не сказал бы.
В 80-х годах можно было бы совершить многое, не спеша перестроить государственную машину, влив старое вино в новые прочные мехи. Но ничего не было сделано – и двадцать лет спустя вступивший в полосу бурь русский государственный корабль взял курс на оказавшийся тогда единственно возможным, но фатально гибельный путь – на путь смертоносных реформ «влево».
Твердо, властно и спокойно вел император Александр Александрович Россию по великодержавному ее пути. В царствование его не случилось войн, как не случилось больших сражений в командование его Рущукским отрядом. Все решения по внешней политике принимались государем лично. Должность государственного канцлера была упразднена, министр же иностранных дел Гирс был низведен фактически до положения письмоводителя при государе.
Александр III следовал мудрому правилу: показать вовремя свою силу, чтобы отбить охоту у других ее испытывать. Англия увидела это в 1885 году. Кушка знаменовала собой конец наглой политики Пальмерстона – Дизраэли и с той поры – до русофобского взрыва 1904 года – антирусская политика Англии велась в «подполье». Что касается Германии, заключившей с Австро-Венгрией военный союз против России, то она убедилась в дальнейшей невозможности загребать жар русскими руками. Попытка Бисмарка создать в пользу Германии «союз трех императоров» успехом не увенчалась. Хитроумной его «системе перестраховок» наступил конец. Александр III проникал насквозь германскую игру, и Скерневицкий смотр 1888 года, где государь любезно чествовал двух немецких императоров – шефов варшавских гренадер, означал в то же время окончание химеры «монархического интернационала», успевшей в три предыдущих царствования принести России столько вреда.
Сближением с Францией царь-Миротворец восстановил европейское равновесие, нарушенное в Версале январским событием 1871 года и агрессивным Тройственным союзом Центральных держав в 1879 году. Посещение французской эскадрой Кронштадта в 1891 году, подписание оборонительной франко-русской конвенции (Обручев – де Буадефр) в 1892 году, ответный визит русского флота в Тулон в 1893 году положили основу франко-русскому союзу.
Сближение это, полагавшее предел наступательным намерениям вдохновляемого Германией Тройственного союза, чрезвычайно встревожило Вильгельма II. Молодой кайзер решил во что бы то ни стало сорвать его в зародыше. Воспользовавшись панамским скандалом, он предпринял смелую, неслыханную по своей бестактности в истории дипломатии выходку, но выходка эта успехом не увенчалась. В списке «панамистов» значился загадочный инициал «М».
Часть французского общественного мнения, не без участия русских нигилистов, заподозрила российского посла в Париже барона Моренгейма. Немедленно же Вильгельм II отправил в Париж громовую ноту протеста «от имени всех монархий мира» (кайзер питал болезненную страсть к эффектным позам, театральным жестам и трескучим фразам). Попытка Вильгельма создать франко-русский инцидент и раздуть его в конфликт закончилась полной неудачей. Александр III дал сразу ему понять, что российские послы в защите посторонних не нуждаются.
Другим большим делом Александра III было воссоздание морского могущества России. В предыдущее царствование морское дело было в пренебрежении. Отсутствие сильного флота лишило Россию значительной части ее великодержавного веса и пагубно сказалось на ходе войны 1877–1878 годов. Александр III положил начало броненосным эскадрам вместо легких флотилий корветов и клиперов и воссоздал в 1886–1889 годах Черноморский флот. Корабли было поведено строить русским инженерам, на русских заводах, из русских материалов. Принятый в то же время закон о «цензах» весьма понизил качество старшего командного состава флота.
Финансовое состояние страны было отличным. Бунге и Вышеградский превратили золотой рубль в самую устойчивую и солидную денежную единицу в мире. Наконец, в 1891 году положено начало Великому Сибирскому пути – сделан огромный шаг вперед к познанию России. Закладку его произвел цесаревич Николай Александрович во время своей поездки на Дальний Восток.
Другие отрасли государственной жизни получили менее удовлетворительное развитие. Аграрная политика основывалась на сохранении земельного коммунизма – любезной славянофильским теоретикам «общины». Крестьянин так и не получил клочка своей собственной земли, о которой мечтал. Народное просвещение было в загоне. Грамотность распространялась туго, средняя же школа была задушена злосчастной системой «классицизма». Система эта, существовавшая с 1876 по 1903 год, характеризовалась исключительным увлечением древними языками при полном пренебрежении к остальным предметам. На латынь и древнегреческий языки полагалось 2600 часов гимназического курса, тогда как на отечествоведение – русскую историю, географию и словесность – 600.
Искусственно создавался тип лишних людей, многому ученных и ничему не обученных, – тип «чеховского интеллигента», тип мечтателя чужой старины, ревнителя чужеземной культуры, презирающего свое русское по неведению. Насадитель «классицизма» граф Д.А. Толстой скопировал германскую классическую программу (во многом ее утрировав), забыв, что германская культура имеет своим фундаментом римскую, тогда как русская культура (первоисточником которой явилось православие) имеет совершенно другие корни. Немецкая классическая система, пересаженная на русскую почву, оказалась «ложноклассической», лишенной корней. Классические гимназии Толстого – Делянова были таким же насилием над природой русских людей, как военные поселения первой трети столетия. Уклад их, превращавший учителей в тюремных надзирателей, а учеников – в поднадзорных, действовал растлевающе. Они сыграли большую и печальную роль в угашении духа русского общества, дав поколение Керенского и Ленина. От классической системы пострадала и армия, офицерский корпус которой стал пополняться убоявшимися премудрости гимназистами.
Император Александр II был убит в тот день, когда хотел подписать конституцию, составленную Лорис-Меликовым – посредственным военачальником и слабым политическим деятелем. Не будь злодеяния на Екатерининском канале, день 1 марта 1881 года все равно не принес бы счастья России. Конечно, «меликовская» конституция была куда осторожнее и приемлемее той, «портсмутской», что была навязана впоследствии 17 октября, но тут важно начало. В этого рода машину достаточно вложить палец для того, чтобы рука оказалась отхваченной по самое плечо. Существуй в России конституция с 1881 года, страна не смогла бы пережить смуты 1905 года, и крушение бы произошло на 12 лет раньше. Александру III, отвергнувшему по совету Победоносцева меликовский проект, Россия обязана четвертью столетия блестящей великодержавности. Перед Российской империей заискивал, ее боялся весь мир. Никогда она не казалась внешне столь могущественной, как в те дни уже начинавшегося заката. Никто не слышал зловещего потрескивания внутри величественного здания, а кто и слышал – не придавал тому особенного значения. Могущество России казалось безграничным, подобно тому, как казались безграничными сила и здоровье ее исполина царя. Он сгорел в несколько недель, в расцвете сил – всего 49 лет от роду.