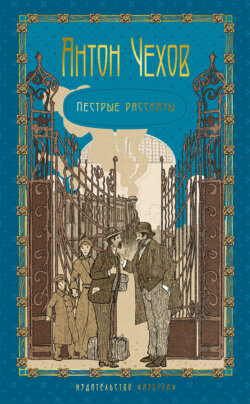Читать книгу Пестрые рассказы - Антон Чехов, Anton Czechow, Anton Chekhov - Страница 6
Рассказы из жизни моих друзей{1}
«Детвора» и «Пестрые рассказы»
Чехонте для Чехова: поиски и находки
ОглавлениеВ записной книжке Чехова сохранилась притча из «Заметок о жизни» А. Доде: «„Почему твои песни так крат ния?“» – „У меня очень много песен, и я хотела бы поведать их все“».
Чеховская краткость на первых порах была печальной необходимостью. Петербургские «Осколки» и другие журнальчики, в которых он сотрудничал, публиковали «мелочишки» в две-четыре страницы. Дополнительные странички, как и право сочинить что-то без сугубой насмешливости, приходилось выпрашивать у редактора как особой милости.
Но когда нужда в формальных ограничениях исчезла, привычка или изначальное писательское свойство писать кратко остались и даже стали предметом особой гордости. «Умею коротко говорить о длинных предметах» (Е. М. Линтваревой, 23 ноября 1888 г.; П 3, 76). «Приготовляю материал для третьей книжки («Хмурые люди». – И. С.). Черкаю безжалостно. Странное дело, у меня теперь мания на все короткое. Что я ни читаю – свое и чужое, все представляется мне недостаточно коротким» (А. С. Суворину, 6 февраля 1889 г.; П 3, 145).
Коротко о длинных предметах позволяла сказать прежде всего деталь (потом ее стали привычно называть чеховской). Она заменяла подробные, развернутые романные описания штрихом, намеком, по которому внимательный читатель мог (и должен был) восстановить целое.
«По моему мнению, описания природы должны быть весьма кратки и иметь характер propos (кстати. – И. С.). Общие места вроде: „Заходящее солнце, купаясь в волнах темневшего моря, заливало багровым золотом“ и проч. „Ласточки, летая над поверхностью воды, весело чирикали“, – такие общие места надо бросить. В описаниях природы надо хвататься за мелкие частности, группируя их таким образом, чтобы по прочтении, когда закроешь глаза, давалась картина. Например, у тебя получится лунная ночь, если ты напишешь, что на мельничной плотине яркой звездочкой мелькало стеклышко от разбитой бутылки и покатилась шаром черная тень собаки или волка и т. д.» (П 1, 242), – наставляет Чехов старшего брата Александра. Эту деталь он использует в рассказе «Волк», а потом, еще раз сократив, подарит в «Чайке» писателю Тригорину.
Тот же принцип краткости и точности применяется к изображению человеческой психологии. В повести «Скучная история» нам позволено прочесть в письме одного из героев лишь «кусочек какого-то слова „страстн…“». И за этим кусочком (конечно, соотнесенным с развитием фабулы) встает драматическая история его трепетно-неразделенной любви.
«Чехов совершил переворот в области формы. Он открыл великую силу недосказанного. Силу, заключающуюся в простых словах, в краткости»[18].
В наследство от Антоши Чехонте Чехов взял и другое: внимание к сиюминутности, интерес к самым разным сторонам человеческой жизни. Чеховские тексты необычайно информативны: дамские моды и дачные радости, профессорские лекции и каторжные работы, газетные объявления и церковные службы, свадьбы, погребальные обряды, громкие судебные процессы – чего только не отразилось в этих коротких рассказах и тоже недлинных повестях.
Круг затронутых тем и предметов, а значит, и соответствующих жанров кажется поначалу необъятным. Чехов занял бы, вероятно, если бы захотел, место «жанриста», создателя увлекательных фабульных произведений, с юмором, приключениями, броскими типами-клише, – место, так и оставшееся в русской литературе XIX в. вакантным.
Но, публикуя все это, писатель еще в 1880-е гг. делает выбор, сознательно отсекая, отбрасывая все эффектное, броское, экзотическое. «„Знаете, как я пишу свои маленькие рассказы?.. – услышит от него пришедший познакомиться Короленко. – Вот“. Он оглянул стол, взял в руки первую попавшуюся на глаза вещь, – это оказалась пепельница, – поставил ее передо мною и сказал: „Хотите – завтра будет рассказ… Заглавие «Пепельница». И глаза его засветились весельем“»[19].
Лет через пятнадцать более молодой собеседник, чеховский знакомец уже ялтинских времен, А. Куприн, услышит от него нечто похожее. «Он требовал от писателей обыкновенных, житейских сюжетов, простоты изложения и отсутствия эффектных коленец. „Зачем это писать, – недоумевал он, – что кто-то сел на подводную лодку и поехал к Северному полюсу искать какого-то примирения с людьми, а в это время его возлюбленная с драматическим воплем бросается с колокольни? Все это неправда, и в действительности этого не бывает. Надо писать просто: о том, как Петр Семенович женился на Марье Ивановне. Вот и всё“»[20].
Два типа фабулы, две эстетические тенденции, если угодно – две литературы воспроизведены Чеховым виртуозно. Роман приключений (нечто в духе Жюля Верна, которого Чехов специально пародировал еще в 1882 г.), разбавленный философией (не покорять полюс спешит герой, а искать примирения с людьми) и сдобренный обязательной любовной интригой, подвергается экзекуции смехом. Ему противопоставляется простая-простая история о Петре Семеновиче и Марье Ивановне, Пете и Маше.
Такова сверхкраткая формула чеховского рассказа и повести: обычный, ничем не примечательный человек в обыденных обстоятельствах, «реализм простейшего случая» (Г. А. Бялый).
«Вот меня часто упрекают – даже Толстой упрекал, – что я пишу о мелочах, что нет у меня положительных героев: революционеров, Александров Македонских или хотя бы, как у Лескова, просто честных исправников… А где их взять? Я бы и рад! – Он грустно усмехнулся. – Жизнь у нас провинциальная, города немощеные, деревни бедные, народ поношенный… Все мы в молодости восторженно чирикаем, как воробьи на дерьме, а к сорока годам – уже старики и начинаем думать о смерти… Какие мы герои!»[21]
Чеховская жизнь легче всего определяется отрицательно. Это жизнь без войны, без всеобщих катаклизмов, без особых приключений. Нормальная жизнь, уклонившаяся от нормы: «Норма мне не известна, как не известна никому из нас» (А. Н. Плещееву, 9 апреля 1889 г.; П 3, 186).
В ней если и происходят дуэли, то они кончаются примирением. Если и убивают, то не патологические злодеи или философы-экспериментаторы (как у Достоевского), а случайные заблудшие души или бабы-приобретательницы, избавляющиеся от возможных наследников.
«Сергеенко пишет трагедию из жизни Сократа. Эти упрямые мужики всегда хватаются за великое, потому что не умеют творить малого, и имеют необыкновенные грандиозные претензии, потому что вовсе не имеют литературного вкуса, – иронизировал Чехов, узнав, что его таганрогский земляк и соученик по гимназии взялся за идейную драму. – Про Сократа легче писать, чем про барышню или кухарку» (А. С. Суворину, 2 января 1894 г.; П 5, 258).
Он сам мог писать и о Сократе, но поставив его в ту же ситуацию, что и кухарку.
Любого человека – монаха, нищего, чиновника, университетского профессора, институтку и «падшую женщину», ребенка и старика – Чехов испытывает общими обстоятельствами: богатством и нищетой, любовью и ненавистью близких, болезнью и смертью. Меняются имена, интерьеры и пейзажи, но постоянно воспроизводятся, повторяются ситуации, в которых оказывается (может оказаться) практически каждый из нас. В кратких, «короче воробьиного носа», рассказах неспешно развертывается извечная драма человеческой жизни – «скучная история». Чеховский герой проходит предназначенный ему (автором и обстоятельствами) путь.