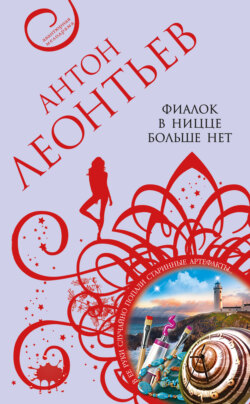Читать книгу Фиалок в Ницце больше нет - Антон Леонтьев - Страница 2
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеХорошие художники копируют, великие художники воруют.
Пикассо
То, что с дедушкой что-то не так, Александра поняла почти сразу: он всегда звонил ей в половине седьмого утра в будние дни, а на сей раз этого не произошло.
А ведь он был так пунктуален – и этот звонок являлся одной из его чудинок. Тех самых, которых у дедушки было предостаточно, после трагической смерти ее родителей он сильно сдал, и немудрено.
Однако любила Саша его из-за этих причуд ничуть не меньше, а, вероятно, даже и больше. В конце концов, ведь не у каждого дедушка – академик!
А у нее и академик, и профессор, и доктор наук, причем дважды, и декан, пусть и бывший.
Но дело в то хмурое февральское утро, столь типичное для зимнего Ленинграда, было, конечно же, не в этом. Она-то и не сразу заметила, что дедушка не позвонил: только уже встав, умывшись и позавтракав (то есть проделав тот самый ритуал, который стал у нее обязательным после того… после того, как родители прошлым летом не вернулись с Памира), когда Саша уже оделась и собиралась в Академию, она вдруг поняла: чего-то не хватает.
Не хватало, конечно же, чужих конспектов по курсу «Творческое восприятие. Диалог с произведением» истории искусств, которые она обещала переписать и вернуть в понедельник (первого она не сделала, однако это была не причина не возвращать, тем более что наступил уже вторник), и, судорожно отыскивая их среди вороха бумаг на бывшем рабочем столе отца, ставшем после гибели хозяина на Памире ее рабочим столом, наконец-то обнаружила искомое под кипой ярких зарубежных журналов, принадлежавших маме.
Журналы пришли по почте уже после ее смерти.
Засовывая чужие, так и не переписанные конспекты в портфель, Саша про себя усмехнулась: строгий дедушка, конечно же, не стал бы гордиться такой нерадивой студенткой, какой являлась его единственная внучка-второкурсница.
Благо, что в свое время она сумела настоять на своем и не пойти по стопам отца или деда, вместо географии, которой занимались они оба, выбрала искусствоведение, а вместо Ленинградского государственного университета – Академию художеств имени Репина, знаменитую Репинку.
Мама ее в этом горячо поддержала, хотя ведь дедушка не сомневался, что внучка, как и он сам, как и его сын, отец Саши, посвятит себя геоморфологии – науке о возникновении Земли и происходящих в ее рельефе процессах, в которой дедушка-академик давно был корифеем, а отец-профессор обещал вскоре сделаться таковым.
Да, мама единственная поняла и поддержала ее, и им вместе пришлось убеждать своих упрямых любимых мужчин, доказывая, что эта самая геоморфология – не ее. Отец вроде бы понял и смирился, а дедушка и не понял, и не смирился, все надеясь, что внучка переменит решение и рано или поздно бросит эту благую затею с искусством и поступит на географический факультет Ленинградского государственного университета, которым он до недавних пор бессменно руководил в течение почти двух десятков лет.
Саша знала, что серьезный разговор намечался на конец лета, после возвращения родителей, альпинистов-любителей, с Памира. И что в центре этого серьезного разговора опять же были бы ее жизненная стезя и переход в ЛГУ на географический факультет.
Только вот родители в прошлом августе с Памира не вернулись, оставшись там навечно: они, как и еще несколько альпинистов-любителей, погибли в сошедшей лавине, которая навсегда погребла их под собой.
Разговора о том, чтобы перейти в ЛГУ, не последовало, хотя Саша ждала, что теперь-то дедушка задействует все регистры, чтобы настоять на своем. И ведь она не смогла бы ему отказать, хотя прекрасно понимала: геоморфология – ну совсем не ее!
Однако дед, видимо потрясенный смертью сына и невестки, замкнулся в себе, стал еще больше чудить и теперь уже практически не покидал свою большую квартиру на Петровской набережной, давно уже являвшуюся его личной крепостью и музеем.
А теперь и персональной тюрьмой.
Да, дедушка… Она думала о нем каждое утро, и едва это происходило, раздавался его звонок: ровно в половине седьмого, ни минутой раньше, ни минутой позже.
И только засовывая чужие, так не переписанные конспекты в портфель, Саша поняла: в этот февральский вторник дед так и не позвонил.
Неужели она так рано поднялась, хотя всегда любила поспать?
Часы показывали почти восемь.
Подойдя к большому кнопочному телефону, Саша подняла трубку – неисправен, что ли? Да нет же, раздался непрерывный зуммер: телефон вполне себе работал.
Но почему же дедушка тогда не позвонил?
Чувствуя, что у нее екает сердце, а под ложечкой посасывает, Саша быстро набрала его номер. Дедушка вообще-то не любил, когда ему звонят, предпочитал делать это сам, однако в этот раз можно было нарушить столь милые его сердцу ритуалы.
Никто не брал трубку.
Выждав несколько мучительных минут и сосчитав количество гудков (двадцать два), Саша повесила трубку, чтобы тотчас позвонить снова.
Нет, дедушка, конечно же, давно встал – он всегда поднимался рано, а после смерти родителей просыпался в три, а то и в два часа ночи, предпочитая работать в своем кабинете.
Ну или заниматься своей коллекцией, которая теперь, после гибели Сашиных родителей, стала в его жизни всем – хотя, наверное, являлась этим и до того.
Ну да, что у него еще оставалось – коллекция картин да внучка Александра.
Та самая, которая никак не хотела заниматься геоморфологией.
Понимая, что что-то случилось (ни в какой гастроном дедушка, конечно же, не ушел, хотя под домом располагался знаменитый «Петровский»), она судорожно размышляла, что же делать.
В Репинку не поедет, а отправится к дедушке, чтобы проведать его. Только вот загвоздка в том, что ключей от дедушкиной квартиры у нее нет. Их ни у кого не было, даже в свое время у родителей: дедушка никому их не оставлял, панически переживая за свою коллекцию картин.
Ту самую, которая стала теперь, после смерти ее родителей, смыслом его жизни.
Да и ключей было, надо сказать, много: дверь в квартире дедушки в знаменитом Втором доме Ленсовета на Карповке, так называемом «Дворянском гнезде», обиталище советской элиты, в основном интеллектуальной, педагогической и творческой, была бронированной – прямо как в банке.
А количеству замков в этой бронированной двери мог бы позавидовать сам Шеф из «Бриллиантовой руки» – и с годами их число только увеличивалось. Ну да, был у дедушки этот самый «пунктик» насчет безопасности его обширной коллекции картин русского искусства, в основном (но не только) русского авангарда, которую он собирал чуть ли не всю свою жизнь и которая была его главным и, вероятно, единственный детищем – и до гибели Сашиных родителей на Памире, и уж точно после.
Это всегда казалось ей странным: дедушка не только в геоморфологии разбирался лучше всех в стране, являясь специалистом мирового уровня, одним из признанных международных научных авторитетов по тектонике литосферных плит, но и в русской живописи конца девятнадцатого – начала двадцатого века.
Образчики которой украшали стены его квартиры на Карповке.
И при этом он был категорически против, чтобы его единственная внучка поступила в Академию художеств имени того самого Репина, портрет работы которого в коллекции дедушки также имелся, и он им особенно дорожил – наряду с портретом кисти Пикассо.
На полотне Репина была запечатлена бабка дедушки, дочка миллионщика Каблукова, а на холсте Пикассо так называемого «голубого» периода – дедова мамушка в детском возрасте: Пикассо, согласно семейной легенде, написал этот портрет в течение одного сеанса в Париже, куда бабушка и матушка деда прибыли в начале века, за целых двести франков.
Причем для дедушки это была никакая не легенда, а быль, да и сходство Сашиной прабабки на фотографии со смурной, будто мучившейся зубной болью, не очень красивой девочкой в матросском берете с полусгрызенным леденцом на палочке на небольшом полотне работы французского мастера было более чем явным.
И дедушка не раз повторял, что он единственный в СССР человек, у которого в частной коллекции находится полотно работы Пикассо. Ну и, помимо этого, и Репина.
Он гордился, что сумел-таки прорваться на выставку Пикассо, которая проходила в Ленинграде в декабре 1956 года на третьем этаже Эрмитажа, и после этого написал восторженное письмо Пикассо во Францию, причем на французском (которым, как и английским, дедушка благодаря своей матушке, запечатленной этим самым Пикассо, и бабуле, увековеченной Репиным дочке миллионщика, владел если не как родным, то почти как – и сумел привить его и сыну, и внучке), однако ответа, конечно же, если таковой вообще был, не получил.
СССР после трагических событий в прошлом августе не стало (как, впрочем, и Сашиных родителей: они погибли ровно за неделю до путча, так что вся политическая катавасия, имевшая место уже после трагедии на Памире, прошла мимо находившейся в погребальном трансе Саши), зато появились так называемые новые русские и даже какие-то там олигархи – так что вполне могло статься, что отныне дедушка являлся не единственным частным владельцем картин Пикассо и Репина на территории СССР, ныне уже бывшего.
Наконец-то дедушка взял трубку.
– Доброе утро, деда! – бодро произнесла Саша, прекрасно помня, что дедушка терпеть не мог, если она не здоровалась, хотя в данном случае было бы оправданно сразу начать с места в карьер. – У тебя… у тебя все в порядке?
Вопросов о своем здоровье дедушка терпеть не мог, однако должна же она знать, отчего он не позвонил ей в половине седьмого.
Ведь он всегда звонил в половине седьмого в будни и половине восьмого в выходные.
А уже было начало девятого.
Ответа не последовало.
– Деда? – переспросила Саша, слыша, однако, в телефонной трубке странное дыхание. – Что с тобой, деда?
Ответа опять не было, и только через какое-то время до нее донеслось странное мычание:
– Ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы….
А потом связь оборвалась.
Ей понадобилось около получаса, наверное самых страшных получаса ее жизни (даже еще более страшных, чем те, когда она, получив известие о сошедшей на Памире лавине, оглушенная, ждала звонка с сообщением, были ли в числе пропавших альпинистов ее родители), чтобы добраться с Васильевского острова на Петроградскую сторону.
Запыхавшись (пользоваться лифтом она не стала) Саша взлетела на восьмой этаж пешком и замерла перед массивной дверью дедушкиной квартиры.
Может, стоило вызвать милицию? Может, заодно и «скорую»?
Обо всем этом она подумала, конечно же, уже после того, как, сорвавшись, бросилась на квартиру к дедушке. Ведь ему явно требовалась помощь – или нет?
Потому что никого из чужих в свою квартиру дедушка не допускал уже многие годы, наверное даже десятилетия: он замкнулся в себе после ранней смерти от рака бабушки, некогда прима-балерины Кировского театра, – в себе и в своей квартире.
И он панически опасался, что его ограбят, тем более с учетом раритетов, которые украшали все стены четырехкомнатной квартиры. Поживиться у дедушки было чем: картин в его коллекции имелось больше двухсот, если не все триста: точного перечня не было, потому что дедушка и названия, и мастеров, и обстоятельства создания и приобретения знал наизусть, не доверяя бумаге.
Саша принялась судорожно звонить в дверь, а когда никто не ответил, стала стучать в бронированное полотно, которое поглощало все звуки.
Дверь дедушка через своих знакомых в Госбанке делал, и обошлось это ему в копеечку.
Саша вдруг вспомнила, что дверь стоит на сигнализации и что, быть может, имеет все же смысл обратиться в милицию…
Но ведь дедушка, который однажды чуть с ума не сошел, когда по причине прохудившейся трубы все же пришлось впустить в квартиру чужих людей (сантехника), ее за это явно по голове не погладит.
Не бросать же дедушку на произвол судьбы в квартире, забитой сотнями картин!
Саша развернулась, чтобы спуститься вниз, твердо намереваясь позвонить от соседей в милицию, как вдруг раздался еле слышный щелчок – и дверь приоткрылась.
Девушка влетела в темный коридор.
– Деда, ну что такое! Я вся извелась…
И едва не полетела на пол, потому что натолкнулась на дедушку, лежавшего на полу, – он, видимо, из последних сил сумел доползти до двери и открыть ее.
Саша склонилась над лежащим на паркетном полу стариком – и ужаснулась: один глаз у него смотрел разумно, другой, словно в поволоке, был полуприкрыт веком. А из уголка рта текла слюна.
Неужели у него инсульт или что-то подобное?
Обняв старика, Саша прошептала:
– Деда, все будет хорошо, я тебе обещаю. Я вызову сейчас «скорую»…
Дедушка стал отчаянно издавать странные мычащие звуки, потому что говорить он не мог. Но Саша поняла: он не желает, чтобы внучка вызывала кого-нибудь.
Погладив его по морщинистому лицу и поцеловав в лоб, Саша произнесла:
– Деда, так надо, ты же все понимаешь, тебе плохо, тебе нужен врач…
Дедушка, даже сраженный инсультом (это Саша поняла по симптомам), не перестал быть сложным человеком и не намеревался отказываться от своих принципов: мыча, он давал внучке понять, что не желает, чтобы кто-то чужой оказался в его квартире.
Но не бросать же его умирать только потому, что он панически боится воров и ограблений!
И это при том, что о его коллекции никто толком и не знал: ходили, конечно, слухи, что у эксцентричного, ведущего крайне замкнутый образ жизни академика Каблукова имеется пара раритетных картин, но о том, что на самом деле это пара сотен или даже две пары сотен, никто наверняка не знал.
– Деда, тебе нужна помощь, – заявила назидательно Саша, чувствуя, что разговаривает словно с ребенком, – неужели ты предпочтешь… умереть, но никого в квартиру не впустить?
А ведь вполне мог: если бы он не сумел доползти до двери и впустить ее, то пришлось бы вызывать милицию и взламывать это банковское хранилище.
И дело не в том, что тогда бы в квартиру попала масса посторонних, а в том, что длилось бы этого много часов, может, даже до вечера – и дедушка, кто знает, к тому времени вполне мог бы умереть.
А так он был еще живой, хотя и не в состоянии говорить и двигаться, и явно протестующий, судя по яростному мычанию.
– Я все двери в комнаты закрою, – пообещала Саша, хотя понимала, что снять десятки картин, висевших уже и в коридоре, вряд ли получится. – И в комнаты никого не пущу, обещаю!
А потом, несмотря на продолжавшиеся протесты дедушки, подошла к разбитому телефону, пищащая трубка которого валялась на полу (он, вероятно, приподнявшись с пола, сумел ее стянуть, а потом выронил из непослушных рук), положила ее на рычаг, а затем из кабинета дедушки, со второго аппарата, набрала «03».
Ждать пришлось недолго, «скорая» прибыла уже четверть часа спустя, и следя за тем, как миловидная энергичная фельдшерица делает дедушке инъекции, после которых тот успокоился, Саша поняла, что все сделала правильно и что дедушка теперь в надежных руках.
– Мы забираем вашего дедушку в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе, – произнесла энергичная фельдшерица, когда вместе со своим напарником, молодым прыщавым очкастым парнем, уложила дедушку на носилки. – Подозрение на ишемический инсульт…
Она сыпала медицинскими терминами, а Саша, таращась на притихшего дедушку, в ужасе думала о том, что спустя полгода после смерти родителей (тела их так и не нашли, но никто не сомневался: они, как и все прочие альпинисты, погибли) потеряет и единственного своего родного человека – дедушку.
– А это серьезно? Он будет жить?
Саша понимала, что вопросы, которые срывались с ее губ, банальны и даже глупы и что энергичная фельдшерица не может дать на них окончательного ответа, но разве она могла спросить что-то еще?
– Состояние серьезное и критическое, но не безнадежное, – заявила та и потрепала Сашу по плечу. – Вы единственная родственница или имеются и другие? Как нам с вами связаться?
Саша продиктовала номер телефона квартиры родителей, в которой теперь жила.
Теперь, после их гибели на Памире.
Тут дедушка, который, как она считала, был уже в медикаментозном забытьи, вдруг снова замычал, и энергичная фельдшерица заявила:
– Пациент, кажется, что-то хочет вам сказать.
Саша склонилась над дедушкой и вдруг поняла, что он пытается из последних сил что-то вложить ей в руку. Это была связка ключей, которую он до этого прижимал к животу.
– Ы-ы-ы-ы… Картины-ы-ы-ы-ы…
Погладив дедушке по небритой щеке, Саша заверила:
– Не беспокойся, деда, я за всем прослежу. Ты хочешь, чтобы я, пока ты в больнице, жила в твоей квартире, чтобы с картинами ничего не произошло?
Дедушка сжал ее руку. Ну да, он при смерти, а думает об одном: о своей коллекции…
– Да, конечно, все будет хорошо. Но теперь вам, деда, пора. Я тебя навещу в больнице!
– Ы-ы-ы-ы-ы!
Похоже, дедушка на полном серьезе хотел, чтобы она, как и он сам, не покидала его квартиру, охраняя его коллекцию. Ну уж нет!
– Так, нам в самом деле пора, вы закончили? – спросила энергичная фельдшерица. – Или хотите поехать с нами?
Дедушка снова подал голос, явно давая понять, чтобы Саша осталась.
– Разрешите воспользоваться вашей ванной? – спросила энергичная фельдшерица, и Саша провела ее к одной из двух, которые имелись в квартире дедушки, а потом опустилась на стоявший в углу стул и закрыла руками лицо.
И почему это все обрушилось на нее? Ей девятнадцать, а она уже круглая сирота. Родителям было чуть за сорок, а они погибли на Памире. Дедушку же накрыл инсульт, и кто знает, он, может быть, и не выкарабкается.
И что тогда?
Тогда, судя по всему, она останется одна-одинешенька: без единого ближайшего (да и дальнего) родственника, но зато с несколькими сотнями дедушкиных картин!
Оторвав руки от лица и стараясь удержаться от слез, Саша вдруг поняла, что дверь в ванную комнату открыта. Встав со стула, она прошла в одну из комнат, дверь которой она специально прикрыла – и которая стояла теперь нараспашку.
Энергичная фельдшерица, промаршировав обратно из ванной не к дедушке в коридор, замерла на пороге, обводя взором стены, которые снизу доверху были завешаны картинами – в рамах и без, большими и маленькими.
– У вас тут прямо Эрмитаж! – заявила она хрипло, и Саша смущенно добавила:
– Дедушка живописью интересуется.
Энергичная фельдшерица же, пройдя через всю комнату к большим, во всю стену, окнам, захлебнулась от восторга:
– У вас отсюда Спас на Крови виден! А Троицкий мост, если разводят, ведь наверняка тоже? Вот это вид! Не то что у меня в Мурине…
Саша почувствовала себя крайне неловко – ну да, государство выделило ее дедушке, академику, профессору, дважды доктору наук, многолетнему декану географического факультета МГУ, вице-президенту Географического общества СССР, одному из основателей и заместителю главного редактора специализированного журнала «Геоморфология», еще в конце шестидесятых квартиру во Втором доме Ленсовета на Карповке, при этом на последнем, восьмом, этаже.
Дедушка вечно боялся, что с крыши кто-то может спуститься и ограбить его, поэтому долго стремился переселиться на этаж или два ниже, но в итоге, к счастью, оставил эту затею, потому что она была бы сопряжена с переносом всей его коллекции чужими людьми.
Ну да, Саша была в глазах этой энергичной фельдшерицы белой костью, никчемной внучкой кабинетного ученого, к тому же создавшего свой собственный частный Эрмитаж, – и что с того?
Хотела бы эта энергичная фельдшерица, чтобы ее родители погибли при сходе лавины на Памире, а дедушку, единственного близкого родственника, хватил инсульт?
– Да, неплохо у вас тут, очень даже неплохо! – произнесла энергичная фельдшерица, осматриваясь по сторонам. – И как картин у вас тут много! Дедушкины?
Чувствуя, что праздное любопытство чужого человека ей неприятно, Саша ощутила небывалое облегчение, когда коллега фельдшерицы громко позвал ее, заявив, что им пора.
Уже в общем коридоре энергичная фельдшерица назидательно заметила:
– Вы держитесь, все будет хорошо!
Как все может быть хорошо, если уже плохо?
И только когда «скорая» увезла дедушку, Саша вдруг поняла, что знает лишь, что повезли его в НИИ имени Джанелидзе. До недавних пор НИИ располагался в центре, а потом переехал в Купчино.
Она даже толком не знала, как туда теперь добраться.
Чувствуя, что ей хочется плакать, Саша поднялась обратно на восьмой этаж, в опустевшую квартиру, забитую картинами и лишившуюся своего обитателя, дверь которой она, конечно же, несмотря на данные дедушке клятвенные обещания, попросту оставила открытой. Она долго возилась с разнообразными замками и сигнализацией (хорошо, что сразу после смерти родителей ей дедушка показывал: на всякий случай, и вот этот всякий и наступил), а потом, все же справившись, раскрыла окна и, несмотря на морозный воздух, достала пачку сигарет и закурила, глядя вдаль и стараясь ни о чем не думать.
Потому что было страшно.
Смена энергичной фельдшерицы Светланы Игнатьевны завершилась после трех, а домой, в пролетарское и расположенное на отшибе Мурино, она попала только под вечер. Дети, эти неблагодарные спиногрызы, конечно же, делать уроки и не намеревались, пришлось с ними снова собачиться – старшая вздумала дерзить, поэтому пришлось в воспитательных целях оттаскать ее за волосы, а младшенький снова стал ябедничать на сестру, за что получил подзатыльник, а потом примирительный поцелуй.
Со своим дорогим супругом, отцом этих спиногрызов, Светлана Игнатьевна рассталась еще три года назад, после того как пронюхала, что он изменяет ей с их лахудрой-соседкой. Она выгнала его из дома, а он, собрав свои манатки, переселился к этой самой соседке.
Эта сладкая парочка, ничего не стеснявшаяся, и не думала переезжать, а вместо того мозолила глаза Светлане Игнатьевне своим показушным семейным счастьем, которое увенчалось теперь рождением малютки, дочурки ее бывшего и лахудры-соседки.
Какое-то время Светлана Игнатьевна хотела отравить этих негодяев, даже всерьез размышляла о том, при помощи какого сильнодействующего медикамента из тех, к которым она, работая на «скорой», имела доступ, это сделать.
Но в итоге никаких таких глупостей не совершила, потому что судьба, вероятно смилостивившись, послала ей новое счастье: Гришу.
Гриша был большим, лысым и немногословным. И – тут отрицать было нельзя – похожим на хряка. Впрочем, в тех кругах, где он уже давно и тесно вращался, у него такое «погоняло» и было: Хряк.
А круги, в которых вращался Гриша, были, надо отметить, далеко не самые академические, скорее даже совсем не: Гриша, являвшийся членом того, что теперь в СМИ новой свободной России было принято именовать организованной преступной группировкой, отмотал четыре года на зоне. А познакомилась Светлана Игнатьевна с ним во время одного из своих вызовов – она оказала исполосованному ножом пациенту квалифицированную первую медицинскую помощь, не стала никуда сообщать о более чем подозрительных обстоятельствах (ее вызвали после завершения одной из бандитских разборок) и даже взяла на себя уход за пациентом – за соответствующую мзду, конечно: ложиться в больничку он не желал.
Да и не мог, потому что ему надо было находиться в строю, принимая участие в криминальной войне за передел сфер влияния в Питере.
А дальше Хряк превратился в сердечного друга Светланы Игнатьевны (и одним своим видом навел немалый страх на ее бывшего и его новую пассию – все же месть сладка!), она стала регулярно оказывать медицинскую помощь кое-каким его корешам, а один из них весьма интересовался доступом к наркотическим средствам…
Дурой Светлана Игнатьевна не была, всегда соблюдала осторожность, но и свою выгоду упустить тоже не хотела. Наркотиками она не занималась, разве что понемножку. А так лечила всех этих бандюганов, не желавших светиться в государственных учреждениях, имея с этого неплохой навар, а помимо всего прочего хапнув Гришу-Хряка в любовники.
Она знала, что была у него только номером два, так как у Хряка имелись жена и детишки, но тут уж выбирать не приходилось. В обычной жизни немногословный, в делах постельных Хряк был более чем энергичным, и это не шло ни в какое сравнение с бывшим Светланы Игнатьевны, который теперь лебезил перед ней и трепетал перед ее новым грозным приятелем, называя его при редких встречах по имени-отчеству.
Одного этого было достаточно, чтобы связаться с криминалом.
Ну а помимо морального удовлетворения Светлана Игнатьевна получала и кое-какое финансовое. На «скорой» она что зарабатывала – верно, сущие копейки! А тут еще и Союз накрылся медным тазом, и медицина вообще оказалась не у дел.
А настоящие дела вершили такие, как Хряк, точнее, как те, кто стоял над ним в криминальной иерархии. Хряк что, он был только тупой исполнительной шестеркой, однако Светлана Игнатьевна не намеревалась останавливаться на достигнутом.
А что, если организовать свою даже не подпольную, а вполне официальную частную клинику, клиентами которой стали бы Хряк и его кореша? Они режутся, стреляются и махаются каждый божий день, и в итоге всем нужна медицинская помощь.
Идея была заманчивая, и Светлана Игнатьевна работала над ее реализацией. Ну а пока что промышляла тем, чем могла: опять же, к примеру, наркотой, но в разумных пределах – слишком большую недостачу на «скорой» могли бы заметить.
Не пренебрегала Светлана Игнатьевна и возможностью посредством своей профессии оказаться в домах незнакомых людей. Разглядеть и разнюхать, кто и как живет – и, главное, что нажил.
И чем можно поживиться.
Не раз и не два давала Светлана Игнатьевна Хряку и его корешам наводки на занятные хаты, в которых побывала: там вот импортной техники полно, у этих мадам вся в золоте и мехах, тут дача в антиквариате или вот у безумной старушки, некогда звезды сталинских комедий, шкатулка с бриллиантами, да прямо вот такими.
С каждого подобного гоп-стопа Светлана Игнатьевна имела свой процент, за этим она следила строго, все должно быть честь по чести. Раз наводку дала, то должна быть и награда.
Хряк заявился уже поздно ночью, и Светлана Игнатьевна, встречая своего милого, быстро подала ему водки. Тот, выпив, принялся приставать к энергичной фельдшерице.
После жаркого секса Светлана Игнатьевна извлекла свой козырь.
– Гришенька, я сегодня у одного старче была на квартире, там, в доме советской элиты на Карповке…
Гриша засопел, что, однако, свидетельствовало о его интересе: он уже давно понял, что Светлана Игнатьевна – еще та штучка.
– Ну, так называемое «Дворянское гнездо», где вся наша ленинградская интеллихэнция обитает…
Гриша продолжал сопеть. Светлана Игнатьевна, поглаживая его по безволосой жирной груди, заявила:
– Там у академика Каблукова Ильи Ильича ишемический инсульт приключился. Дедушку отвезли в Джанелидзе и откачали: жить будет, даже, вероятно, без особых последствий, но, наверное, недолго.
Она расхохоталась, а Гриша начал ее снова тискать.
– Что, мой орел, тебе со мной хорошо? А будет еще лучше, когда я скажу, что у этого академика вся квартира в картинах!
Гриша перестал ее тискать.
– Нет, ты продолжай, продолжай, мне так приятно! И, поверь, я в живописи не особо соображаю, но это не все эти дурацкие пейзажи или идиотские портретики, которые на барахолке пять штук за два рубля продаются. Это настоящие шедевры! Ты знаешь, что такое шедевр, Гришенька?
Гришенька, вероятно, не знал, но догадывался.
– Там картин десятки, если не сотни! Прямо как в Эрмитаже! Ты когда был последний раз в Эрмитаже, Гришенька, наверное, когда в школе учился?
Вероятно, и тогда даже нет.
– Я так внучке этого старого хмыря и сказала, а она сразу смутилась. Ну, такая, из разряда тургеневских барышень. Там настоящий музей, и картины эти, поверь мне, стоят ой как дорого! Их если коллекционерам продать или вообще за бугор отправить, миллионы принесут. Слышишь, Гришенька, миллионы!
Гришенька отлично слышал.
– Старичок пока в Джанелидзе, я стану отслеживать, как долго он там будет находиться. У него только одна эта внучка, студентка, наверное. Больше, как я поняла, никого нет. У такой всю дедушкину коллекцию изъять – раз плюнуть!
Гриша снова принялся проявлять сексуальную активность.
– Ты ведь у себя наверх сообщишь, Гришенька? Только учтите, я хочу свой процент! И там просто гольной силой не возьмешь, дверь как в банке, сигнализация, причем кодовая, замков хитроумных – масса! А ключики-то у внучки…
Наконец Хряк подал голос:
– А девчонка-то хоть смазливая?
Ударив милого по лысине, Светлана Игнатьевна заявила:
– О чем ты думаешь, Гришенька? Не об этом думать надо, а о том, как у нее ключики изъять и без проблем проникнуть в дедушкину квартиру. Ну понимаю, думать – не твоя прерогатива. Ты знаешь, что такое прерогатива, Гришенька? Нет, ну и хорошо, что нет. Ты, главное, у себя наверх сообщи. И упомяни, что я хочу свой процентик…
Ее рука поползла вниз, и над остальными событиями той ночи в спальне энергичной фельдшерицы Светланы Игнатьевны опустим стыдливо занавес.
Телефонный звонок, прозвучавший в пустой квартире, вырвал Александру из тяжелого, полного клубящихся кошмаров сна и вернул в малорадостную реальность.
Подскочив, она, заснувшая на кожаной софе в дедушкином кабинете, схватила трубку телефона, стоявшего тут же, прямо на паркете, чтобы никуда далеко не ходить.
В случае страшного звонка.
– Алло, слушаю! – отозвалась она хрипло, и на другом конце раздался требовательный голос:
– Это Александра Ильинична Каблукова?
Ну да, она самая.
– Александра Ильинична, вашему дедушке стало намного хуже. Так что если хотите с ним попрощаться, то приезжайте в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе, причем не мешкайте!
В трубке раздались короткие, полные безнадеги гудки.
Все еще прижимая трубку к уху, Саша старалась отогнать от себя мысль о том, что дедушка…
Что он умирает.
А ведь два прошедших дня вселили, если судить по телефонным разговорам с лечащим врачом, осторожный оптимизм. Симптомы удалось купировать, паралич левой стороны тела, возникший по причине ишемического инсульта, прошел.
И вот ей звонят и говорят, что дедушке стало намного хуже. Как же так?
Однако размышлять времени не было. Стоял первый день марта, однако погода была премерзкая и после некоторой оттепели снова ударил мороз, в результате чего весь город страдал от гололеда.
Уже два дня Саша, переселившаяся в квартиру дедушки, не покидала ее, даже в Академию не ходила: не могла.
Все мысли кружились вокруг одного: что будет, если дедушка умрет. И она – после трагической гибели на Памире родителей – в течение нескольких месяцев потеряет последнего родного человека.
Постоянно чувствуя себя уставшей, она большую часть дня спала: вероятно, это был ее способ справиться со стрессом.
Тогда, после схода лавины на Памире, она тоже все дни проводила в кровати или на кушетке.
Но кошмары в реальности, от которых она хотела убежать, продолжали преследовать ее во снах.
Спотыкаясь, Александра поднялась и, ежась от холода, поняла, что, накурив, снова забыла закрыть окно в соседней комнате.
Затворив его, она заметила налетевший в комнату мокрый снег, который осел на паркете. Она судорожно принялась его вытирать, а потом, поскользнувшись и больно ударившись коленкой об пол, уселась и заревела.
Дедушка при смерти, а она занимается черт знает чем. И все для того, чтобы не ехать в это самое НИИ в Купчино и не…
Не провожать дедушку в мир иной!
Может, все обойдется? Хотя наверняка нет: не такие там работают паникеры, чтобы звонить и просить приехать, потому что ситуация ухудшилась. Значит, потеряв в августе родителей, она потеряет в феврале дедушку.
Нет, уже в марте, сегодня же первый день весны…
Бросив мокрую тряпку в угол, Саша принялась одеваться, размышляя о том, как добраться до этого самого НИИ имени Джанелидзе в Купчино.
Тем более в десять часов вечера.
В Купчине она была раз или два: больше как-то не доводилось. Ну да, на метро, как же еще! Хотя могла бы и на такси, но дедушка подобного транжирства ни за что бы не одобрил…
Дедушка, который лежал при смерти в этом самом НИИ.
Поэтому, быстро одевшись, включив сигнализацию и долго провозившись со всеми замками (кто бы мог поверить, что в бронированной двери их было целых пять!), Александра отправилась к метро. Итак, насколько она помнила, ей требовалась станция «Московская», только вот какая это линия и где ей лучше всего пересаживаться?
…Выйдя из метро и поеживаясь на холодном ветру, Саша первым же делом поскользнулась и упала. Хорошо, что ничего себе не повредила, но все равно приятного мало.
Впрочем, о каких мелочах она думает, направляясь к дедушке, который при смерти.
Осмотревшись по сторонам, она не смогла понять, на какой автобус ей надо садиться: все равно никакого поблизости видно не было. Значит, отправится до НИИ пешком, тут надо, конечно, пешарить, и это в гололед, но разве оставалось…
Она снова упала.
Встать ей помог прохожий – симпатичный высокий молодой человек в ушанке.
– Не ушиблись, с вами все в порядке? – спросил он, подавая ей отлетевший по льду портфель. Зачем его Саша прихватила, она и сама не знала. Хотя знала: с вечера собиралась дедушку посетить, купила ему по бешеной цене мандарины…
Вот и тащила их в портфеле, в котором до сих пор лежали чужие, так и не оказавшиеся у своего хозяина конспекты.
– Да, спасибо, – поблагодарила Саша, и прохожий произнес:
– Такой жуткий гололед. И это в марте. Извините за назойливость, но вас, быть может, проводить? Еще раз извините, но, думается, вы надели не самую лучшую обувь…
Он был прав – она натянула легкие осенние туфли, другой своей обуви она в квартире дедушки не обнаружила, а у этой подошва была не для гололеда.
– Нет, спасибо, все в порядке! – заявила Саша, чувствуя, что на глазах выступают предательские слезы.
– Точно? – спросил ее прохожий, и она громко ответила:
– Да, точно! Не смею вас больше отрывать от ваших важных дел!
Симпатичный прохожий в ушанке удалился, а Саша пожалела, что так взъелась на него. Он ей помог, а она его откостерила. Но разве ей мог вообще кто-то помочь?
Она еле ковыляла, чувствуя, что в любой момент снова шлепнется на лед, однако ей требовалось вперед, куда-то туда, по темным улицам, к НИИ, в котором умирал дедушка.
И она во что бы то ни стало дойдет, во что бы то ни стало…
И снова полетела на грязный лед. В этот раз никто ей не помог, и услужливого симпатичного прохожего в ушанке рядом больше не оказалось.
И вообще никого в этот час и при такой погоде на улице не было. Обернувшись, Саша с тоской посмотрела на станцию метро, от которой она удалилась едва ли метров на сто, хотя была уверена, что прошагала уже километр, не меньше.
Она что, всю ночь и еще половину следующего дня будет идти? Может, все же взять такси?
В этот момент на улицу вывернула черная «Волга», которая, поравнявшись с ней, не собиралась проезжать. Стекла были спущены, и Саша узрела группку молодых типков не самой безобидной наружности.
– Эй, цыпа, куда хиляешь? – спросил один из них, демонстрируя свой золотой зуб. – Может, типа, подвезти?
Ну да, не хватало еще, чтобы ее такие вот молодчики подвозили!
Делая вид, что не замечает обращенного к ней наглого вопроса (тем более, что такое хилять, она не знала, но по контексту догадалась), Саша упорно шла дальше.
– Какая глуховатая цыпа! Шуруй к нам, у нас тепло, хорошо и очень сексуально!
Упорно глядя перед собой, Саша осторожно двигалась по темной улице.
Только бы не упасть, только бы не упасть, только бы не упасть…
Упала.
– У, какая ты, цыпа, неуклюжая! Что, перебрала маленько? Ну, такое бывает!
«Волга» с работающим мотором затормозила, и ее через пару мгновений окружили несколько типков, один из которых, склонившись, прогнусавил Саше в лицо:
– Ну, чего хиляешь невесть куда, поехали с нами! Повеселимся знатно, цыпа! Мы покажем тебе небо в алмазах…
Один из его дружков развязно добавил:
– И трусы в горошек!
Еще один идентично проквакал:
– Что, у цыпы трусы в горошек? А лифчик тоже? Или она вообще не носит? Цыпа может быть очень продвинутой! А давайте, парни, проверим!
Один из типов схватил ее и потянул по льду по направлению к «Волге». Саша, крича, принялась отбиваться, но понимала, что не справится с этими мерзавцами.
Другой схватил ее за брыкающиеся ноги, и субчики принялись засовывать ее в «Волгу». Саша, плача и кусая губы, дала себе слово, что ни за что не дастся в руки этим ублюдкам.
– Отпустите! У меня дедушка умирает! Мне к нему надо!
Зря она, конечно, надеялась, что сможет разжалобить этих субъектов подобным, тем более что они наверняка ее словам не верили, считая это тщетной попыткой избежать предназначенной ей судьбы.
Судьбы жертва группового изнасилования.
– А у меня бабушка рожает! Ладно, цыпа, перестань ерепениться, чего ты уж так? На тебе же написано, что ты хочешь, так что поехали к нам на хату.
Саша впилась зубами в руку одного из мерзавцев. Тот, завопив, ударил девушку. Чувствуя жгучую боль, Саша поймала себя на глупой мысли, что надо было все же не экономить, а взять такси…
Место укушенного типа занял другой, который, скрутив девушку, сумел-таки запихнуть ее на заднее сиденье «Волги».
– Стоять! Что тут происходит? – послышался грозный окрик.
Потом послышались крики и стоны, а через несколько мгновений кто-то рывком вытащил Сашу из «Волги».
Она, закричав, принялась размахивать руками – и вдруг увидела корчащихся на льду своих обидчиков, один из которых плевал кровью, а другой дергал головой.
Перед ней стоял тот самый симпатичный молодой прохожий в ушанке, который помог ей подняться около станции метро.
– Это же ваше? – спросил он, подавая ей портфель с конспектами и мандаринами. И, не дожидаясь ответа, безапелляционно заявил: – Идите за мной! Ну же!
И он протянул ей руку. Саша заколебалась, но в этот момент увидела третьего типчика, который, корчась на льду, доставал складной нож.
Схватив руку безымянного спасителя, Саша последовала за ним. И снова поскользнулась.
Тогда прохожий в ушанке подхватил ее на руки и побежал так быстро, насколько это было возможно с учетом гололеда и тяжелой ноши. Но на прохожем, в отличие от Саши, были валенки, которые позволяли перемещаться быстро и не опасаясь упасть.
– Прошу вас, поставьте меня! – произнесла Саша, крепче, однако, прижимаясь к своему спасителю.
– Вам что, плохо? – спросил тот, и девушка поняла: нет, ей хорошо, да так, как уже давно не было.
Они оказались у одного из домов, где прохожий осторожно посадил ее на скамейку.
– Спасибо вам, – произнесла Саша, – вы уж извините, что так вышло. Я даже не знаю, как вас зовут…
– Это взаимно, – ответил прохожий без тени улыбки. – Меня Федор зовут.
Как ее зовут, он не спросил, и Саша, ощущая неловкость, произнесла:
– Спасибо вам огромное, Федор! Даже не знаю, что и сказать…
– Скажите, что не будете шастать по ночам одна!
Саша вздохнула.
– Я с Петроградской стороны. Мне надо в НИИ, к дедушке. Он… умирает.
Она сама не знала, почему рассказывает это неизвестному человеку по имени Федор, который спас ее от бандитов.
Тот, взглянув на нее, произнес:
– Я вас туда отвезу!
Саша, не веря своему счастью, произнесла:
– Но я не могу… Не хочу вас задерживать. Я пойду пешком…
«Похиляю».
Она смутилась, а Федор пояснил:
– Я живу тут неподалеку, и у меня имеется автомобиль. И вы меня не задерживаете, потому что мне некуда спешить.
В НИИ Скорой помощи никак не могли взять в толк, отчего Саша примчалась к ним: дедушке было совсем даже не хуже, наоборот, лучше, он точно не был при смерти, и никто ей, как ее уверяли в один голос, не звонил и приехать не просил.
Саша не могла поверить, что это так, решила, что дедушка, пока она была в пути, умер и от нее это скрывают. И только когда ее, несмотря на то что посетителей уже не принимали, в порядке исключения провели в палату и показали мирно спящего дедушку, Саша окончательно успокоилась.
В холле она наткнулась на Федора (уже без ушанки и без валенок, их он сменил в автомобиле), о котором, с учетом всей сумятицы, к стыду своему, и думать забыла. И увидеть снова была более чем рада, ощутив вдруг внезапное сердцебиение.
И про себя отметив, что без ушанки он еще привлекательнее, чем в оной.
– Значит, с дедушкой все хорошо? – подытожил Федор. – Так ведь это же отлично?
Саша никак не могла понять, кто же ей звонил, вероятно какая-то нерадивая медсестра, что-то напутавшая, однако ее сердце буквально пело.
Во-первых, дедушка был жив и даже, как объяснил ей дежурный врач, шел на поправку.
А во-вторых, она познакомилась с Федором – в ушанке и валенках.
Посмотрев на часы, Саша вдруг поняла, что уже почти половина второго ночи. Ей стало ужасно стыдно – и за сцену в НИИ, где она, кажется, вначале позволила себе несколько резкий тон, и в особенности за эксплуатацию ее спасителя Федора.
– Уже так поздно, вы и так потратили на меня много времени… – произнесла девушка, а Федор заявил:
– Ерунда. Что вы намереваетесь делать? Только не говорите, что поедете на метро, оно все равно до утра не ходит!
Ну да, не оставалось ничего иного, как отправиться обратно из Купчина домой на Петроградскую набережную, и для этого ей требовалось такси.
В этот раз жмотиться она не станет.
– Я вас отвезу домой, – произнес Федор. – Если, конечно, вы согласны…
Саша, которая была более чем согласна, все же заявила:
– Нет, вы что, уже так поздно!
– Тем более если вы отправитесь одна, то я не смогу заснуть и всю жизнь буду терзаться вопросом о том, доехали ли вы в целости и сохранности до дома. Думаете, такие вот молодчики только в Купчине орудуют?
Нет, Саша так не думала.
– Но ваша семья будет против, ваша… жена. Ну или подруга…
Федор усмехнулся.
– Я живу один, жены у меня нет, подруги тоже. Я на юриста учусь, а вы?
Саша выпалила:
– На географическом факультете ЛГУ!
И вдруг поняла, что наврала своему спасителю – это дедушка так страстно желал, чтобы она там училась, а она ведь была студенткой Академии художеств имени Репина.
Того самого Репина, который нарисовал портрет бабушки ее дедушки.
Чувствуя, что краснеет, Саша заявила:
– Ой, извините, я все напутала, я учусь на искусствоведа, в Академии художеств имени Репина…
Еще раз усмехнувшись, Федор сказал:
– Ну, пока вы будете решать, где именно вы учитесь, на географа в ЛГУ или все же на искусствоведа в Репинке, я прогрею мотор. Вы ведь с Петроградской, как вы сказали?
И тут Саша поняла, что до сих пор не соизволила сообщить своему ироничному спасителю, как ее зовут.
– Александра… То есть Саша… Фамилия – Каблукова…
Федор, кивнув, ответил:
– Что же, Александра-Саша, думаю, поедем?
Когда автомобиль подкатил к дому, Саша, разомлевшая и даже немного задремавшая в теплом салоне, зевнула. Федор назидательно произнес:
– Вам теперь горячего чаю – и в постель. Что же, было приятно познакомиться, всего вам доброго. И берегите себя и дедушку!
Саша с готовностью согласилась:
– Да, да, горячий чай – то, что надо. С клюквенным вареньем. Вы ведь не откажетесь, прежде чем поедете к себе домой?
Федор, выключая мотор, произнес:
– Не откажусь!
Около двери квартиры пришлось повозиться, и когда они наконец попали внутрь, Федор, кашлянув, заметил:
– Сколько у вас, однако, замков…
Вводя код в сигнализацию (благо, что дедушка когда-то ей его сообщил), Саша смущенно ответила:
– Ну да, дедушка – человек со своими представлениями. А вы проходите, проходите…
И включила свет.
Федор, внимательно наблюдавший за ней, присвистнул, уставившись на стены, завешанные картинами.
– Ну, у вас тут прямо музей, частное слово! Это ведь все копии, не так ли?
Саша уклончиво заявила:
– Ах, я в этом не особенно разбираюсь, это все равно все дедушкино…
А если дедушка умрет, то станет, выходит, ее? Но дедушка ведь умирать не собирался, а, что просто превосходно, пошел на поправку!
И вообще, наверное, в искусствоведы она подалась именно потому, что с самого детства завороженно рассматривала дедушкину коллекцию.
Ну и потому, что становиться, как дед и отец, геоморфологом она явно на намеревалась.
– Мы на кухне чай выпьем, вы ведь не возражаете? – произнесла Саша, заметив, как Федор замер перед стеной с картинами.
– Это что, Кандинский? – произнес он недоверчиво. – Точнее, копия, ведь так? А это Марк Шагал?
Ну да, в дедушкиной коллекции были ранние работы и того и другого, причем и того и другого несколько. А также Кузьмы Петрова-Водкина, Бориса Григорьева, Эля Лисицкого, Владимира Татлина, Михаила Ларионова, Алексея Явленского, Натальи Гончаровой, Марианны Веревкиной…
Ну и Репина с Пикассо – так сказать, на десерт.
– А вы что, в искусстве разбираетесь? – ответила она вопросом на вопрос.
Если не считать бригады «скорой помощи», Федор был первым за годы, если не целые десятилетия, чужим человеком, попавшим в дедушкину квартиру. Но не могла же она посреди ночи оставить своего спасителя на улице или не чаю хлебавши отослать его обратно в Купчино.
– Немного, – признался он, – на уровне иллюстраций в «Крестьянке» и «Огоньке». Это ваш дедушка собрал?
Усадив гостя за стол на просторной кухне (стены которой также были в картинах), Саша стыдливо убрала плетеную корзиночку с давно окаменевшими пряниками: никаких других сладостей, кроме банки засахарившегося клюквенного варенья, у дедушки не было, а сама она пока что ничего купить не удосужилась, все последние дни провалявшись в постели.
– Интересно у вас тут, – произнес Федор, улыбаясь. – Как будто в музей сходил!
То ли от волнения, то ли от усталости у Саши из рук вылетела чашка и, приземлившись на пол, разлетелась на мелкие части.
Подойдя к ней, Федор произнес:
– Хоть я и гость, но разрешите мне похозяйничать у вас. Вы, вижу, устали…
Саша в самом деле чувствовала, что последние дни выбили ее из колеи и накопившаяся усталость вдруг разом навалилась на нее.
Усадив ее на табуретку, Федор произнес:
– Да вы вся горите! Как бы у вас простуды не было. Вы разрешите?
И приложил к ее лбу тыльную сторону своей ладони. Та была крепкая и прохладная – и Саше вдруг сделалось невероятно приятно.
Ей бы так хотелось, чтобы это длилось вечно, но вопрос Федора застал ее врасплох:
– А градусник у вас есть?
Был ли у дедушки градусник, Саша понятия не имела: наверное, да, но только вот где?
– Вам бы хорошо чайку с лимоном, однако, смотрю, у вас его нет…
В холодильнике у дедушки было хоть шаром покати: закупался он обычно по вторникам сразу на всю неделю, но именно во вторник с ним и приключился инсульт…
И чая не пил, уважая крепчайший черный кофе. Лимонов у него Саша отродясь не видела.
– Думаю, вам надо прилечь, причем немедленно! И не возражайте! На кухне я у вас разберусь и чаю приготовлю…
Ну да, если вообще найдет тут чай, что будет не так уж просто.
– Спасибо вам, Федор… – прошептала Саша и вдруг вспомнила, как он, подхватив ее на руки, уносил от хулиганов.
И вдруг произошло именно то, о чем она втайне мечтала: он снова подхватил ее на руки и сказал:
– Я отнесу вас на кушетку или софу, вы только говорите куда.
Схватив его за шею, Саша закрыла глаза. И, кажется, даже на мгновение прикорнула – во всяком случае, так Федору ничего и не ответила и пришла в себя от того, что молодой человек осторожно опустил ее на кушетку в кабинете дедушки.
Накрывая ее пледом, он произнес:
– Отдыхайте, я мигом!
Саша слабо запротестовала:
– Нет, так не пойдет, я вас на чай пригласила, а сама спать улеглась…
– Пойдет, – уверил ее Федор, – конечно же, пойдет! А теперь отдыхайте…
В себя она пришла, когда он нежно затормошил ее за плечи – в руках у него была большая чашка ароматного чая. Отыскал-таки дедушкины стратегические запасы в недрах кухонного шкафчика!
– Вот, давайте выпейте, только осторожно, маленькими глотками, он горячий…
Быстро глотая обжигающую жидкость, Саша, полусидевшая-полулежавшая на кушетке, вдруг поняла, что никогда в жизни не пила ничего вкуснее.
– Спасибо вам большое, Федор! Только мне так неловко, пригласила вас на чай, а сама… Вы хоть сами выпили?
Молодой человек совершенно серьезно ответил:
– Не думайте о таких мелочах, а лучше пейте…
И пока она отхлебывала невероятно вкусный, ибо был приготовлен ее спасителем, чай, Федор снова приложил к ее лбу тыльную сторону ладони.
– Кажется, жар уже спал. Наверное, не простуда вовсе, а просто волнение и усталость. Только вы до дна пейте!
Быстро осушив чашку, Саша заявила:
– А еще можно?
Федор усмехнулся:
– Конечно, можно. Тогда я приготовлю и вам, и себе…
Но остался сидеть на кушетке рядом с ней, и Саша вдруг ощутила, что счастлива. Ну да, у нее дедушка с инсультом в НИИ Скорой помощи, а ее просто трясет от счастья. А ведь в самом деле трясло – и именно что от счастья.
Когда она была в последний раз счастлива? Девушка даже и не помнила. Наверное, когда стало ясно, что отец и дедушка прекращают попытки переубедить ее и соглашаются с тем, чтобы она поступила в Репинку, отметая вариант с географическим факультетом ЛГУ.
А потом родители отправились в свой традиционный отпуск в горы…
Глаза у Саши начали предательски слипаться, она принялась зевать, ощутив внезапно накатившую слабость.
– Ой, можно я прилягу, всего на пять минут? Мне так жаль…
Федор что-то ответил, но Саша уже не слышала, потому что, едва донеся до подушки голову, погрузилась в сон.
Ее симпатичный спаситель (тот самый, в ушанке и валенках) задумчиво посмотрел на спящую перед ним девушку, встал, заботливо укрыл ее пледом, а потом щелкнул перед лицом и над ухом Саши пальцами, несколько раз и крайне громко.
Никакой реакции не последовало, внучка академика спала, причем беспробудно и крепко – ну, наверное в самом деле стресс, а также таблетки, которые он добавил ей в чай, старательно размешав получившийся порошок с большим количеством обнаруженного в шкафчике варенья.
Вообще-то надо было дать две таблетки, однако он добавил только одну: с учетом состояния девицы вполне хватит: продрыхнет, как суслик, до самого утра.
Которое, если уж на то пошло, было не за горами. Взглянув на наручные часы, молодой человек убедился, что уже начало пятого. Усталости не было, он, наоборот, чувствовал необыкновенный азарт и легкое волнение.
Еще раз поправив шотландский плед, он поднялся и приблизился к стене, увешанной картинами. Да, наводка была, что ни говори, верная: тут в самом деле целый музей, причем частный! Не исключено, что самая потрясающая частная картинная коллекция в Ленинграде, а то, кто знает, и во всей стране!
Он помнил инструкции, данные ему: после того как окажется на квартире у объекта, никаких попыток к сближению, особенно сексуального характера, не предпринимать. Впрочем, девица и не пыталась, хотя сразу было понятно, что она млела, когда он к ней прикасался и носил на руках. Впрочем, девицы всегда млели, когда он к ним прикасался и носил на руках: о том, что он многим нравится, молодой человек был прекрасно осведомлен.
Поэтому его и выбрали для этой миссии: требовался кто-то привлекательный, но не смазливый, внушающий доверие, а не сорвиголова, тот, на кого можно положиться.
Вспомнив, как девица, теперь спящая на кушетке, льнула к его груди, он усмехнулся: она и положилась.
Наверняка девственница.
Вынув из кармана крошечный портативный японский фотоаппарат, он стал делать снимки полотен, заодно стараясь подсчитать, сколько же их всего в квартире академика Каблукова.
Ну да, тетка-наводчица со «скорой» не соврала, это подлинный маленький Эрмитаж – или даже не такой уж и маленький. И ведь, если на то пошло, все подлинники, а никакие тебе не копии.
Фотодокументация коллекции заняла больше времени, чем молодой человек намеревался на нее потратить.
Щелкал он не все, потому что не хватило бы пленки, которую он и так менял два раза, и это несмотря на то, что быстро отказался от идеи делать снимки отдельных картин, фотографируя уже целые завешанные холстами стены.
И все равно все запечатлеть не удалось, а ведь ему требовалось еще сделать фото сигнализации и дверных замков.
Повезло, что девица, вводя четырехзначный код сигнализации, вообще не таилась и ему безо всякого труда удалось запомнить комбинацию: 6104. Даже записывать не пришлось.
Замки, конечно же, в двери стояли потрясающие, этот самый дедушка, которого шандарахнул инсульт, был личностью более чем осторожной.
Такие просто так не вскрыть. Точнее, вскрыть все можно, только за какой временной промежуток. А много времени не будет, с учетом того, что в квартире несколько сотен полотен.
И каждое из них – шедевр. Так что брать надо все сразу и всем скопом, ничего не оставляя.
Ну да, как можно не взять, к примеру, вот этого Кандинского или Шагала? Рядовому советскому гражданину эти имена мало что говорили, а вот тем, кто разбирался…
И в стране, и в особенности за рубежом имелись солидные и очень солидные люди, готовые отвалить за эти имена очень серьезные деньги.
Очень серьезные.
Картины, конечно, это тебе не наличка, золотишко или брюлики: сбагривать надо с умом.
Хорошо, что коллекция частная, вероятно, нигде, за исключением записей самого старика, дедушки девицы, которая дрыхла на кушетке, не учтенная. Одно дело все же раритет из музей дернуть, и совсем другое – из не существующей для компетентных органов частной коллекции.
Так что тяга к таинственности, столь характерная для старика-академика, была молодому человеку и его подельникам только на руку.
Завершив серию фотографий дверных замков и системы сигнализации, Федор прикоснулся к лежавшей на резной тумбочке в коридоре связке ключей.
А потом извлек из прихваченного с собой на чай «дипломата» коробочку с пластилином и принялся делать оттиски с каждого из ключей – сноровисто и весьма профессионально.
То, что подобраться к коллекции деда можно исключительно через девчонку, было понятно сразу. Тем более что старик теперь в больнице. Вроде бы и лезть в квартиру никто не мешает, но тут надо с умом действовать. Потому что какой смысл соваться в эту берлогу, если тут масса хитроумных запоров и к тому же сигнализация?
Поэтому требовался предварительный доступ к квартире, чтобы иметь возможность изучить сигнализацию и снять слепки с ключей, дабы в нужный момент вынести не просто самые раритетные образчики дедушкиной коллекции, а все подчистую.
Ибо тут все было раритетным, даже творения художников второй и третьей величины. Старик, похоже, знал толк в живописи и абы что не собирал…
Поэтому задание получил именно Федор – голой силы тут не требовалось, надо было делать ставку на хитрость, а также обаяние и шарм.
Ну и на физическую привлекательность.
Понятно, что посылать на такую щепетильную миссию этих чудиков, которые изображали из себя насильников на черной «Волге», было бы нелепо: эта утонченная девица из высшего советского общества на них не повелась бы.
Да и никто из этой гопоты не сумел бы изобразить спасителя юной девственницы более или менее правдоподобно.
А в том, что девица была еще девственницей, Федор после знакомства с ней ничуть не сомневался.
Нет, эти играли тех, кем являлись на самом деле: мелких хулиганов и туповатых уркаганов. Причем играли, надо отдать должное, более чем достоверно и вдохновенно: ибо таковыми, по сути, и являлись.
И наверняка, дай им волю, действительно изнасиловали бы девицу, причем для этого ни на какую хату не повезли бы, а прямо в «Волге» бы это и осуществили.
Все было рассчитано на то, что девица особо присматриваться не будет, поэтому разыграли спектакль и с выбитыми зубами на льду, и с театральными стонами и ахами, и даже с кровью на асфальте – самой что ни на есть настоящей.
Хотя вмазал им Федор, надо сказать, не то чтобы так уж мало: приложился будь здоров, потому что эти идиоты его ужасно раздражали, и когда он, получив сообщение, что девица после нужного звонка, как и ожидалось, покинула квартиру на Петровской набережной и мчится в НИИ к дедушке, обсуждал с ними в той же черной «Волге» сценарий предстоящих действий, придурки только гоготали, обменивались скабрезными шуточками и веселым матерком.
Поэтому он получил колоссальное удовольствие, отметелив эту шпану: не то чтобы уж по-настоящему, но и не совсем, как договаривались, понарошку.
И девица, конечно же, не могла не поверить. Мизансцена около станции метро в поздний час, причем в такую мерзкую погоду, была разыграна более чем подходящая, да она и видеть ничего особо не могла, озабоченная сохранением своей девственности.
Так что все было проще пареной репы: появиться в самый драматичный момент, легонько начистить морды этим гадам, спасти принцессу-девственницу от дракона – ну а остальное дело техники.
Техники неявного обольщения, доброй улыбки и пронзительных взоров.
Девица ошалела от вести о том, что дедушка вовсе не при смерти, а даже наоборот, в душе она ликовала, что удалось спасти свои трусики от посягательств мерзких бандитов, время было позднее, НИИ находилось в Купчине, сама барышня обитала в квартире элитного дедушки на Петроградской стороне, во Втором доме Ленсовета, метро не работало, а под рукой был скромный спаситель с героической внешностью – и все остальное прошло без сучка без задоринки.
Ну и таблетка, добавленная в чай, возымела свое действие, и он смог навести в квартире академика Каблукова тщательный шмон.
В принципе, можно было, прихватив того же самого Кандинского и Шагала, удалиться прочь. Но больше пары-тройки картин за раз он все равно унести не мог, а брать надо было все.
Именно так и собирались поступить те серьезные люди из криминальных кругов, которые и направили его на это задание.
Кроме того, уйди он с парой полотен, немедленно стало бы понятно, кто именно обокрал дедушку, а Федор, понимая, что таскает для своих гоповатых друзей со связями с ОПГ (точнее, и являвшимися ОПГ) из огня каштаны, вовсе не собирался проводить последующие несколько лет в колонии строгого режима – и без благ и бенефиций, которые ожидают того, кто выгодно толкнет дедушкины картины.
А у него была одна хорошая знакомая из Русского музея – еще та штучка, пусть и кандидат искусствоведческих наук, защитившая докторскую по русскому авангарду.
Нет, он был мальчиком из бедной семьи, который поступил на юридический по той простой причине, что его туда пристроили важные люди, те самые, которых он знал с самого детства и у которых в отношении умницы Федора были иные планы, нежели, к примеру, в отношении всей этой шпаны, которую он сегодня со вкусом отметелил.
Потому что на Федора планы имелись долгоиграющие – всем требовался и свой человек в органах, и толковый адвокат, а он мог стать и тем и другим.
Иллюзий Федор не питал, понимая, что им, мальчиком из ленинградской коммуналки, из бедной советской семьи, с потрохами владеет теперь мир криминала. Но он не был одним из этих карикатурных представителей преступного мира, шестеркой, которая корчила из себя туза, распальцованным братком или златозубым сидельцем под шконкой в местах не столь отдаленных.
Мать его умерла от паленой водки, отец мотал срок, воспитывала пацана бабка – старая пьянчуга, которую он ненавидел. Федор был примерным комсомольцем, круглым отличником, призером Олимпиад, обладателем черного пояса по карате, любимцем преподавателей и кумиром девиц и женщин постарше – и надеждой и ценным проектом человека, который заменил ему отца (собственный, еще живой, должен был вернуться лет эдак через девять) и который, в отличие от множества представителей криминала, обладал тем, что называлось стратегическим мышлением, ну или, как принято говорить в подобных кругах, воровской чуйкой.
Поэтому, узнав, что ему предстоит раскрутить юную девственницу, Федор сам предложил приемному отцу сыграть спасителя внучки академика от группки плохишей, сам разработал не то чтобы очень хитроумный, но, как показала практика, действенный сценарий, сам все срежиссировал и воплотил в жизнь.
Вышло не так уж плохо, раз он попал в итоге в квартиру, увешанную драгоценными картинами.
Сделав последний снимок (больше запасной пленки не было), Федор прошествовал на кухню и, заварив себе крепкого кофе из стариковского запаса, с наслаждением выпил его.
На все про все ему понадобилось около двух часов, однако он не сомневался, что задокументировал не только коллекцию старого академика, но и устройство сигнализации и дверных замков. Он даже набросал на листке план квартиры, отметив крестиками, где и что надо брать в первую очередь.
На тот случай, если придется ретироваться раньше времени и не получится унести все.
Ну да, правильно его приемный отец решил и послал Федора, а не одного из своих гопников. Те бы не только к девчонке подобраться не сумели (их, даже если бы они спасли ее от других гопников, она и на порог дедушкиной квартиры точно не пустила бы), тем более они бы не смогли понять, что вот эти парящие над городом, словно в волшебном сне, фигуры – работа Марка Шагала, а вот эти цветные завихрения – Василия Кандинского.
Да и чай для внучки академика они, предпочитающие водяру, вряд ли сумели бы приготовить.
Чувствуя себя все еще как в музее, Федор, попивая отличный черный кофе, замирал то у одного, то у другого полотна.
Нет, что ни говори, а он попал в затерянный мир, и жаль, конечно же, было его разрушать, однако ничего другого не оставалось.
Впрочем, он бы мог жениться на внучке академика, и когда тот скорее рано, чем поздно, окочурится, завладеть всем этим вполне официально.
Идея была заманчивая, однако Федор не хотел ждать: ему требовалось все и сейчас. Конечно, он получит не все, зато сейчас: ну, после того, как из квартиры во Втором доме Ленсовета изымут все картины.
Он прикоснулся к раме одного из полотен. Ну да, неплохо бы иметь у себя такое. Если это украшает хату академика, почему это не может украшать и его комнату?
Нет, не в солидном доме, на скамейке возле которого он вел разговор с внучкой академика: она-то наверняка подумала, что он там живет, но ведь это ее проблемы.
Только где – в коммуналке: пусть и с отдаленным видом на канал Грибоедова, но с одним сортиром на шесть семей? Чтобы на нее могла, икая от похмелья, любоваться бабка-пьянчуга? Так и сказать: мол, бабуля, вот вам и Шагал, наслаждайтесь!
Было бы вполне разумно, если бы парочка картин (не больше: не надо зарываться) в итоге осела у него. Нет, не для того, чтобы висеть в бабкиной коммуналке, а чтобы стать стартовым капиталом для собственного бизнеса.
Союз развалился, люди делали деньги, да что там, деньжища прямо из воздуха – и ему не следовало упускать свой шанс.
Федор и не намеревался упускать.
Ну да, было бы неплохо, чтобы этот Шагал пришагал прямо к нему. Ну и Кандинский тоже хорош. И вот эти красные кони – точно Петров-Водкин!
Он отправился на кухню, чтобы сделать себе еще хорошего дедушкиного кофе (и где только отоваривался старый черт – наверняка от дипломатических кругов), а затем снова насладиться экскурсией по частному музею академика Каблукова.
Открыв глаза, Саша поняла, что солнце давно уже встало: в комнату сквозь распахнутые шторы вливался сизый ленинградский свет. Чувствуя, что во рту нее горчит, а плечо затекло, она с трудом оторвалась от кушетки.
И вспомнила, что у нее в квартире гость!
Чувствуя себя крайне неловко, она босиком пробежала на кухню – и обнаружила тщательно вымытую посуду (причем по большей части оставленную в мойке ею самой за последние дни), уже порядком подстывшие оладьи и записку на столе.
«Уважаемая Саша! Мне пора – учеба и работа зовут. Надеюсь, что не обидитесь, если уйду по-английски. Разрешил себе у вас позавтракать – оставшиеся оладьи, которые я соорудил из того, что нашел в холодильнике, Ваши. Вы ведь разрешите Вам сегодня позвонить?»
Перечитав послание Федора целых три раза подряд, Саша плюхнулась на табуретку и, ощущая голод, схватила оладушек и принялась его жевать. Вкуснотища необыкновенная!
Только вот как Федор ей позвонит, если он даже ее номера не знает? И вообще, она живет в квартире дедушки, а его номер мало кому известен.
Сердце заныло, и Саше сделалось страшно: а что, если ее спаситель не позвонит? Или будет набирать не тот номер? И они никогда уже не увидятся?
Номера его машины она, конечно же, не запомнила, потому что и не пыталась это сделать, а фамилию свою он ей не назвал.
И вообще, получается, ей теперь нельзя выходить из квартиры, чтобы не пропустить его звонок?
Он не позвонил – ни в тот день, ни на следующий, ни даже два дня спустя. Саша сама не своя, уже уверенная, что Федор обиделся на то, что она, позвав его к себе, просто заснула и продрыхла до самого утра, совсем извелась и ловила себя на том, что все время думает, когда же раздастся звонок.
Он прогремел, и она едва не грохнула и второй аппарат в кабинете дедушки, с такой силой сорвала трубку, однако выяснилось, что звонил лечащий врач академика.
Раньше Саша крайне обрадовалась бы вестям о том, что дедушка идет на поправку, что рвется как можно быстрее домой, но что ему придется провести в больнице еще как минимум неделю, что удалось купировать все симптомы, что…
Единственное, о чем она думала, слушая медицинский монолог: а что, если в этот же момент ей звонит Федор, а у нее занято?
Она едва не пропустила его звонок, потому что телефон ожил, когда она вернулась из гастронома под домом, где на скорую руку закупила съестного. Бросив авоську прямо на пороге, Саша наконец схватила трубку и услышала заветный голос:
– Добрый день, Саша, я не беспокою? Это Федор, вы же меня помните?
О, как она могла его забыть? Сердце у нее запрыгало от радости.
– Извините, что звоню не сразу, но понадобилось время, чтобы разузнать ваш номер. Точнее, номер вашего дедушки, вы ведь в его квартире живете…
– Ничего-ничего… – пролепетала Саша, вдруг понимая, что, к своему ужасу, не знает, что и сказать.
Федор продолжал, но в этот момент раздалось заунывное гудение – это включилась сигнализация, которую Саша, желавшая снять трубку телефона как можно быстрее, конечно же, забыла при возвращении отключить.
Пришлось метнуться в коридор, вводить код, затем успокаивать высыпавших на лестничную клетку, взбудораженных соседей, объясняя, что все в порядке.
Хорошо, что сигнализация была хоть и ужасно громкая, но акустически локального воздействия и с отделением милиции связи не имела – не хватало еще, чтобы к ней прибыл патруль! Дедушка правоохранительным органам не особо доверял, заявляя, что если вора что и отпугнет, то не участковый, а завывание сирены.
Вот она только что, кажется впервые с момента установки, на весь дом и протрубила.
Объяснения и словесные реверансы с соседями заняли кучу времени, и когда Саша наконец-то вернулась в квартиру и подняла сиротливо лежавшую на письменном столе деда трубку, то не сомневалась, что Федор отключился.
А что, если он не перезвонит?
Но Федор, оказывается, терпеливо ждал ее и даже посмеялся над тем, что она только что устроила переполох во всем их элитном доме.
– Знаете, я в коммуналке вырос, так что и не к такому привык, – пояснил он, и Саша закусила губу.
Ну да, не у каждого дедушка – академик, обладатель четырехкомнатной квартиры в «Дворянском гнезде». И не у каждого, как у нее, имеется в безраздельном распоряжении «трешка» на Васильевском острове.
Но и не у каждого родителей накрыла сошедшая на Памире лавина.
– Как у вас со временем? – поинтересовался Федор. – Может, встретимся? Например, завтра?
Саша выпалила:
– А давайте сегодня?
Они действительно встретились вечером того же дня. Гололед к тому времени уже сошел, и морозы сменились оттепелью: все капало, переливалось, пело.
Капало и переливалось и в душе Саши, когда она увидела Федора – на этот раз уже без ушанки, с непокрытой головой, с элегантным красным шарфом. И не в валенках, а в красивых кожаных туфлях.
Встретились они на Невском, и он повел ее в расположенное на одной из смежных улиц какое-то концептуальное заведение со смешным названием «Ваня Гог»: Саша, посещавшая раньше с родителями или школьными подругами ресторан в «Метрополе», «Англетере» или отличную кондитерскую в гостинице «Советской», понятия не имела, что такой существует.
Ну да, после смерти родителей она все равно никуда уже больше не выходила, а новых подруг в Репинке пока что не завела: весть о том, что ее дедушка – академик, быстро распространилась среди сокурсников, и все были уверены, что взяли ее по блату, хотя какой блат мог быть у академика-геоморфолога из ЛГУ в Репинке?
Выходило, что с августа прошлого года изменилась не только жизнь ее семьи, но и история целой страны – а также гастрономическая карта города, о которой Саша и так имела весьма смутное представление.
В «Ване Гоге» было шумно, тесно, просто невероятно вкусно – и так круто. Вокруг говорили не только по-русски, но и на американском английском с жутким калифорнийским прононсом, и на аффектированном парижском французском, и даже на андалусийском испанском.
– Ого, сколько же языков вы знаете? – спросил с явным восхищением Федор и уныло добавил: – У меня в школе был английский, в университете тоже, но я ничего не понимаю из того, что этот тип лопочет.
Он покосился на сидевшего чуть поодаль от них громогласного рыжеволосого американца.
– А давайте на «ты»! – предложила Саша, желая сгладить неловкость.
– Ну, тогда давай! – усмехнулся Федор. – И все же, на скольких языках ты еще говоришь?
Саша вздохнула: ну, понимала она на четырех, кроме русского, могла говорить, причем, кажется, неплохо, и что с того?
Вероятно, для внучки академика ничего, а вот для обитателя коммунальной квартиры…
– Ах, ну так уж получилось…
– Гм, – сказал без тени укора Федор, – жаль, что у меня не получилось.
Саша снова вздохнула и объяснила:
– Ну, так вышло, что дедушка у меня из семьи, в которой до революции водились деньги.
То, что бабка дедушки, та самая, запечатленная Репиным, была отпрыском миллионщика-старовера, сколотившего состояние на торговле дегтем, а ее дочку и единственную наследницу увековечил в начале века в Париже Пикассо, Саша упоминать не стала.
– Так что дедушка вырос с английским, немецким и французским практически как с родными, потому что у него было три няньки…
– Три! Черт побери, неплохо! А картины ему что, тоже от дореволюционных предков достались?
Федор на мгновение накрыл своей ладонью руку Саши, однако быстро убрал ее, а девушку словно током ударило.
Собравшись мыслями, она продолжила:
– Ну, кое-что в самом деле досталось, например портрет его бабки кисти Репина или его мамы еще девочкой…
Нет, если она еще выпалит, что ее прабабку написал Пикассо, то Федор явно сочтет ее или безудержной фантазеркой, или невероятным снобом – и вряд ли захочет снова видеться.
– Вот это круто! Твою прабабушку написал сам Репин? И это у вас тоже имеется?
Саша кивнула и добавила:
– Ну, все свои богатства семья дедушки после революции потеряла, его бабушка, та самая, которую писал Репин, умерла от тифа, его мама была пламенной революционеркой, работала в Наркомате народного просвещения, но после убийства Кирова ее в первую же волну репрессий расстреляли…
Ладонь Федора снова легла поверх ее собственной, и на этот раз он и не думал ее убирать.
– Мне очень жаль. А твой дедушка любит искусство, ведь так?
Саша кивнула. Ну да, и, вероятно, это связано с гибелью в период репрессий его матери: коллекцию начала собирать еще она, но после ее ареста все, конечно же, исчезло. Однако дедушка, тогда молодой человек, приложил усилия, чтобы не только обрести потерянное, но с годами, через связи, друзей и посещения блошиных рынков, приобретать все новые и новые экземпляры для своей коллекции.
Которая, вероятно, была данью памяти его расстрелянной матери – и своего навсегда канувшего в Лету детства.
– Ну да, хотя он геоморфолог, то есть занимается процессами формирования Земли. Но коллекцию он собирает уже больше пятидесяти лет…
Потом они прогуливались: сначала там же, по Невскому, потом вдоль Невы, где долго сидели на парапете.
Саша рассказала Федору то, о чем никому не говорила. О гибели родителей на Памире. О том, что папа ее был талантливым ученым и наверняка обрел бы славу как у отца-академика, если бы не лавина. О своей маме со звучным именем Лаура, которая была дочкой каталонского коммуниста Ксави Монткада, бежавшего после прихода к власти в Испании Франко в СССР.
– Так ты еще и наполовину испанка! – изумился Федор, на что Саша с несколько театральной экспрессивностью произнесла:
– Дедушка по матери родом из Барселоны. А это Каталония, не Испания: Cataluña, no España. Я не испанка, я каталонка!
И добавила:
– Ну, мама в большей степени была русской, нежели каталонкой, хотя именно она научила меня фразам и по-каталонски, и по-испански… А вот немецкому меня дедушка научить так и не сумел.
– Ты совсем на испанку не похожа! – заявил Федор, и девушка рассмеялась:
– Ну, не все испанцы выглядят как гранды на картинах Веласкеса или подобны Кармен. Каталония, повторюсь, не Испания, там много светловолосых и голубоглазых, а мой дедушка по маминой линии, оказавшись в СССР, женился на белоруске…
Федор в восхищении посмотрел на нее:
– Мне бы такую семью! Один дедушка академик, другой – коммунист из Испании, вернее, из Каталонии. Одна бабушка – прима-балерина Кировского театра, другая Любовь Орлову хорошо знала. Дома у тебя висят картины, которых и в Эрмитаже-то не найдешь…
А что бы Федор сказал, если бы она сообщила, что, по уверениям мамы, их каталонское семейство Монткада не просто аристократического, а вообще королевского происхождения, потому что их ветвь – прямые, пусть и внебрачные, потомки кастильского короля Альфонса Одиннадцатого Справедливого от одной из его любовниц.
Занятно, что дедушка, каталонский коммунист, очень гордился своим якобы королевским (да еще кастильским!) происхождением, и это ничуть не мешало ему выступать не только против диктатора Франко, но и уже после кончины оного против нового испанского короля.
Саша вдохнула:
– Ну да, а прабабушку расстреляли как врага народа, одна бабушка в возрасте сорока с небольшим лет умерла от рака, другая хоть и до сих пор жива, но давно, увы, в полном маразме. Родители погибли при сходе лавины на Памире. А картины…
Саша посмотрела на лучи заходящего солнца, искрившиеся в золотом луче Адмиралтейства.
– Все эти картины, конечно, прекрасны, они и привели меня на стезю искусствоведа, как я думаю, но жить в музее, поверь мне, не так уж приятно…
Заметив на себе пристальный взгляд Федора, Саша смутилась и быстро произнесла:
– А что это мы все обо мне да обо мне? Расскажи лучше о себе!
Федор, усмехнувшись, вдруг привлек ее к себе и поцеловал: долго, страстно и так по-настоящему…
Ошалев, Саша не сопротивлялась – да и не хотела она, если честно, противиться.
Оторвавшись от ее губ, молодой человек спросил:
– Так про мою стандартную советскую семью в коммуналке рассказать или лучше еще раз поцеловать?
И, не дожидаясь ответа оторопевшей девушки, снова прильнул к ее губам.
Внучка академика, надо сказать, была вполне себе ничего. Федор ведь намеренно не стал дожидаться тогда ее пробуждения, а, приготовив оладьи и накропав записку, покинул квартиру, тихо щелкнув всеми пятью, или сколько их там, замками бронированной двери.
Внучке академика требовалась передышка, и не следовало сразу же идти в наступление по всем фронтам, это, как показывает история, контрпродуктивно.
В особенности когда хочешь обчистить квартиру дедушки этой самой внучки академика.
Он опять же намеренно объявился только на третий день, хотя номер квартиры Ильи Ильича Каблукова у него был с самого начала: еще бы, ведь одна из шалав его приемного отца позвонила внучке академика, выдав себя за кого-то из НИИ Скорой помощи, и сообщила, что дедушка при смерти и надо с ним срочно прощаться.
Дубликаты ключей были сделаны, профессионалы ознакомились с устройством сигнализации, а проверенный человечек, имевший выходы на зарубежье, получил фотографии коллекции картин. Приемный отец очень хвалил Федора и, пригласив к себе в свой недавно оборудованный на Невском офис, налил даже стопку коньяку.
– Ну, ты же знаешь, батя, мне нельзя, для спорта вредно, – поморщился Федор, а приемный отец велел:
– Одну можешь выпить, я разрешаю!
Пришлось пригубить, хотя алкоголя Федор терпеть не мог, чем крайне выгодно отличался от всей челяди своего приемного отца – и от него самого в том числе.
Тот, махнув за первой стопкой вторую, крякнул, вытер седые усы и заявил:
– Горжусь тобой, сын! На настоящую золотую жилу напал!
Федор усмехнулся и поправил:
– Я бы даже выразился: на кимберлитовую трубку!
Приемный отец, пошевелив усами, добавил:
– Любишь ты уж чересчур понтить, бросаясь словами, которых, кроме тебя, никто не сечет, сын. В нашем деле это не так уж хорошо, поверь мне…
– В нашем деле, батя? – переспросил Федор.
Приемный отец, опрокинув и третью стопку, поднялся и прошелся по кабинету своего офиса.
– Ладно, понимаю я тебя, ты умнее всех нас, вместе взятых, но опасно показывать людям, что ты соображаешь быстрее их.
Федор скромно заметил:
– Разве ты мной недоволен?
Приемный отец рубанул рукой в воздухе.
– Ты что, ты мой самый лучший кадр! Но эту свою трубку, как ты ее назвал…
– Кимберлитовую. Из таких алмазы добывают. А они покруче золота.
– Ну да, ну да, убедил, что ты самый умный, Федяка! Но учти, не всем это нравится.
Федор блеснул белыми зубами:
– Я же не алмаз из кимберлитовой трубки, чтобы всем нравиться, батя!
Тот, хохотнув, заявил:
– Да, за словом в карман не лезешь, такие стране нужны, Федяка. В депутаты тебя надо пристроить. А еще лучше – свою партию организовать! Мы тебя еще в президенты упакуем, Федяка!
Федор, у которого были свои планы на жизнь, ответил:
– Батя, давай, прежде чем мы о моем президентстве поговорим, лучше о коллекции академика Каблукова покалякаем. Правильно ли я понимаю, что там основную часть можно за рубеж сплавить и очень неплохие хрусты получить?
Приемный отец кивнул и заявил:
– Кое-что и на родине пристроим, но тут платят меньше.
Федор добавил:
– Лучше все за рубеж, чтобы ничего в России не осталось. Искать же будут. И кстати, мои ведь двадцать пять процентов?
Батя расхохотался:
– Федяка, не наглей. До двадцати пяти процентов тебе еще расти и расти. Ну да, внучку академика окрутил, доступ к квартире обеспечил… Но мы бы и без тебя это заполучили!
– При помощи твои златозубых гопников? Ну да, устроили бы мокруху, девчонку сгубили, зачем все это? Да еще бы только с пяток картин вынесли, а я вам предлагаю все. И попались бы на третий день!
Приемный отец потрепал его по плечу.
– Ценю инициативу, поэтому получишь не два, а три процента. Семь картин твои.
Три процента! Федор еле сдержался, чтобы не выругаться. Он им устроил такую малину, все расписал, слепки ключей добыл, даже код сигнализации на блюдечке с голубой каемочкой преподнес – и три процента.
И то если все будет по-честному, а в этом на батю, несмотря на всю его отеческую любовь, полагаться было никак нельзя.
– Хорошо, три, – ровным голосом заметил Федор.
Ну да, как ни крути, но не свой он у этих уркаганов и гопников, не свой. И никогда, слава богу, своим не станет. Они его презирают, он же их ненавидит. Его терпят, пока батя всем заправляет. А если батю ишемический инсульт накроет, что, с учетом нездорового образа жизни бати, только дело времени?
Или даже геморрагический?
Или банально пристрелит заказной киллер? Или взорвет? Или одна из его цып по ревности прирежет?
То, что батя рано или поздно навсегда отъедет, Федору было понятно с самого начала. И тогда никто не защитит его от своры жадных, беспринципных, гоповатых псин.
Следовало ковать деньги не отходя от кассы – и, заполучив свой куш, свалить от криминала в цивильное русло.
То есть туда, где можно делать еще большие прибыли, чем в преступном мире. Например, стать банкиром или, как теперь модно выражаться, олигархом.
А гоп-стоп в квартире академика Каблукова и был его шансом, причем звездным.
Но семь картин! И ведь Шагал или Кандинский ему не достанутся, всучат всякую требуху.
– Ну что, затягивать не имеет смысла, – сказал Федор. – Дедушка в НИИ и пробудет там еще некоторое время. На квартире только внучка…
– Девчонка, слышал, самый смак, – осклабился батя, – ты ведь наверняка с ней уже перепихнулся, сынок?
Федор поморщился. Ну да, внучка академика была прелестной юной штучкой, но таких в Питере и окрестностях пруд пруди.
Но только у внучки академика имелась коллекция картин баснословной стоимости – и именно они интересовали Федора в данный момент.
Ну и его семь картин. Нет, вы только подумайте: семь! Должны были дать как минимум двадцать, но батя зажал.
– Не перепихнулся и не думаю, – ответил Федор. – Она же не из твоих цып, батя, которые при первой же встрече дают.
– А внучка академика что, при второй? – гоготнул приемный отец. – Ты ее оприходуй, пока возможность есть. А то после гоп-стопа, может, будет более не в кондиции!
Федор холодно заявил:
– Я не для того всю эту пьесу Ионеско затеял и сценарии разработал, чтобы твои гопники заявились к внучке академика, шандарахнули ее по черепу молотком и, вынеся три наименее ценные картины, были пойманы с поличным. Повторяю – брать надо все, максимизируя нашу прибыль. Твою прибыль, батя.
Деньги батя любил, а это было гарантией осуществления бескровного и элегантного плана.
– Никого мочить не потребуется, на Восьмое марта я пригласил ее в ресторан, и пока мы будем там, вы всем и займетесь. Фургон «Доставка мебели» готов?
Батя кивнул.
– Вот и отлично. Будете вносить и выносить в квартиру академика Каблукова ящики. Соответствующие объявления от имени домоуправления о том, что имеет место доставка мебели, на дверях вывесите, а потом снимете. Внизу постоит обученный человек в спецовке с эмблемой фирмы по перевозке мебели, который станет отвечать на все вопросы соседей, если таковые последуют, и будет на шухере. Сигнализация, естественно, не сработает. О том, что академик в больнице, соседи по большей части даже не в курсе. Для всех происходящее будет выглядеть как доставка новой мебели с вывозом старой. Если работать слаженно, то все можно сделать меньше чем за час. Картины брать с рамами, время на то, чтобы их снять, не тратить. Ящики заполнять аккуратно, не повреждая товар, потому что это наши деньги. Твои деньги, батя.
Тот, погладив усы, хряпнул еще одну стопку, предложив и Федору, но тот благоразумно отказался.
– Нравится мне это, Федяка, очень даже нравится! На глазах у всех этих фраеров вынесем все картины, и никто тревоги не поднимет! Ну а если поднимет…
Он осклабился, а Федор добавил:
– Повторяю, без эксцессов. Ну то есть без ненужной мокрухи. Убивать бабку-поэтессу, которая соизволила поинтересоваться, что в ящиках, не надо. Вежливо объясните, что это сделанные по заказу витрины для геологических экспонатов академика Ильи Ильича. Улыбнитесь, дайте нормальный ответ – и от вас отстанут и позволят вынести все картины.
Опустошив бутылку коньяка, батя заметил:
– Это, как ты любишь выражаться, сынок, войдет в этот, как его, анал ментовской истории! Вынесли все на глазах у всех, и никто ничего не понял!
Федор поправил:
– В анналы истории, батя. То есть в годовые хроники. А то, что войдет, ты прав. Поэтому позаботьтесь об отпечатках и об узнаваемых рожах. Работать только в перчатках, что при доставке мебели ни у кого не вызовет подозрений, и в париках и с фальшивыми усами.
Батя замахал руками:
– Ну, не гони волну, не первый мой гоп-стоп и, дай бог, не последний! Ладно, классом погуще, чем все предыдущие, это верно, но мои люди дело знают. А ты, стало быть, девчонку будешь окучивать, пока мы картины тягать станем?
– Кто-то же должен окучивать, ведь так? У твоих золотозубых гопников как-то не очень вышло. Кроме того, не забывай, я автоматически окажусь под подозрением, когда все вскроется. А вскроется очень и очень быстро, стоит ей только вернуться домой и обнаружить голые стены. Я был у нее в квартире, я знал о коллекции, я – недавнее случайное знакомство, что уже само по себе весьма подозрительно. Поэтому мне нужно железобетонное алиби, а внучка академика мне его и обеспечит, одновременно открывая вам полный доступ к квартире.
Батя крякнул, а Федор усмехнулся и добавил:
– Да, мы проведем с Сашей воистину незабываемое Восьмое марта.
Саша была сама не своя, когда отправлялась на встречу с Федором – нет, не на встречу, а на их свидание.
Их первое официальное свидание, назначенное на Восьмое марта.
День было хмурый, ветреный, хоть и теплый, со свинцового балтийского неба срывались тяжелые капли, но Саше было решительно наплевать, на улице мог бушевать муссон, тайфун и даже самый настоящий Эль-Ниньо – она ведь сегодня снова увидит Федора!
Федю, как она называла молодого человека про себя.
Своего молодого человека: в этом сомнений быть уже не могло.
Восьмого марта они встретились опять около «Вани Гога», и Федор преподнес ей белую розу – одну-единственную. А потом, чувственно поцеловав, сказал:
– Нет, пойдем мы сегодня не сюда, ты ведь не против?
Со своим любимым – а Саша уже знала, что могла называть Федора именно так, – она была готова идти куда угодно.
Их ждал отдельный столик в «Англетере» и праздничное меню. Взволнованная Саша ловила каждое слово Федора, хотя болтали они о сущих пустяках.
Взяв ее руки в свои, молодой человек произнес:
– Знаешь, я хочу сказать, что…
Неужели он признается ей в любви?
– …что крайне благодарен судьбе за то, что она свела нас вместе. Крайне благодарен!
И легонько поцеловал ее пальчики.
Млея, Саша желала одного: чтобы этот день никогда не заканчивался. Потеряв счет времени, она сказать не могла, как долго они провели в итоге в ресторане – час, два или все пять. Кормили их чем-то изысканно-парадным, но и это не сохранилось в памяти девушки: смотрела она не в тарелку, а на Федора.
А как она отреагирует, если он сделает ей сегодня предложение? Хотя кто делает предложение на втором свидании?
Может быть, он?
Федор скучал – внучка академика все время таращилась на него, как будто он был привидением, и он уже не сомневался: она встрескалась в него по уши. Ну что он мог поделать, если в него влюблялись, – такой уж он очаровашка!
Обед в «Англетере» был его задумкой. Конечно же, они бы могли остаться в пролетарском «Ване Гоге» или вообще заглянуть в какую-нибудь пельменную около Московского вокзала: эффект был бы все тот же: внучка академика таращилась бы на него, ловя каждое его слово, то и дело вздыхая и прижимая к груди подаренную им розу.
Цветок он стянул из букета какого-то зазевавшегося кавалера, который ожидал свою любимую.
Не покупать же, в самом деле!
То и дело Федор поглядывал на часы, кляня время за то, что оно тянется как резиновое. Ну да, вообще-то на операцию изъятия было отведено не больше часа, однако это не значило, что, просидев с внучкой академика час в «Англетере», ему следовало, внезапно вскочив, заявить, что «кина не будет».
Надо удерживать ее до вечера, чтобы и подозрений не возбудить, и чтобы она не заявилась домой в самое неурочное время, когда гопнички бати выносят коллекцию ее дедушки.
Пришлось жертвовать целым днем.
После ресторана Федор мягко сказал, что они могли бы сходить в кино, но лучше прогуляются, и взял Сашу под руку. И тут она сама его поцеловала: быстро, робко и в щеку.
Молодой человек, улыбнувшись, что-то сказал, а Саша вспыхнула: никогда бы не подумала, что способна на такое.
А ведь она его любит!
Господи, да внучка академика его, похоже, любит! Этого еще не хватало. Ну да, одно дело, если бы у нее возникли к нему романтические чувства.
Ну или даже сексуальные.
А внучка академика, теперь Федор в этом уже не сомневался, наверняка считает его своим суженым и будущим мужем.
Час от часу не легче!
Ну да, недавно он бы счел за счастье стать мужем внучки академика: ей девятнадцать, ему двадцать один, почему бы, собственно, и нет? Ее дедушка и родители, которых у нее теперь нет, наверняка помогли бы ему при помощи своих связей сделать отличную карьеру и пристроили бы его на теплое местечко.
Но все это было в далеком прошлом: и возможности родителей внучки академика, и могущество самого деда, уже и деканом-то не являвшегося, и то время, когда Федор нуждался в их связях, протекциях и замолвленном словечке.
Как и страна, в которой они все родились и выросли.
Теперь ему требовались не связи академика, а исключительно его картины: на все остальное имеется рынок и незамысловатая, но столь эффективная схема «товар-покупатель-продавец».
Товар находился в элитной хате академика, единственная возможность добраться до него была через внучку академика, и он использовал свой шанс.
И ради этого пришлось шастать вдоль Невы, держаться за руки, вздыхать, млеть, блеять какую-то чушь.
Ну и немного целоваться и аккуратненько лапать внучку академика, что было, в сущности, его бенефитом с этого долгого, нудного и никчемного свидания.
Ну, не единственным бенефитом: не стоит забывать о семи картинах, пусть и второстепенных, которые в этот момент, как Федор искренне надеялся, уже полностью были погружены в фургон с надписью «Доставка мебели» и ехали за город, в неприметный склад около железнодорожных путей.
Федор был нежен и предупредителен, как и в прошлый раз. И несколько раз поцеловал Сашу, что доставляло ей небывалое наслаждение.
Они говорили обо всем на свете: узнали, что оба любят собак, черную смородину и Бродского. Что равнодушны к алкоголю, но сходят с ума от мороженого. Что, сами того не подозревая и, конечно же, не сталкиваясь, присутствовали четыре года назад на концерте группы «Скорпионз» в Ленинграде – и оба посетили его тайком от родителей.
Хотя кто знает, может, и сталкивались.
Федор чувствовал, что у него раскалывается голова. Кто бы мог знать, что это свидание с внучкой академика окажется таким занудным. Хорошо, что девчонка сама поведала, от чего она без ума, и ему приходилось только поддакивать, заявляя, что и ему нравится именно это.
Ну да, она что, в самом деле считала, что он читает этого, как его, Бродского? Кто этот щегол, да, слышал, но читать? Зачем? Вот печатавшиеся в диком количестве в аляповатых обложках российские боевики – это было в его вкусе, а все эти поэты и барды…
А вот на концерте «Скорпионз» он был, тут ничего сочинять не пришлось: правда, ему жутко не понравилось, находился он далеко от сцены и вообще тогда, молодой и глупый, перебрал лишнего и его полконцерта тошнило.
Мартовский закат в прозрачном, подернутом легкой дымкой балтийском небе был потрясающим. Впрочем, даже если бы шел нудный ливень, Саше было бы все равно: ведь рядом с ней находился Федор.
Ее Федор.
Она сама взяла его за руку и чувствовала себя так покойно и счастливо. День завершался, но ведь ей вовсе не обязательно было возвращаться домой: они могли гулять и всю ночь, и весь последующий день.
– Тебе ведь не холодно? – заботливо спросила Саша, и Федор, поцеловав ее, ответил:
– С тобой мне всегда очень и очень тепло, любимая!
Он что, в самом деле назвал ее любимой? Ну да, выходило, назвал. И чего они шляются тут по набережной Невы, все равно ничего нового не обнаружат. А дул пронизывающий ветер, он весь до мошонки промерз. Ну Эрмитаж, ну Троицкий мост, ну Адмиралтейство. Зуб на зуб от мартовского холода не попадал, тем более что он, идиот, оделся легко, выпендриться захотел. Думал, посидит с девчонкой в ресторане, поболтает немного, ну потискает немного на лавочке – на этом все и закончится.
Однако нет, внучка академика не хотела расставаться с ним, это было ясно как божий день, пришлось подыгрывать. Надо было с самого начала выдумать что-то про больную маму, к которой ему надо сгонять, ну или хотя бы про находящуюся при смерти бабушку.
«Вспоминать» про бабушку теперь было бы как-то подозрительно.
То и дело посматривая украдкой на часы, Федор не сомневался: операция по изъятию дедушкиной коллекции давно завершилась и фургон с надписью «Доставка мебели» уже благополучно покинул черту Ленинграда и находился на складе, где товар принимали, оприходовали и сортировали знающие люди.
Так что он, черт побери, делает в компании с девчонкой на продуваемой пронизывающим ветром набережной?
– Тебе точно не холодно? – заботливо спросила Саша и поправила воротник легкого пальто Федора. Только сейчас ей стало ясно, что молодой человек стучит зубами.
– Может, согреемся где-нибудь? – произнес он и посмотрел на наручные часы. Саша уже видела, как в последнее время он бросал на них взор: он что, спешит?
Или, что намного хуже, ему с ней скучно?
Они зашли в первую попавшуюся забегаловку, где им подали отличный чай и отвратительные ромовые бабы.
Разламывая их на тарелке и вытаскивая изюм, они дурачились, и Саша, от которой не ускользнуло, как Федор вновь посмотрел на часы, произнесла дрогнувшим голосом:
– Тебе что, пора?
А что, если он скажет «да»?
– Да нет же, мне так с тобой хорошо! – ответил он, заказывая по второму стакану чая. – Просто надо было к бабушке заглянуть и поздравить, она в последнее время сдала. Она меня после гибели родителей в автокатастрофе одна воспитала.
Саша, помолчав и погладив его по руке, с болью в голосе произнесла:
– А давай мы навестим ее вместе!
Ну да, не хватало, чтобы они к его бабке в коммуналку, где он вырос, заглянули вдвоем, – та встретила бы их трехэтажным матом и водочным перегаром! Старая карга, которая в детстве его нещадно лупила всем, что попадет под руку, в том числе и стиральной доской, и шлангом от пылесоса, которую он люто ненавидел и которая сожительствовала с каким-то бывшим зэком, моложе себя лет на двадцать, но почти без всех зубов, наверняка сейчас гудела – и вовсе не по случаю Восьмого марта, а не просыхая с Двадцать третьего февраля.
Ну или даже с Нового года.
Бабушка у него была еще той алкашкой и асоциальным элементом, и навещать ее Федор уж точно не намеревался. А про гибель родителей ляпнул, чтобы внучка академика еще больше к нему прониклась чувствами – ее же собственные загнулись на Памире.
– Жаль, что в этот раз познакомиться с твоей бабушкой не получится, – вздохнула внучка академика. – Она наверняка у тебя выдающийся и крайне интересный человек – как и ты сам, Федя!
Она назвала его Федей? Ну да, назвала!
Ее Федя.
Глаза молодого человека сверкнули.
– Ну да, крайне интересный, ты в этом права. Я тебя познакомлю, но только не в этот раз. Бабушка не любит, когда… когда в гости приходят без предупреждения! Ну и сегодня она принимает своих закадычных фронтовых подруг, им лучше не мешать, они предаются воспоминаниям…
Хоть удалось с грехом пополам отделаться от навязчивой идеи посетить его бабку. Ну да, фронтовых подруг она принимала, куда там! Бабуля там вторую бутылку водяры на грудь принимала, вот чем она была занята!
Но он хоть горячим чаем согрелся.
Был темный поздний вечер, когда Федор доставил внучку академика к дому на Карповке. Та все еще бережно прижимала к груди белую розу, правда, уже несколько поникшую и смятую.
– Ты ведь выпьешь чаю? – спросила она с робкой надеждой.
Гонять чаи Федор не намеревался, хотя подняться и заглянуть в сортир в квартире академика он бы не отказался.
Правда, не стоило ему находиться рядом с внучкой академика, когда она окажется в пустых и голых комнатах, где нет ни одной картины: там будет уже не до сортира.
Поэтому пришло самое время обжиматься, целоваться и прощаться: пусть с ментами якшается сама.
– Ну, мне еще к бабушке забежать необходимо, – заявил Федор. – Думаю, ее фронтовые подруги уже ушли. Помочь надо старушке, она уже сдает. Ты ведь не обидишься, если я на чай поднимусь в другой раз?
Саша еле сдержала вздох разочарования, но, конечно же, не возражала, раз Федору требовалось навестить его бабушку: старушку он наверняка любил, раз так часто говорил о ней.
– Ты точно не сможешь? – ее голос предательски дрогнул. – Хотя бы на десять минут… На пять?
Вышедшая из подъезда рыжеволосая соседка, четвертая супруга и вдова известного советского литературного критика, ведя на поводке добродушную колли, произнесла, обращаясь к Саше:
– С вашим переездом ведь все в порядке? Выяснили, что к чему?
Не понимая, что она имеет в виду, Саша произнесла:
– С переездом?
Соседка кивнула:
– Ну да, вам ведь полдня мебель доставляли и забирали. Наверняка себе новый гарнитур купили, ведь так? Илья Ильич будет точно доволен!
Уверенная, что соседка что-то путает, Саша заявила:
– Дедушка в больнице, вы разве не знали?
Соседка, поправляя ошейник своей колли, ответила:
– Ну да, я и не знала, но он мне сам сказал, когда я его сегодня около дома встретила. Он как раз пытался выяснить что-то у грузчиков и был в крайнем возбуждении. Поэтому и спрашиваю: у вас все с новой мебелью в порядке или при доставке напутали чего? Может, не тот заказ привезли?
Слова этой рыжей тетки с вертлявой собакой Федору крайне не понравились. Как это дед, который должен был еще две, а то и все три недели лежать в своем НИИ, вдруг тут оказался?
Вряд ли его досрочно выписали, объяснение появлению старче около дома на Карповке могло быть одно: больной академик, воспользовавшись тем, что был праздник и врачи наверняка тоже несколько потеряли бдительность, самовольно покинул палату и поперся домой.
Ну да, старый хрыч все из-за картин переживал – и пожаловал в самый ответственный момент, когда эти картины выносили и грузили в фургон с надписью «Доставка мебели».
Черт, черт, черт, неужели все пошло наперекосяк?
Судя по тому, что никаких милицейских машин около дома видно не было, завершилось все благополучно. Только вот что стало со старче – его что, по пути на склад за городом завезли обратно в Джанелидзе?
Сама не своя, Саша никак не могла поверить, что дедушка сбежал из больницы. Но ведь другого объяснения быть попросту не могло: дотошная соседка точно не ошибалась и не сомневалась, что видела Илью Ильича и говорила с ним несколько часов назад у подъезда.
И о каком это переезде речь?
– Неужели дедушка сам себя выписал? – произнесла Саша в ужасе, понимая: если так, то он сейчас уже дома, а ведь там такой кавардак!
Взяв Федора за руку, она произнесла:
– Я тебе рассказывала, что дедушка у меня сложный человек? Он всегда таким был, а после смерти моих родителей полностью замкнулся в себе. Но ты ему понравишься, Федя, я не сомневаюсь! Ты ведь зайдешь к нам? Я тебя прошу.
Девчонка явно робела перед своим дедом-академиком, но встреча с ним в планы Федора никак не входила: тем более в день ограбления, когда у старика забрали все его любимые картины.
Однако внучка академика так жалобно на него смотрела и так цепко держала за руку, что делать было нечего. Если бы он снова завел пластинку о своей больной бабушке и все же ушел, это потом, после обнаружения факта ограбления, выглядело бы слишком подозрительно.
А так пройдет свидетелем по делу – если вообще пройдет.
Только вот вопрос: если старче заявился в самый разгар гоп-стопа и понял, что происходит что-то криминальное, то почему не поднял тревогу?
В лифте Саша, уставившись на лежащее в углу скомканное и грязное кухонное полотенце в красную полосочку, осторожно подняла его и сказала:
– Это же из квартиры дедушки! Только что оно здесь делает?
Федор ничего не ответил.
Дверцы лифта разъехались, они вышли на последнем этаже. Девушка, оказавшись перед квартирой, сдавленно произнесла:
– Дверь хоть и прикрыта, но не закрыта, хотя я точно все запирала и ставила на сигнализацию. Неужели дедушка, вернувшись, забыл ее закрыть? Такого быть не может!
Рванув на себя дверь, она прошла в коридор, в котором горел свет.
Что-то в квартире было не так, и Саше понадобилось несколько мгновений, дабы понять, что же именно.
На стенах коридора не было ни одной картины, виднелись только светлые пятна на обоях: места, на которых раньше висели полотна.
Те самые, которые вдруг разом исчезли.
Девушка бросилась по коридору внутрь.
Замерев на пороге, Федор размышлял. Девчонка, сразу сообразив, что что-то не так, даже не оборачиваясь, сломя голову ринулась в недра квартиры.
Еще бы, все было очень даже себе не так, и в этом была загвоздка.
Изначально подниматься в квартиру академика, в которой имел место гоп-стоп, в планы Федора никак не входило. И вообще, надо было распрощаться с внучкой академика у метро, тогда многого можно было бы избежать.
А так он против своей воли оказался здесь, и если бы скрылся прямо сейчас, это вызвало бы большие подозрения.
Просто огромные.
Ну что же, придется становиться свидетелем, ничего не поделаешь. Все равно он весь день провел с внучкой академика и к краже картин отношения не имел: она сама подтвердит.
А батя по своим каналам уж позаботится о том, чтобы дело спустили на тормозах и он по возможности даже и свидетелем не проходил: ну случайный знакомый, который доставил внучку академика в квартиру, вот и все.
И все же его одолевали любопытство и некоторый кураж. Ну и желал Федор удостовериться, что унесли все.
Может, появление старче, сбежавшего, по всей видимости, из больницы, привело к тому, что гопники бати самые лакомые куски в квартире оставили?
Не хотелось бы.
Поэтому Федор осторожно переступил порог квартиры и прошел в коридор.
Завидев светлые прямоугольники на обоях, он понял: из коридора изъяли все. А вот из комнат?
До него донеслась странная смесь завываний и причитаний. Проплутав по комнатам, Федор в итоге вырулил в гостиную – и увидел внучку академика, сидящую на грязном полу и прижимющую к себе голову лежащего там же старика.
Ну прямо мотив Репина «Царь Иван Грозный убивает своего сына». Того самого Репина, который, по словам внучки академика, написал портрет бабки ее деда.
Того самого, чье бездыханное тело покоилось на полу.
Саша помнила тот момент, когда, пройдя в прострации по коридору и комнатам, на стенах которых вдруг не стало ни одной картины, она оказалась в гостиной.
Она для себя решила, что дедушка, внезапно вернувшись, вдруг сошел с ума и решил снять со стен все полотна.
Только вот если бы он их снял, то куда бы дел? Потому что в квартире картин не было.
Ответ на этот вопрос, не исключено, мог дать дедушка, и его она обнаружила на полу: в странной позе, бездыханного и нешевелящегося.
Уверенная, что это очередной инсульт, на этот раз с гораздо более плачевными последствиями, Саша бросилась к нему, опустилась на колени, попыталась растормошить.
И вдруг поняла, что голова дедушки вся в крови – уже черной и липкой. И что она вытекла на паркет из глубокой рваной раны на затылке.
Прижав голову дедушки к себе, Саша принялась плакать.
Сцена была не самая приятная: внучка академика сидит на грязном паркете, раскачиваясь взад и вперед, прижимает к себе окровавленную голову старче и заунывно воет. У Федора даже мурашки по телу пошли. Так хотелось развернуться и удалиться восвояси, но теперь пришлось оставаться до конца.
Быстро окинув взором гостиную, он удовлетворенно отметил, что и тут нет ни единой картины. Надо еще при возможности в кабинет старика заглянуть, но если оттуда все забирали, то ничего и не забыли.
Он снова посмотрел на тело старче. Что же, кто мог знать, что академик решит наведаться в квартиру в тот момент, когда ее обчищали? Да, мокруху не планировали, но ведь ушлый старче, поняв, что его элементарно грабят, наверняка поднял бучу – вот гопникам бати и пришлось его успокоить.
Молотком или чем-то подобным по затылку: раз и навсегда.
Тут уж не до сантиментов, приходилось действовать спонтанно, и Федор сам знал, что никакой, даже самый идеальный план никогда не удается исполнить на сто процентов.
Пришлось сымпровизировать – вот гопнички бати и сымпровизировали.
Молотком по кумполу.
Саша не могла поверить, что это происходит в действительности. Ведь весь день прошел как в волшебном сне.
Который вдруг, когда она вернулась в квартиру дедушки, обратился в сущий кошмар.
Сначала незапертая дверь, потом стены без единой картины – и затем тело дедушки на грязном полу.
Дедушка был мертв, она поняла это почти сразу, и причиной его смерти был не повторный инсульт, а рваная глубокая рана на затылке.
Дедушку кто-то убил, а заодно и похитил все картины.
Подняв глаза, Саша увидела Федора, стоящего перед ней и странно на нее взирающего. Сначала девушке показалось, что он смотрит на стены, словно любуясь светлыми квадратами и прямоугольниками, оставшимися от исчезнувших картин, но она не усомнилась: ее любимый в точно таком же, а не исключено, и еще в большем шоке, чем она сама.
– Дедушка… Дедушка… – произнесла еле слышно Саша и вдруг заплакала.
Дедушка был мертв, вернее, убит, и она ощущала на руках его загустевшую липкую кровь.
Присев рядом с ней, Федор произнес:
– Не надо ничего тут трогать. И вообще, стоит вызвать милицию. У вас ведь телефон имеется? Лучше тебе говорить, ты же все-таки внучка…
Звонить ментам и светиться Федор явно не намеревался, пусть этим занимается внучка академика.
Того самого, который покоился посреди казавшейся такой пустой из-за полного отсутствия картин гостиной.
Пока внучка академика, им практически отконвоированная в кабинет старче, дрожащими пальчиками набирала заветные две цифры, Федор убедился: да, и из кабинета тоже все забрали. Нет, что ни говори, а гопнички бати все же молодцы и дело свое криминальное знают – правда, мокруху учинили, но это не их вина.
А исключительно того тупого старика, труп которого теперь лежал в гостиной с проломленной головой. Не заявись он сюда в неурочное время, валялся бы себе на кровати отдельной палаты в Джанелидзе и шел на поправку.
А так отправится скоро на кладбище.
Ну, каждому, как говорится, свое.
Завершив разговор с милицией (впрочем, что тут было говорить – она попросила только приехать как можно быстрее и прислать «скорую», хотя та дедушке уже не требовалась), Саша сидела около стола дедушки и таращилась в окно.
Заслышав шаги, она краем глаза увидела подошедшего к ней Федора. Как же хорошо, что она не одна, потому что наверняка бы сошла с ума, если бы ее любимого не было рядом.
– Мне страшно, мне очень страшно. Обними меня, – попросила Саша.
Федору пришлось еще и обжиматься с внучкой академика, которую била нервная дрожь. Что же, понять можно: заявилась домой после упоительного (как он надеялся!) свидания, вся такая в растрепанных чувствах и сексуальных гормонах, и на тебе – все дедушкины картины кто-то из квартиры вынес, а сам старче с дырой в затылке лежит мертвяк мертвяком на полу.
И не дышит.
Ей требовалась поддержка; только если моральная, то отчего девчонка сама полезла к нему с поцелуями, при этом еще по-детски хныча? Пришлось даже целоваться и миловаться с ней, хотя ничего романтического в этом не было: в соседней комнате лежал покойничек, а они бесстыдно в его кабинете тискались.
Вероятно, из-за стресса ей требовались все эти невинные шалости, и в первую очередь чтобы успокоиться, к сильному плечу прижаться и от страха не свихнуться.
Да, надо было с ней около метро распрощаться! А то ведь сейчас менты нагрянут, тут на всю ночь следственных мероприятий, если не дольше.
Но делать было нечего: пришлось и морально поддержать, и даже полизаться с внучкой академика.
Как ни крути, но ведь все прошло хорошо – правда, без трупа не обошлось, но дедушка и так был хлипкий и ветхий, все равно бы от инсульта скоро помер.
А так от удара молотком по затылку.
Странно, но появление милиции, а потом и следователей, наводнивших квартиру, взбодрило Сашу и придало ей сил. Однако она понимала, что единственная ее опора и источник энергии – Федор, который находился неотлучно около нее. Она несколько раз говорила ему, чтобы он шел домой, тем более к больной бабушке заглянуть захотел, но он, каждый раз ее целуя, уверял, что одну ее не оставит.
Она так была ему благодарна!
Без него бы она полностью растерялась, потому что все эти оперативники и следаки были хоть и любезные, но бесцеремонные люди. Задавали ей какие-то вопросы, от которых голова шла кругом, потому что перед глазами стоял мертвый дедушка на полу гостиной.
Гостиной, на стенах которой не было ни единой картины.
Впрочем, картин не осталось не только в гостиной – их не было и во всей дедушкиной квартире. Потому что этот самый переезд, о котором вела речь рыжеволосая соседка, был грандиозным ограблением.
Федор, надо отдать ему должное, принял удар на себя, потому что говорил по большей части он, рассказывая о том, где они весь день были, что делали и как оказались на месте преступления, наткнувшись на потерпевшего.
То есть на дедушку.
Тела дедушки Саша больше не видела: когда она снова оказалась в коридоре и бросила оттуда мимолетный взгляд в гостиную, то покойника уже накрыли простыней.
Этот покойник был ее любимым дедушкой.
От множества вопросов пухла голова, поэтому Саша была крайне благодарна Федору за то, что он принес ей крепкого сладкого чаю и потребовал:
– Пей!
Она выпила и сразу почувствовала, что ее клонит в сон. Был ли вечер, ночь или даже утро следующего дня, Саша уже не понимала. Хотелось только одного: лечь, забыться, потом пробудиться – и понять, что все это был дурной сон.
– Я прилягу, но ты разбуди меня, если что. И, прошу, не уходи, не бросай меня одну! – произнесла она, сворачиваясь на диване в кабинете дедушки клубочком.
Федор, накрыв заснувшую девушку пледом, подумал, что очень хорошо, что полученные тогда таблетки, однажды уже использованные, он так и не выбросил, а носил с собой.
Вот и пригодились.
Пусть внучка академика подрыхнет, все равно от нее толку никакого, только в беседе с ментами может наболтать лишнего. А так, излагая им свою версию, он все представит как надо, обойдя острые углы и сгладив свою особую роль в этой истории.
Готовя чай, Федор сумел-таки мельком заглянуть во все комнаты. Гопнички бати превзошли самих себя: они забрали реально все.
И из этого всего семь картин его.
С ментами он вел себя отстраненно, почтительно и настороженно. Ну да, пришлось отвечать на вопросы и свой паспорт показывать, но слов из песни уже не выкинешь. Тем более он представился женихом внучки, и это подозрений не вызывало.
Ну да, хорош женишок, знаком с ней всего неделю или около того, и его роль заключалась в том, чтобы провести рекогносцировку и получить доступ к квартире академика Каблукова.
Ныне, увы, покойного.
Убитого ударом, вероятно даже не одним, чем-то тяжелым по затылку.
В газетах не напишут «после тяжелой продолжительной болезни». Скорее Невзоров в своих «600 секундах» поведает граду и миру о новом ужасающем преступлении в бандитском Петербурге.
Менты никаких подозрений в отношении Федора не выказали. Ну да, вежливый немногословный молодой человек, к тому же студент юрфака ЛГУ, жених несколько истеричной, теперь, слава богу, заснувшей внучки жертвы.
Об истинной роли этого самого жениха никто не догадывался – и пусть так и остается. Конечно, рано или поздно встанет вопрос о том, как грабители проникли в квартиру, не приведя в действие сигнализацию и даже не взламывая бронированную дверь.
Но он-то какое к этому имеет отношение? Вот именно – никакого!
Уже настало хмурое утро, а в квартире было еще полно людей. Федор чувствовал себя усталым и измотанным, да и жрать хотелось. А в этой неприветливой квартире ничего, кроме окаменелых пряников, не было.
Да и те сгрызли менты.
Раньше вот имелись еще раритетные полотна, но теперь и они оказались в руках тех, кто знал, как получить от этого выгоду.
В сущности, миссия Федора на этом завершилась, и ему пора было расстаться с внучкой академика.
Надо было тогда около метро распрощаться!
Только вот если он кинет ее сейчас и, разорвав все отношения, исчезнет с ее горизонта, то это, с учетом всех последних событий, вызовет закономерные подозрения.
Поэтому приходилось играть роль женишка и утешителя.
Похоже, он дал девчонке слишком большую дозу, потому что просыпаться она упорно не хотела.
Поэтому, буквально растолкав заспанную Сашу, Федор спросил:
– Они спрашивают, есть ли тебе куда идти. Потому что квартиру пока на время опечатают, они сюда еще со своими экспертами приедут, дабы завершить все следственные мероприятия.
Ничего Саше не снилось, и она была за это крайне благодарна. Просто закрыла глаза, провалившись в черную прореху, а потом ощутила, что кто-то трясет ее за плечо. Причем делает это не то чтобы особо нежно. Или ей так показалось?
Наверняка показалось, потому что тормошил ее Федя, а он бы ни за что не стал проявлять бесцеремонность.
Саша не сразу поняла его вопрос, молодому человеку пришлось повторять. И только потом до нее дошло: дедушкину квартиру надо покинуть.
Она бы и сама тут ни за что добровольно не осталась.
– Я вернусь в квартиру родителей, там, на Васильевском острове, в Шкиперском протоке.
И заплакала.
Федор, прижав ее к себе, сказал:
– Я тебя туда отвезу.
Ну да, было бы верхом подлости бросать внучку академика одну, но даже не это остановило Федора. Опять же она не должна испытывать подозрений: если они и расстанутся, что было неминуемо, то красиво и, главное, без неприятных для него последствий.
Они добирались до Шкиперского протока на такси, и Федор, машинально поглаживая руку опять заклевавшей во время поездки носом внучки академика, все думал о том, что одним, как эта Саша, всё (и дедушка-академик, и бабушка-балерина, и иностранные языки как родные с младых ногтей, и одна дедушкина квартира на Петроградской стороне и другая родительская на Васильевоостровской, и коллекция картин, и Пикассо на десерт…), а другим, как ему, ничего.
Но и последние станут первыми.
Картин девчонка лишилась, как и дедушки-академика. Родителей присыпало снегом на Памире, тут ничего не поделаешь. Федор не имел бы ничего против, чтобы и его предков тоже накрыло лавиной, цунами или гигантским астероидом, туды их в качель.
В особенности бабулю.
Пусть внучка академика всего и лишилась, но две квартиры, как выходило, у нее остались: ведь больше родственников у нее не было. Нет, имелась вроде какая-то дементная бабка в Москве, но картин у той, кажется, нет.
Выходило, что, несмотря на все, внучка академика была еще очень даже выгодной партией.
Только ему она не требовалась, пусть на две квартиры ее разводят другие, наверняка свято место долго пустым не останется, тем более внучка академика из разряда типичных жертв.
Однако, прохаживаясь по трехкомнатной родительской хате Саши, Федор представлял, что все это его.
Ничего, станет его – и для этого на девчонке даже жениться не потребуется. У него теперь благодаря семи картинам дедушки-академика имелся стартовый капитал, чтобы раскрутиться.
Он и раскрутится.
Положив спящую Сашу на кровать, Федор поморщился. Не такая уж она и пушинка, и если он будет вечно ее таскать, то даже с его тренированной спиной грыжу заработает.
И все же, что ни говори, она была чертовски привлекательна, а когда у него был последний раз секс?
Федор, глядя на лежащую перед ним внучку академика, которая была в полной его власти, вдруг ощутил сильнейшую эрекцию.
Саша почувствовала, что ее кто-то целует – причем призывно и так сладострастно. И поняла, что чьи-то руки плотно сжимают ее грудь. А затем с нее пытаются стащить трусики.
Дернувшись, девушка, все еще не отойдя ото сна, открыла глаза – и увидела перед собой сосредоточенное лицо Федора.
Тот как раз входил в нее, и Саша вскрикнула.
– Ты ведь хочешь именно этого? – произнес он, целуя ее. – Ты ведь все время хотела именно этого?
Саша закусила губу: было больно, стыдно и приятно одновременно.
Ну да, он был прав, она ведь хотела его все это время!
Федор, наваливаясь, все целовал ее, и Саша, всхлипнув, вдруг произнесла:
– Может, не надо?
Тот ответил:
– Только не говори, что тебе не хочется! Или мне прекратить? Только скажи, и я перестану.
И при этом двигал телом все быстрее и быстрее.
Саша сама не знала, чего ей хотелось. Она провела незабываемый день с Федором, ее дедушку убили, его квартиру ограбили, ее допрашивала милиция, она не знала, что делать, она и Федя занимались любовью.
Или просто столь желанным, резким сексом?
– Ты ведь меня любишь? Скажи, Саша, ты ведь любишь меня?
Обвив его шею и прижав к себе, девушка прошептала:
– Да, люблю, я очень сильно люблю тебя! Мы ведь будем теперь вместе?
Федор понимал, что, если уж на то пошло, он фактически изнасиловал внучку академика: правда, весьма и весьма нежно.
Она, кажется, сама об этом еще не догадывалась, но она вообще по жизни многого не понимала.
Секс был не самый плохой, но и далеко не лучший: внучка академика реально оказалась девственницей. Их Федор не любил, возиться приходилось слишком обстоятельно, он предпочитал опытных цып из разряда тех, которых всегда было полно около бати.
Однако он не мог расстаться с внучкой академика, так и не трахнув ее. Ну да, забрал ее картины – и ее девственность тоже.
Попутно и дедушку кокнул, но к этому он отношения не имел. Его бы воля, дедушка остался бы жив, хотя старче наверняка бы поднял хай на весь мир после ограбления, а вот его внучка явно не будет скандалить.
Так что и неплохо, что его на тот свет отправили.
После секса, перекусив на скорую руку (благо, в холодильнике внучки академика кое-что вкусное нашлось, в отличие от квартиры ее покойного дедушки), Федор завалился рядом с Сашей спать.
Он был таким красивым – одухотворенным и милым. Проснувшись, Саша долго рассматривала лицо спящего Феди.
А потом, выскользнув из кровати, отправилась в душ. Подставив свое тело потокам теплой воды, она думала, что вот оно и свершилось.
Она в первый раз занялась сексом и сделала это с человеком, которого полюбила: чего же можно было еще себе пожелать?
И все равно на душе кошки скребли: дедушку убили, его коллекцию картин похитили, а она…
Она прыгнула в койку с…
С человеком, которого любит.
Скрипнула дверь, душевая занавеска отъехала в сторону, и Саша увидела Федора: полностью обнаженного и такого соблазнительного.
– Я тоже хочу принять душ, ты ведь не возражаешь?
И он перешагнул через край ванны.
После утомительного, но уже гораздо более страстного секса в ванной они завтракали: Федор поджарил яичницу, которую внучка академика, раскрасневшись и смеясь, уплетала за обе щеки и хвалила, называя самой вкусной едой в своей жизни.
Ну, с учетом, что у нее только что был с ним самый лучший секс в ее жизни, это было неудивительно.
Секс в самом деле во второй раз был намного лучше, чем в первый, но все равно до цып бати внучке академика было далеко. Но на то она и внучка академика, чтобы не обладать эротическими замашками невских путан.
Потом, словно опомнившись, внучка академика помрачнела и сказала:
– Дедушку ведь убили, а я…
И снова заревела.
Пришлось утешать, целовать, миловать и в итоге взять на руки, оттащить в постель и снова знатно оттрахать. Если придется так часто ее носить туда-сюда, он точно заработает межпозвоночную грыжу.
Потом она снова соизволила заснуть, а Федор решил исследовать квартиру ее родителей, тех самых, которых присыпало снежком на Памире.
Ну да, книжечки, в том числе зарубежные детективы, причем на языках оригинала, и всякая специализированная мура, чехословацкий мебельный гарнитур, итальянская люстра, даже какая-то мудреная картина на стене.
Федор долго ее исследовал, колупая ногтем, и только потом понял: нет, никакой не подлинник, как в квартире старика-академика, а всего лишь фотопринт.
Поживиться тут было явно нечем – если не считать внучки академика, которую он за последние несколько часов трахнул уже трижды.
Он тоже не порноактер, чтобы с ней постоянно в койке прыгать.
Обнаружилось немного наличных и шкатулка с украшениями, вероятно покойной матери, той самой, с испанскими корнями.
Каталонскими.
И даже не золото с брюликами, а серебро с бирюзой: м-да, тут много не возьмешь.
Девчонку Федору было даже отчасти жаль. Ну да, изъяли у нее картины дедушки, но они ей к чему? Если не они, так кто-то другой у дурочки их увел бы после неизбежной скорой кончины старичка, которого бы наверняка и так инфаркт или инсульт скоро жахнул.
А так его жахнули молотком по затылку.
Это даже его успокоило: много не много, но кое-что девчонке осталось, с голоду не помрет, в переходе на «Адмиралтейской» милостыню просить не станет. Тем более владелица двух квартир в Питере, за такое те, кто работает с батей в сфере криминала, теперь могли запросто на тот свет отправить.
Прямиком к дедушке-академику.
– Это мамины, – раздался позади него голос, и Федор, вздрогнув, обернулся, заметив стоящую в дверном проеме обнаженную Сашу.
Саша была поражена, обнаружив, что Федор просто так открыл шкатулку с украшениями мамы: неужели, пока она спала, он лазил по ящикам?
Молодой человек, подойдя к ней, приложил к груди Саши серебряное колье с бирюзой.
– Извини, понимаю, что выглядит не лучшим образом, как будто я тут обыск провожу, но это не так. Просто я хотел узнать, кто ты такая…
Сказал он это так уверенно и убедительно, что Саша поверила: так оно и есть.
– И кто же? – спросила она тихо.
Федор, закрепив у нее на шее колье, поднял вверх светлые волосы Саши и произнес:
– Ну прямо Венера Милосская! Только с руками.
И поцеловал ее в нос. В глаза. В губы.
Нет, на четвертый раз подряд его не хватило, но и она не хотела: Федор был горд за себя, что ему удалось выкрутиться из двусмысленной ситуации. Если врать уверенно, то все поверят.
Ну и потом наговорить комплиментов, поцеловать и отнести в постель.
В постели внучка академика снова разнюнилась, пришлось утешать, слушать ее ненужные рассказы о том, каким хорошим был дедушка.
Ну, был да сплыл: все дедушки рано или поздно умирают.
Правда, не всех убивают, но это уже мелочи.
Поигрывая серебряным ожерельем на груди внучки академика, Федор размышлял о том, как лучше с ней расстаться. На время следствия придется повременить, лучше все же держать руку на пульсе, а вот потом…
– …и я не знаю, что делать! – произнесла девица, и Федор едва сдержал зевок. Его бабка, та самая, которая лупила его шлангом от пылесоса и сейчас, после основательного празднования Восьмого марта, под завязку пьяная, лежала и храпела, обычно в таких случаях советовала: «Снимать трусы и бегать!»
Вряд ли внучка академика с благоговением отнеслась бы к этой бабушкиной мудрости, тем более трусиков на девице на самом деле не было – Саша, обнаженная, украшенная только тяжелым серебряным ожерельем с бирюзой, лежала перед ним.
Неплоха, надо сказать, но дедушкины картины еще лучше.
– Обещаю, что задействую все связи, чтобы преступников нашли и покарали по всей тяжести закона!
Он говорил это, едва сдерживая смех, а идиотка ему поверила. Ну да, он приложит все усилия, чтобы никто не узнал правды, но разве можно было от него ожидать другого?
– Правда приложишь? – спросила она и поцеловала его, и Федор клятвенно пообещал, что да, приложит.
Лицом об стол.
Он играл ее ожерельем, а Саша вдруг произнесла:
– Знаешь, ведь Репин рисовал бабку моего деда именно в этом ожерелье. Это был целый комплект с серьгами, брошью, двумя кольцами и даже небольшой тиарой в стиле ар-деко – бабка дедушки в Париже купила. Когда ее дочку, мою прабабушку, ну, ту, которую Пикассо рисовал, арестовали, то компетентные органы, конечно же, все изъяли. Уже много позже дедушка по крупицам собирал, но сумел только вот ожерелье в одной комиссионке в Киеве найти.
Гм, зря он, похоже, так опрометчиво решил, что серебро с бирюзой дешевле золота с брюликами. Если этому добру уже сто лет и оно из Парижа и сделано известным мастером, то могло потянуть на крупную сумму.
Ладно, пусть останется девчонке в память о предках – Федор придерживался мнения, что никогда нельзя обирать до последней нитки.
Две или три надо оставить.
– И если честно, то коллекция у дедушки была уникальная, это правда, но и его, и моих любимых картин там было лишь две…
– Шагал? – поинтересовался Федор. – Кандинский? Петров-Водкин?
Ну, это уже три.
Привстав и звеня ожерельем, Саша ответила:
– Ну, разве можно не любить Шагала, в особенности шедевры его витебского периода. Нет, Кандинский не по мне, а Петров-Водкин – так это же подражание Августу Маке и Паулю Клее.
– Клею? – переспросил озадаченно Федор, имени этого в «Крестьянке» не читавший, и внучка академика звонко рассмеялась, кажется в первый раз после…
После того, как обнаружила убитого дедушку.
– Пауль Клее, не клей, швейцарский экспрессионист.
Ну да, ну да, не склеил он этого Клея, внучка академика в очередной раз показывает, что она такая крутая и всех этих паулей и августов поименно знает, не то что пролетарская голытьба из коммуналки с одним на шесть семей сортиром в Дровяном переулке.
Не заметив его раздражения, Саша продолжала:
– Нет, наши любимые с дедушкой шедевры – это портрет его бабки кисти Репина и портрет его мамы работы Пикассо.
Сколько, интересно, за настоящего Пикассо отвалят?
И сколько от этого будут его три процента?
Только и Репин, и Пикассо теперь уплыли. Или, как любила говорить его собственная бабуля-алкашка: «картина Репина «Приплыли».
– Надеюсь, что их найдут, как и все другие, – заметил лениво Федор, зная, что нет, не найдут.
Все за рубеж сбагрят. И ему со своими надо тоже решать. Ничего, искусствоведша из Русского музея подсобит. А за это он ее знатно и с выкрутасами трахнет – а не так, по-пионерски, как внучку академика.
Саша же, обхватив руками голые коленки, произнесла:
– Знаешь, когда с дедушкой инсульт приключился, он попросил меня позаботиться о картинах. Причем в первую очередь о двух. Я знала, что он имеет в виду. Поэтому унесла две его самые любимые, Репина и Пикассо, из квартиры.
Федора аж подбросило на кровати, и он, чувствуя то возбуждение, которое заводило его намного больше, чем сексуальное, а именно возбуждение от возможности заработать, при этом ни с кем не делясь, произнес как можно более спокойно:
– Унесла? Куда унесла?
Саша просто ответила:
– Сюда. Хочешь посмотреть?
Они, как и были, нагишом (только серебряное с бирюзой парижское ожерелье ар-деко на груди Саши глуховато позвякивало), направились в кладовку, откуда девушка извлекла сначала одну, а потом другую небольшие картины, завернутые в старые наволочки в цветочек.
– Знаешь, забавно было с ними ехать в метро, ведь люди полагают, что под наволочкой репродукция «Трех богатырей» Васнецова, вездесущей «Незнакомки» Крамского, а то и столь любимых по всему Союзу «Трех медведей» Шишкина, а я везу Репина и Пикассо! Причем не копии, а подлинники. Показать?
Вопрос был явно излишний, потому что внучка академика сама хотела поделиться с ним тем самым сокровенным, что у нее оставалось.
С ним, с тем, кого любила. И с кем только что занималась сексом аж целых три раза.
В третий раз, надо отметить, очень даже неплохим сексом: даже цыпы бати остались бы довольны.
И правильно, что хотела поделиться: Федора буквально трясло от нетерпения.
Внучка академика, оказывается, еще та штучка – что она еще прячет в чулане, может, корону Российской империи или «Мону Лизу»?
Внучка академика стянула наволочку с первой картины, и Федор едва сдержался, чтобы не ахнуть – перед ним была она. Ну, то есть внучка академика. Хотя, конечно, это была ее, как ее там, прапрабабка, но как, черт побери, похожа, несмотря на то что портрету сто лет или что-то вроде этого.
Дама в простом сером платье и с тяжелым серебряным ожерельем с бирюзой на груди была очаровательна.
– Правда, красивая? – спросила девушка, и Федор понял: ну да, нарывается на комплимент, как пить дать.
– Вылитая ты! – заявил он и поцеловал девушку в щечку. Та зарделась.
– Дедушка тоже считал, что мы очень похожи, а я вот не думаю…
Ну да, дедуля был, конечно, прав, но у этой тетки из девятнадцатого века грудь, конечно, была помассивнее и личико покруглее. Но в целом и общем…
– А вот и Пикассо, ты ведь тоже хочешь увидеть?
Спрашивает еще! Интересно, у кого в СССР дома имелся Пикассо – причем, конечно, не плохая копия его «Девочки на кубе» или «Паломы», а подлинник.
Даже у бати не было, но он наверняка и не в курсе, кто такой этот Пикассо, с чем его на десерт едят и сколько букв «с» в его имени.
– Это ее дочка, – произнесла внучка академика, указывая на картину тетки с ожерельем.
Ну, никогда бы не подумал, что это вообще человек изображен, а не какой-то тебе робот с квадратной головой и подозрительного синего цвета.
Даром что «голубой» период этого самого Пикассо. Он что, извращениями, что ли, страдал?
И это девочка? С таким же успехом можно предположить, что это дедушка.
Но все равно, что ни говори, круто. Хотя бы потому, что наверняка стоит парочку миллионов.
Если не больше. Причем даже не в рублях, а в свободно конвертируемой валюте.
И внучка академика запросто хранила этого самого Пикассо в квартире родителей в Шкиперском протоке.
А где еще ей было его хранить?
Оставила бы в квартире деда, его бы тоже за милую душу унесли. А так нет. И выходило, что обе эти картины были в полном распоряжении внучки академика.
Ну и его самого.
Саша видела, что и Репин, и в особенности Пикассо произвели на Федю неизгладимое впечатление. Он долго держал поочередно то одно, то другое полотно в руках, вглядываясь в лица женщин, которые были давно мертвы.
– А ведь это твоя страховка и твое будущее, – произнес он наконец, ставя их на пол. – Они стоят чертову уйму денег!
Саша смутилась, потому что никогда не относилась к экспонатам коллекции дедушки с такой точки зрения.
Впрочем, от коллекции остались только два этих шедевра: русского и испанского гениев живописи.
Натягивая на них цветастые наволочки, она заявила:
– Ну, это воспоминание о дедушке и о его семье, и продавать я их точно не собираюсь!
А жаль! Внучка академика умела быть, оказывается, крайне упрямой. Картины, в особенности Пикассо, тянули на солидную сумму, и все это принадлежало вот этой студенточке-сиротке.
Федор подумал, что женитьба на внучке академика все еще вполне актуальна. И если он сделает ей предложение…
Только делать его он, конечно же, не намеревался. Потому что это всего лишь остатки былой роскоши.
Той самой, которую просто взяли и изъяли.
А если изъяли две сотни картин, из которых только семь, и то завалященьких, его, то можно забрать и эти две, не так ли?
Но человек он был добрый и щедрый. Пусть остаются девчонке, у нее и так стресс и сплошные огорчения – и дедушку прихыкнули, и все его наследство утащили.
Но зато квартира в доме на Карповке осталась, а это вам не хухры-мухры! И еще вот эта родительская, на Васильевским острове.
Плюс опять же Репин и Пикассо.
Лепота!
Саша была Федору крайне благодарна. Кто, если бы не он, поддержал ее в тот трудный час?
После того как они нашли убитого дедушку, ей требовалось твердое мужское плечо, и он его подставил.
Правда, потом она быстро оказалась с Федором в постели, однако ведь она и сама этого хотела.
Причем очень.
Секс с любимым человеком – что может быть лучше?
Она ничуть не раскаивалась, что позволила ему увидеть Репина и Пикассо: никому другому не показала бы, а вот ему – с удовольствием.
Не только не раскаивалась, а была очень этому рада и даже гордилась.
Потому что Федор был единственным, кто у нее оставался.
Ну да, имелась еще мамина бабушка в Москве, но старушка уже давно впала в маразм и тоже дышала на ладан.
И ни теток, ни дядек, ни двоюродных или троюродных братьев или сестер у Саши попросту не имелось.
Зато был любимый молодой человек, которому она показала самое сокровенное.
И с которым занималась – нет, не сексом: любовью.
Трахаться с внучкой академика, теперь уже покойного, было делом, конечно, приятным, но следовало рано или поздно из ее квартиры убраться. Федору не терпелось узнать от бати, как все прошло, да и он что, личный сексуальный раб внучки академика?
Поэтому, сославшись на то, что ему надо еще навестить больную бабулю (пропади она пропадом, эта старая алкашка!), он наконец-то расстался с девчонкой. У той даже слезы в глазах стояли, и она все спрашивала, когда они снова увидятся.
Вообще-то снова видеться было с точки здравого смысла не то чтобы очень и нужно: картины они похитили, внучку академика он напоследок со смаком трахнул, причем даже не раз и не два.
Но пропадать так внезапно было опять же подозрительно. Да и у девчонки, помимо двух квартир, оставались еще и те картины.
Так что было чем поживиться.
– Ты ведь пока что здесь жить будешь? – спросил Федор, стоя в двери и целуя напоследок голую внучку академика. – Я тебе позвоню!
Он ей позвонит! А что, если нет? Нет, такой, как Федор, никогда не подводит: в этом Саша не сомневалась.
Оставшись одна-одинешенька в квартире родителей, она, натянув мамин халат, отправилась на кухню пить чай.
И что ей теперь делать?
Наверное, надо заниматься организацией похорон дедушки, только вот что и как предпринимать, она понятия не имела.
Поскольку родители хоть у нее и пропали, но похорон никаких не было: тела-то остались на Памире, потому что горы не вернули мертвецов.
Только сейчас, попивая чай, Саша вдруг с ужасом осознала всю постигшую ее трагедию: дедушки больше с ней не было.
Она долго плакала и так хотела, чтобы Федор остался с ней, но у него были дела, у него имелась, в конце концов, больная бабушка.
Не мог же он все время находиться только с ней, Сашей Каблуковой.
А почему, собственно, не мог? Наверняка из него получится великолепный муж!
И о чем она только думает!
Саша позвонила в деканат – тот самый, которым некогда заведовал дедушка. Там уже обо всем знали, и ее тотчас соединили с новым деканом, учеником дедушки, тем самым, который, по мнению старика, его в итоге и подсидел, спихнув с начальственного кресла и заняв его место.
Декан был крайне мил и любезен, пообещал всяческую помощь и заявил, что руководство факультета и университета возьмет на себя организацию похорон.
– Нам очень, очень жаль, что так получилось! Мы все так любили и ценили Илью Ильича! Просто невероятная трагедия, что с ним такое произошло! Я уже распорядился установить его большой портрет с траурной лентой в холле. Если вам что-то еще надо, то мы поможем!
Батя, как в итоге выяснилось, решил обуть Федора. Тот с самого начала был настороже, потому что понимал: доверять бате нельзя, тот думает только о самом себе.
В этом они были крайне похожи.
Все прошло как нельзя лучше, если не считать, конечно, мертвого дедушки. Ну, явился старик в самый неподходящий момент, ввалился в свою же собственную квартиру, стал вопить, грозился милицию вызвать – пришлось успокоить.
Молотком по кумполу.
Лучше бы оставался в своей больнице, был бы жив и невредим.
Пододвигая к Федору большую пачку денег, батя произнес:
– Вот твоя доля, сынок!
Федор с большим подозрением уставился на кучу деревянных. И что, это все?
– Так полотна ведь еще продать не успели, – заявил он, – они и за рубеж еще, наверное, не ушли, или не все, во всяком случае. А ты обещал мне семь картин…
Батя, пребывавший по поводу удачного гоп-стопа, да еще такого резонансного (об ограблении и убийстве академика Каблукова вещали, конечно, не только «600 секунд», даже на Центральном телевидении кратко и с кадрами оперативной съемки осветили), в эйфории, был на редкость в благодушном настроении.
– Ну, ты же меня знаешь, Федяка, я человек слова и к тому же щедрый! Чего уж тут мелочиться, получишь прямо здесь и сейчас свою долю!
Федор пачки деревянных даже считать не стал. Какой-нибудь фраер на его месте от радости при виде груды денег в обморок брякнулся бы, но он понимал: батя его элементарно разводил. Причем как последнего лоха.
И это если выражаться нематерно.
Столько стоила, быть может, одна самая захудалая картинка из коллекции дедушки, а их было несколько сотен.
Ему причиталось больше, намного больше.
Просто намного больше – к тому же в долларах.
Ладно, взял бы еще в фунтах стерлингов или западнонемецких марках.
А батя совал ему эти пачки деревянных, как будто не понимая, что все это не по совести и не по понятиям.
Может, в самом деле не знал?
Однако глядя на его хитрую красную усатую рожу, Федор не сомневался: конечно же, знал.
Только вот хотел облапошить своего Федяку, который ему такой роскошный гоп-стоп устроил.
– Думается, это ведь только задаток, не так ли, батя?
Голос у Федора был тихий, но твердый.
Батя, как всегда влив в себя что-то высокопроцентное, крякнул:
– Федяка, ты же понимаешь, что товар паленый, такой просто так не продашь. Так что, может, в натуре, и стоит много, но навар у нас со всей этой мазни будет не то чтобы очень большой. И не забывай, я ведь и на твою учебу на юридическом о-го-го сколько отстегиваю!
Ну да, батя платил за его образование, хотя всегда утверждал, что это подарок.
Примерно такой же, какой получала крыса в крысоловке.
Хотя крысой был не он сам, а однозначно батя – тот и крысятничал, зажимая то, что ему, Федору, законно принадлежало.
И ведь справедливости ни от кого не добьешься, не к ментам же, в самом деле, идти и говорить, что он этот гоп-стоп и организовал.
И что руководитель одной из питерских ОПГ ему не отбашляет ту сумму, которую должен.
А о семи картинах и вовсе забыл.
Отсчитав несколько пачек, Федор холодно произнес:
– Ну да, и я тебе по гроб жизни благодарен, батя. Вот и компенсирую тебе твои расходы.
Батя стал ломаться, строя из себя великого добродетеля, однако Федор был непреклонен: пусть получит свои денежки обратно и подавится ими.
Причем совсем даже не фигурально выражаясь.