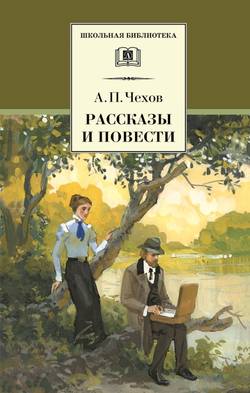Читать книгу Рассказы и повести - Антон Чехов, Антон Павлович Чехов, Anton Czechow - Страница 5
«Жизнь такая, какая она есть…»
Огонь блюсти
ОглавлениеБесчисленные «Что мне делать?» задумавшихся людей, жаждущих вырваться из заколдованного круга, сливаются в общее: «Так что же нам делать?» Эти слова Лев Николаевич Толстой поставил названием своего знаменитого трактата, в них не только обещание ответа – не меньше острая, насущная необходимость вопроса.
Люди думают, рассуждают, спорят – как жить. В «Доме с мезонином» об этом спорят Лида Волчанинова и художник, рассказчик. Спорят жестоко, непримиримо – и расстаются врагами.
На одной чаше весов – медицинский пункт в Малозёмове, на другой – убеждение, что надо рубить цепь великую, которой опутан народ. На одной чаше – уроки грамоты, книжки с наставлениями и прибаутками, на другой – призыв поделить между собой весь тяжелый труд, затрачиваемый человечеством, освободить работников для религии, наук, искусства. На одной – «мы делаем то, что мы можем», на другой – ничего не надо делать, поддерживая существующий порядок, «пусть земля провалится в тартарары!».
Спорят, оттого что не в силах и мысленно совместить настоящее и будущее, то, что очерчено кругом, и то, что где-то далеко за его пределами, действительность и мечту.
«Вороне где-то Бог послал кусочек сыру…» – диктует Лида в конце рассказа. Полтора десятка строк – и четырежды этот «кусочек сыру»…
Немного же послано…
«Кусочек сыру» был еще в «Учителе словесности», тот, найденный в шкапу, завалящий, твердый, – Манюся о нем говорила с важностью: «Это съедят в кухне». Никитин замечает в ответ, что такой маленький кусочек годится только в мышеловку.
Чехов признаётся однажды: душа рвется ввысь, вширь, а жизнь узенькая. «…Пройдет еще немного времени, каких-нибудь двести – триста лет, и на нашу теперешнюю жизнь также будут смотреть и со страхом, и с насмешкой… О, наверное, какая это будет жизнь, какая жизнь!» Это Вершинин в «Трех сестрах». Тотчас следом – ремарка: «Смеется». И: «Простите, я опять зафилософствовался».
Художник в спорах с Лидой тоже зафилософствовался (только не смеется – раздражается): «Не грамотность нужна, а свобода для широкого проявления духовных способностей», «все мы сообща, миром, искали бы правды и смысла жизни».
Разве он не прав? Он прав.
Но на прошлой неделе умерла от родов Анна. С этим не поспоришь. И когда художник – про духовную деятельность, про искание правды (до которой еще далеко), про освобождение людей, эта умершая Анна – у нас в памяти, в сердце. И когда он: «Не то важно, что Анна умерла от родов», это «не то важно» как-то не совмещается с поисками правды и смысла жизни. Мы уже слышали что-то похожее от доктора Рагина в «Палате № 6» с его философией, что не следует мешать людям умирать или сходить с ума, которую сумасшедший Громов, его противник в спорах, именует «философией, самой подходящей для российского лежебоки».
«Нужно» освободить людей, облегчить их ярмо, рубить цепь – это те же «трудись», «раздай имущество бедным», которые не хочет выговорить вслух Николай Степанович, те же «можно» и «должно», которые (помним мысль Чехова) любят произносить вместо того, чтобы говорить о том, что существует в действительности, о том, что есть. А есть – это «на прошлой неделе умерла от родов Анна». И сколько ни рассуждай, что при существующем порядке работать не хочешь и не будешь, с этим что-то же делать надо. Вот и Лида в ответ на гневную речь художника: «Ах, боже мой, но ведь нужно же делать что-нибудь!»
Разве она не права? Она права.
(Спор – приглушенно, невыявленно, в ином ключе – звучал еще в «Черном монахе», созданном двумя годами раньше. Философствования Коврина, «служителя высшему началу», жаждущего «гигантского, необъятного, поражающего», как бы противостоят реальному, доброму делу садоводов Песоцких. Когда на деревьях появились во множестве гусеницы, Егор Семенович и Таня, к великому омерзению Коврина, давили их прямо пальцами. Но вспомним слова Тани, обращенные к Коврину: «Вся, вся наша жизнь ушла в сад… Конечно, это хорошо, полезно, но иногда хочется и еще чего-нибудь… Когда вы, бывало, приезжали к нам… в доме становилось как-то свежее и светлее, точно с люстры и с мебели чехлы снимали». И признание старого Песоцкого тоже дорогого стоит: «Сад, действительно, прекрасный, образцовый… Но к чему? Какая цель?»)
Непримиримость спора художника и Лиды – это обозначение полюсов, куда устремлены духовные искания современников. Не так ли непримиримы истины, которые каждый из спорящих упрямо отстаивает?
Поселившись в Мелихове, Антон Павлович Чехов открывает школы и медицинские пункты, проверяет санитарное состояние фабрик, строит холерные бараки, принимает больных (в 1892-м, например, с августа по 15 октября, принял не менее тысячи), в письмах рассказывает про трудноизлечимые болезни, нехватку медицинской помощи, грязь, невежество – и обрывает себя с усмешкой: «Сладкие звуки и поэзия, где вы?»
От него не услышишь: «Не то важно, что Анна умерла», хотя не хуже художника, спорящего с Лидой, – во сто крат лучше его! – знает, как важно, как страшно, что «всем этим Аннам» некогда о душе подумать. Из Мелихова он пишет про бедность и некультурность народа, народ для Чехова не «все эти Анны, Мавры, Пелагеи», а знакомый старик, у которого мигрени продолжаются дня по четыре, баба Авдотья, которую он лечит салициловым натром и йодистым калием.
Он не махнет рукой на жизнь, какая есть, оттого, что очень уж далека от жизни, какая должна быть. «Спрашиваю себя: не удрать ли? Но нет. Холера идет с двух сторон».
Над своими трудами он посмеивается: «А мне хочется цивилизации: купить себе новое платье, поехать в 1 классе и поговорить не о холере». Это – чтобы не «расфилософствоваться».
Но среди повседневных утомительных забот о холерных бараках, медицинских пунктах, школах, библиотеках он постоянно думает об этом прекрасном «через двести – триста лет»: «Кто искренно думает, что высшие и отдаленные цели человеку нужны так же мало, как корове… тому остается кушать, пить, спать или, когда это надоест, разбежаться и хватить лбом об угол сундука».
Где бы он ни поселился, всюду поднимаются выращенные им сады, как поднимаются, живут сады во многих его рассказах; он любит сажать деревья. «…Мне нравилось и хотелось жить. Сколько я деревьев посадил!» (из письма). Дерево растет, живет долго, и двести лет, и триста, оно тянется лестницей из Сегодня в Завтра, мост из настоящего в будущее – «какая это будет жизнь, какая жизнь!».
«В человеке должно быть все прекрасно…» – знаменитые слова, неотвлеченное пожелание на будущее. Так же, как не менее знаменитые правила воспитанного человека, изложенные в письме к брату Николаю, или опять-таки не менее знаменитые строки об освобождении от духовного рабства («выдавливать из себя по капле раба»). Это – программа жизни на сегодня. Надо, по выражению одного из толстовских героев, постоянно «огонь блюсти», сознавать, чувствовать, что несешь его в Завтра. «Теперешняя культура – это начало работы во имя великого будущего, работы, которая будет продолжаться, может быть, еще десятки тысяч лет…» – пишет Чехов убежденно и бесстрашно.