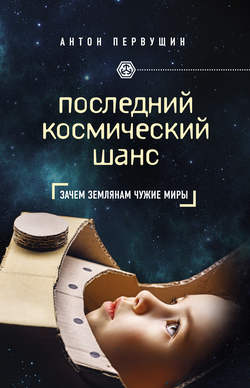Читать книгу Последний космический шанс - Антон Первушин - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава 1
Космический «тупик»
1.3. Мечты и иллюзии
ОглавлениеИзучая раннюю историю космонавтики, обязательно натыкаешься на удивительный факт – космонавтика и ракетостроение развивались отдельно друг от друга, мало где пересекаясь.
Объяснение простое. Ракеты применялись в военном деле задолго до того, как Константин Циолковский вывел свою знаменитую формулу и доказал, что только с помощью ракет на жидком топливе можно достичь космических высот и скоростей. А где военные, там – режим секретности, цензура и регламентация всего и вся. Космонавтика же первую половину ХХ века оставалась уделом энтузиастов и «безумных» изобретателей, а они интересовали военных лишь изредка, оставаясь вне реальной конструкторской работы. Но при этом, что очень важно, энтузиасты имели возможность открыто публиковать результаты своих изысканий, которые всегда опережали время и находились за пределами технических возможностей современности.
Рекламный плакат фильма «Женщина на Луне» (1929)
Самый простой и самый наглядный пример – история основоположника немецкого ракетостроения Германа Оберта. Без преувеличения можно сказать, что это был настоящий самородок, перевернувший мир. В десять лет он прочитал роман Жюля Верна «С Земли на Луну…». В четырнадцать лет пришел к выводу, что космос покорится только ракетам. В пятнадцать лет самостоятельно вывел формулу Циолковского. В восемнадцать лет разработал первый проект ракеты с жидкостным двигателем, принципиальная схема которой используется в конструкторский разработках до сих пор. В двадцать шесть лет описал двухступенчатую ракету, способную развить космическую скорость. В 1923 году, когда Оберту было двадцать девять лет, в свет вышла его первая книга – «Ракета в межпланетное пространство» (“Die Rakete zu den Planetenraumen”). В ней немецкий ученый привел подробный инженерный проект высотной ракеты на жидком топливе, а так же эскизы ракеты для полетов в космос, по ходу обосновав экономические и политические выгоды, которые сулит прорыв за пределы земной атмосферы. Ничего подобного в то время не было ни в Европе, ни в Соединенных Штатах. Книга обрела массу поклонников, и в Германии начался своего рода «ракетный бум». Множество инженеров, изобретателей и, разумеется, писателей-фантастов занялось продвижением идеи космической экспансии. Они основали Общество межпланетных сообщений, которое даже построило ракетодром в пригороде Берлина. Знаменитый режиссер Фриц Ланг пригласил Германа Оберта выступить техническим консультантом научно-фантастического фильма «Женщина на Луне» (“Frau im Mond”, 1929). Перед Обертом открывались широчайшие перспективы. Однако ракетную программу Третьего рейха возглавил не он, а его способный ученик Вернер фон Браун, который сумел договориться с военными, предложив им не проект полета на Луну или Марс, а вполне конкретную цель – создание баллистических ракет дальнего действия.
Похожие примеры в истории космонавтики можно найти в избытке. Инженер Фридрих Цандер основал Группу изучения реактивного движения, чтобы конструировать межпланетный корабль, но когда его молодой соратник Сергей Королёв пришел к военным, чтобы на базе ГИРД создать Реактивный научно-исследовательский институт (РНИИ), он предлагал не проект Цандера, а боевой высотный ракетоплан… Американский инженер Роберт Годдард, вошедший в историю как человек, запустивший первую ракету на жидком топливе, имел репутацию нелюдимого чудака, собирающегося лететь на Луну. В результате его космические разработки остались невостребованными, и когда армия США занялась ракетами, ставка была сделана на плененную команду Вернера фон Брауна. Французский авиаинженер Робер Эсно-Пельтри, сделавший общеупотребимым термин «астронавтика», хотя и обращался неоднократно к военным и правительству за поддержкой, но так ее и не получил, эмигрировал во время Второй мировой войны в Швейцарию, а оттуда физически не мог оказывать значимое влияние на космические дела. При всей своей известности оставался маргинальной фигурой и Константин Циолковский – его периодически навещали советские ракетчики, он вел переписку с популяризаторами типа Якова Перельмана и Александра Беляева, иногда он подсказывал интересные концептуальные идеи, но всерьез никто не собирался привлечь престарелого изобретателя к перспективным военным проектам в области ракетостроения. Более того, никто не спешил издавать и новейшие работы Циолковского, что ученого необычайно расстраивало, – признание его заслуг получалось половинчатым, и даже концептуальные идеи стали находить применение только после его смерти, в начале 1950-х годов, когда речь наконец зашла о запуске первого искусственного спутника Земли.
Так и повелось – космонавтика оставалась уделом отдельных энтузиастов и доморощенных Обществ межпланетных сообщений, в которые эти энтузиасты объединялись. Понятно, что отдача от их работы была хоть и не равна нулю, но оставалась весьма и весьма низкой, ведь всегда тяжело двигать новую науку в свободное от забот о хлебе насущном время. Да и можно ли назвать теоретическую космонавтику раннего периода полноценной наукой?
Советские ракетчики из Группы изучения реактивного движения (ГИРД) за работой (1933)
Ведь не было ни традиции, ни сложившейся терминологии, и каждый новый автор считал прямо-таки необходимым «изобрести велосипед», вводя свой понятийный аппарат, свою систему вычислений, свою методологию, а самое нелепое – навязывая свой персональный взгляд на устройство Солнечной системы. Таким образом, еще до Второй мировой войны, до того как взлетели немецкие баллистические ракеты, было сформировано несколько стратегий космической экспансии, которые были напрочь оторваны от реальных технологий своего времени. Теория не поддерживалась практикой. Намерения не подкреплялись возможностью.
Впрочем, энтузиасты старались не замечать существование отрыва. Они ставили перед собой две главные задачи. Первая – теоретическая проработка возможных вариантов пилотируемых экспедиций на Луну, Венеру, Марс. Вторая – популяризация идеи космической экспансии любыми доступными способами с целью привлечения как можно большего числа сторонников.
Попытку обобщить имеющийся опыт конструирования космических аппаратов предприняла Ассоциация изобретателей-инвентистов (АИИЗ). Члены ассоциации верили в светлое будущее человечества, которое обязательно наступит под влиянием их удивительных изобретений. Но в историю они вошли только тем, что организовали в апреле 1927 года выставку, названную претенциозно: «Первая мировая выставка моделей и механизмов межпланетных аппаратов конструкций изобретателей разных стран». В небольшом помещении в доме 68 на Тверской члены АИИЗ разместили персональные стенды, посвященные работам основоположников теоретической космонавтики: Константина Циолковского, Фридриха Цандера, Германа Оберта, Роберта Годдарда, Робера Эсно-Пельтри и других. Разумеется, были представлены макеты ракет и космических аппаратов, разрабатываемых основоположниками ракетостроения. Разумеется, не обошлось без накладок. Американец Годдард вежливо отклонил приглашение принять участие в выставке и никаких материалов для нее не прислал, посему модель его составной «межпланетной» ракеты организаторы выставки сделали на основе газетных иллюстраций, имеющих мало отношения к реальным ракетам Годдарда. Не удержались организаторы и от того, чтобы не прорекламировать свои собственные проекты. Изобретатель Александр Фёдоров притащил на выставку огромную сигарообразную модель космического «ракетомобиля» с двигателем на «внутриатомной» энергии, сразу занявшую половину помещения. Планы Фёдорова поражали воображение: «ракетомобиль» должен был покорить не только Солнечную систему, но и отправиться в межзвездное путешествие. К модели прилагались схемы: разрез чудо-аппарата, схема машинного отделения, схема регулятора температур, таблица характеристик. Предполагалось, что в «ракетомобиле» разместится экипаж из шести человек, стартовать он будет с Земли, развивая скорость до 25 км/с. На человека, далекого от проблем инженерного конструирования, модель и все эти схемы могли произвести сильное впечатление – казалось, что космос и впрямь скоро будет доступен, если уже существуют столь «проработанные» проекты. Однако на самом деле ничего, кроме модели, Фёдоров предложить не мог. А все его схемы не имели смысла, поскольку изобретатель не был способен ответить на ключевые вопросы: как устроен двигатель «ракетомобиля», какой принцип преобразования энергии положен в основу, какие материалы будут использованы при его создании, что послужит рабочим веществом, куда будет отводиться избыток тепловой энергии?.. Напомню, на дворе был 1927 год, и единственным инженером, который мог похвастаться удачным запуском ракеты на жидком топливе (бензин и жидкий кислород), в то время был вышеупомянутый Роберт Годдард, отказавшийся участвовать в выставке. Даже Фридрих Цандер еще не приступил к опытам с двигателем ОР-1. А уж до первых полетов советских тяжелых баллистических ракет должно было пройти еще два десятилетия…
Мы можем сколько угодно восхищаться смелостью мысли изобретателей-инвентистов, вознамерившихся разорвать «оковы земного притяжения», но следует помнить, что любая теоретическая концепция в космонавтике зачастую столь же далека от реализации, как и сказка о «ковре-самолете». И сегодня хватает изобретателей, концептуальные проекты которых могут увлечь, поразить, заворожить, а красочные схемы-иллюстрации они научились рисовать намного лучше, чем это делал Фёдоров. Однако далеко не всякий из этих проектов может быть воплощен в металле, а некоторые в принципе навсегда останутся фантастикой, будучи фантастикой изначально.
Изобретатель Александр Фёдоров с макетом атомного «ракетомобиля» на Выставке межпланетных аппаратов (1927)
Только один пример. Наверняка вам приходилось встречать в прессе, в интернете или видеть на телеэкране какой-нибудь из проектов орбитального отеля. Называются даже сроки появления такого отеля – то 2020, то 2025 год. То есть совсем скоро. Проектировщики отеля уже собирают деньги с будущих постояльцев. Но задайте себе всего один вопрос: а где «такси»?..
Расшифровываю вопрос. Где тот космический корабль, который будет доставлять постояльцев на орбиту? Где ракета-носитель к этому кораблю? Где космодром, с которого будет стартовать эта ракета? Даже если и ракета, и корабль, и космодром появятся буквально завтра, все равно потребуются годы на летноконструкторские испытания, на беспилотные и пилотируемые полеты нового корабля, прежде чем он будет признан достаточно комфортным и безопасным для туризма. Вряд ли кто-нибудь захочет выложить сотню миллионов долларов за то, чтобы его угробили на орбите, не так ли?.. «Зри в корень!» – советовал остроумный Козьма Прутков. И этот совет виртуального философа мы еще не раз вспомним при обсуждении перспективных космических программ.
Вторая исторически значимая попытка обобщить опыт, накопленный теоретиками, и донести самое современное видение перспектив космической экспансии до профанов, в Советском Союзе была предпринята в октябре 1954 года, когда вышел внеплановый номер популярного журнала «Знание – сила». В нем описывалась грядущая экспедиция на Луну, которая, по мнению авторов, должна была состояться не позднее, чем через двадцать лет – в ноябре 1974 года. Внеплановый номер был по сути сборником небольших научно-фантастических очерков, написанных разными авторами, но подчиненных одной теме. Привлекал внимание комплексный подход – обсуждались аспекты не только самого полета на Луну, но и конструкция межпланетного корабля, его двигателей, подробности строительства стартового комплекса, обеспечения навигации и радиосвязи.
В создании необычного выпуска приняли участие ведущие популяризаторы космонавтики и научные фантасты того времени. Представлю некоторых из них.
Кандидат технических наук, авиационный инженер Карл Гильзин занимался популяризацией с начала 1950-х годов. Он был из тех, кто взял на себя, пожалуй, самую сложную задачу – интересно рассказывать о двигателях и энергетических установках космических аппаратов. Автор целого ряда книг: «Реактивные двигатели» (1950), «От ракеты до космического корабля» (1954), «Путешествие к далеким мирам» (1956), «Исследование мирового пространства» (1959), «В небе завтрашнего дня» (1960), «Ракета и радио» (1963), «Электрические межпланетные корабли» (1964), «Двигатели невиданных скоростей» (1965), «Человек осваивает космос» (1968), «Эра космическая» (1972), «В необыкновенном мире» (1974), «Три… два… один… пуск!» (1978). Карл Гильзин был сторонником применения в космонавтике электроракетных двигателей с атомным источником энергии. Одним из первых он начал писать о фотонных звездолетах. В своих популярных трудах Гильзин часто прибегал к научно-фантастическим реконструкциям, «оживляя» сухой рассказ сценами из воображаемого будущего.
Инженер Борис Ляпунов, выпускник Московского авиационного института, еще в студенческие годы заинтересовался космической проблематикой и историей ракетной техники. По окончании института он получил приглашение в НИИ-4 Академии артиллерийских наук – знаменитую группу Михаила Тихонравова, с 1947 года занимавшуюся проработкой вопросов создания составных ракет, искусственных спутников Земли и пилотируемых космических кораблей. Но долго Ляпунов там не задержался – Тихонравов увидел в нем писательскую «жилку» и уже через год разрешил уйти на «вольные хлеба», здраво полагая, что популяризация космонавтики – не менее важное дело, чем конструирование ракет. Работая в группе, Ляпунов не мог открыто писать о космонавтике, поскольку вся тематика НИИ-4 была строго засекречена. Позднее идеями и концепциями его снабжал сослуживец Ян Колтунов; он же редактировал некоторые тексты и сценарии Ляпунова. Новоиспеченный популяризатор дебютировал в 1950 году научно-фантастическим очерком «Из глубины Вселенной», в котором высказал гипотезу, что Тунгусский метеорит был звездолетом инопланетян. В том же году вышла его первая книга «Рассказы о ракетах», изданная под редакцией Михаила Тихонравова. Кроме того, Ляпунов увлекался научной фантастикой, он составил первую библиографию советской фантастики, сотрудничал с журналами «Знание – сила», «Техника – молодежи», «Наука и жизнь», «Огонек», «Уральский следопыт». Автор множества книг, среди которых стоит особо выделить следующие: «Проблема межпланетных путешествий в трудах отечественных ученых» (1951), «Борьба за скорость» (1952), «Открытие мира» (1954), «Мечте навстречу» (1957), «Корабль вернулся из космоса» (1960), «По следам Жюля Верна» (1960), «Ракеты и межпланетные полеты» (1962), «Сквозь тернии к звездам» (1962), «На крыльях мечты» (1963), «Неоткрытая планета» (1963), «Вижу Землю!» (1968), «В мире мечты» (1970), «Люди, ракеты, книги» (1972). Борис Ляпунов был наиболее последователен в описании технически реального варианта космической экспансии, активно пропагандируя идею составных ракет на химическом топливе и доказывая, что даже они когда-нибудь позволят наладить межзвездную навигацию.
Инженер Юрий Хлебцевич трудился над системой управления противоракеты И-32 в сверхзасекреченном конструкторском бюро НИИ-885. Несмотря на это, ему удалось опубликовать в открытой печати несколько статей («Путь на Луну открыт», «Как будет покорена Луна», «Самоходная лаборатория Луна-1»), в которых излагалась концепция освоения Луны с помощью телеуправляемых танкеток. Хлебцевич даже построил действующую модель такой танкетки, снял любительский фильм о ней и выступал с популярными лекциями. Однако его концепция долгое время считалась маргинальной, а на публичные лекции вскоре был наложен запрет в связи со спецификой работы инженера. Как известно, позднее идея Хлебцевича была положена в основу программы создания «Луноходов».
Писатель и инженер-строитель Георгий Гуревич был одним из ведущих авторов послевоенной научной фантастики. Как сторонник литературы «ближнего прицела» он описывал в своих текстах процесс внедрения различных изобретений. К примеру, в повести «Погонщики туч» (1948) рассказывается об управлении погодой, в повести «Тополь стремительный» (1951) – о методе выведения быстрорастущих растений, в «Инее на пальмах» (1951) – о производстве нетающего льда, во «Втором сердце» (1955) – о достижениях трансплантологии. Позднее, уже с началом космической эры, Гуревич активно начал писать о том, как коммунисты осваивают Вселенную, при этом соединял утопию с довольно наивными представлениями о будущих путях космической экспансии: от ракет к фотонным звездолетам, а далее – к телепортации, названной в романе «ратопередачей». Свое видение будущего он изложил в повестях «Инфра Дракона» (1958), «Первый день творения» (1960), «Функция Шорина» (1962), «Пленники астероида» (1962), «Мы – с переднего края» (1962), впоследствии объединенные в масштабный роман «Мы – из Солнечной системы» (1965). Кроме художественных текстов, Гуревич занимался теорией фантастики (книги «Карта Страны фантазий», «Беседы о научной фантастике») и популяризацией научных достижений (книги «Неведомое на вашу долю», «Птица будущего», «Лоция будущих открытий. Книга обо всем»).
Юрий Долгушин к началу 1950-х годов был уже довольно известен. Еще до войны он стал членом Союза писателей Грузии, выступая как поэт и журналист. При этом он не забывал инженерное дело и, будучи выпускником МВТУ имени Баумана, сконструировал первый советский телевизор, заложив практические основы телевещания в СССР. В начале 1930-х годов стал членом редколлегии журнала «Знание – сила», в котором опубликовал несколько рассказов. Однако славу фантаста ему принес роман «Генератор чудес» (1939), посвященный злоключениям изобретателя микроволнового генератора.
Кроме фантастов и популяризаторов, в подготовке «лунного» выпуска журнала «Знание – сила» приняли участие художники, специализировавшиеся на книжных и журнальных иллюстрациях: Константин Арцеулов, имевший опыт работы в авиации и вошедший в историю как автор, нарисовавший в апреле 1961 года для газеты «Правда» первую картинку, посвященную полету Юрия Гагарина; Борис Дуленков, впоследствии участвовавший в создании многих известных фильмов, включая телесериал «Семнадцать мгновений весны»; Игорь Грюнталь, Федор Завалов, Иосиф Фридман и другие.
Все эти подробности биографий мне понадобились для того, чтобы показать: никто из авторов «лунного» выпуска журнала «Знание – сила», кроме Бориса Ляпунова, не имел опыта работы в ракетной сфере, но и сам Ляпунов был лишен возможности рассказывать о реальных проектах. Ян Колтунов, «курировавший» Ляпунова от группы Тихонравова, вспоминает, как цензоры бдительно следили за тем, чтобы в популярные статьи и книги этого автора не попали подлинные сведения о советской ракетной программе. А ведь Ляпунов мог очень многое рассказать – он, в частности, изучал немецкую трофейную технику и прекрасно знал, что первые советские баллистические ракеты дальнего действия Р-1 и Р-2 были созданы на основе ракет А-4/V^ Вернера фон Брауна. Знал, но не рассказывал. Таким образом, «лунный» выпуск, несмотря на техническую обоснованность, был чистейшей фантастикой от начала до конца.
Теперь посмотрим, что же этот необычный популяризаторский эксперимент (сегодня его назвали бы «межавторским проектом») собой представлял.
На первой странице журнала читателя ждала передовица из газет «Правда», «Известия» и «Комсомольская правда»: «Вторник, 26 ноября 1974 года.
СООБЩЕНИЕ АКАДЕМИИ НАУК СССР о старте межпланетного корабля “Луна-1"
25 ноября в 10 часов 00 минут отправился в полет на Луну первый советский межпланетный корабль. Старт состоялся на Кавказе в районе горы Казбек.
Сбылась вековая мечта человечества. Впервые люди покинули земной шар и направляются к соседней планете. Сейчас в межпланетном пространстве находятся четверо советских ученых: командир корабля – доктор технических наук Михаил Андреевич Седов, штурман – Герой Советского Союза Алексей Викторович Соколов, главный конструктор корабля – инженер Юрий Николаевич Тамарин, бортовой врач – кандидат медицинских наук Тигран Ашотович Акопян.
Цель экспедиции – ознакомиться с Луной, выяснить возможность организации постоянно действующего научноисследовательского института на Луне. Наш спутник будет мирной лабораторией передовой науки, но отнюдь не военной базой, как об этом мечтали в свое время некоторые чужеземные генералы.
С межпланетными путешественниками поддерживается регулярная связь. Сообщения о ходе экспедиции будут передаваться по радио через каждые два часа».
Далее на изумленного читателя обрушивалась лавина информации: снимки, схемы, биографии, интервью, астрономические сведения, предыстория и история строительства «Луны-1».
Давайте и мы на минутку погрузимся в вымышленный мир «лунного» номера, чтобы увидеть, как себе представляли энтузиасты космической экспансии полет на ближайшее небесное тело за три года до запуска «Спутника-1».
Двадцать лет (те самые, которые еще предстояло прожить читателям журнала) были отмечены бурным развитием космических технологий. Создание реактивной техники в СССР заложило основу межпланетных путешествий. Четыре года назад (то есть в 1970 году) советские ученые запустили искусственный спутник на высоту 35 тыс. км. Несколько лет тому назад начались регулярные сверхдальние рейсы пассажирских ракетопланов в ионосфере. Условия полета в этих ракетопланах очень близки к условиям межпланетного рейса, поэтому во время тренировок все члены экипажа «Луны-1» неоднократно летали из Москвы во Владивосток, в Пекин и даже в Южную Америку на ионосферных самолетах.
Трасса Земля – Луна также подробным образом изучена с помощью автоматических ракет. Первая из них из-за сбоя электронного регулятора сошла с трассы и теперь движется в пространстве, превратившись в искусственный спутник. Зато вторая совершила успешную посадку на Луну близ кратера Птолемея и известила об этом вспышкой специального порохового заряда. Третья ракета облетела вокруг Луны и доставила на Землю документальный кинофильм, благодаря которому люди впервые увидели обратную сторону Луны. Фильм этот помог выбрать и место для будущей высадки. Четвертая ракета была направлена в космос для того, чтобы совершить посадку в этом конкретном месте, и в течение двух месяцев, пока не сели аккумуляторы, передавала на Землю показания автоматических приборов.
(Удивительный факт, но эта последовательность в изучении Луны практически стопроцентно совпадает с той, которая была реализована на практике: автоматическая станция «Луна-1» пролетела мимо Луны; «Луна-2» доставила вымпел в Море Ясности; «Луна-3» облетела Луну и сфотографировала ее невидимую сторону; «Луна-9» совершила мягкую посадку на Луну и провела семь сеансов радиосвязи, передавая изображения окружающего ландшафта.)
После завершения программы изучения Луны автоматическими средствами туда отправляется корабль с экипажем из четырех человек. План первой экспедиции выглядит так. Корабль стартует 25 ноября с эстакады в Кавказских горах. Через двое суток он прилунится в Море Дождей – эта территория разведана последней автоматической ракетой. Одной из задач экспедиции является поиск этой ракеты и возвращение на Землю самозаписывающих приборов (в реальном 1969 году экипаж «Аполлона-12» снял и возвратил на Землю некоторые части автоматической станции «Сервейер-3»). Время пребывания экспедиции на Луне – десять земных суток. День возвращения – 9 декабря, место возвращения – Цимлянское море. Корабль отыщут и подберут специальные суда, которые будут дежурить в районе приводнения (опять же описана схема возвращения корабля «Аполлон»).
Сам корабль «Луна-1» имеет вытянутое веретенообразное тело с крыльями, на концах которых установлены небольшие двигатели для коррекции движения в космическом пространстве. Вес при взлете – 650 т, полезный груз с экипажем – 5 т. Старт и разгон до скорости 11,1 км/с осуществляется с помощью атомно-реактивного двигателя конструкции В. Красавина. Атомный реактор на уране-235 разлагает воду на водород и кислород, после чего направляет эти газы в сопла. Запас рабочего вещества (воды) составляет 600 т.
В заключение авторы приводят запись прямого радиорепортажа врача экспедиции Акопяна о первом часе на Луне:
«Лунная громада продолжает нестись на нас. Интересно, что чувство нашей полнейшей неподвижности в пространстве не исчезает. Даже огромность Луны перед нами не может его нарушить. Надо сказать, что это – тоже гнетущее чувство. С того момента как был выключен двигатель – после старта, – ощущение движения полностью исчезло. Наш корабль просто остановился в пространстве. А Земля под нами стала поворачиваться и уменьшаться, потом начала расти Луна… Я думаю, что в будущем, когда люди привыкнут к этим зрительным впечатлениям, космический полет будет самым нудным из всех путешествий. Всё равно, как если бы ваш поезд остановился где-нибудь на захолустном полустанке на двое суток… Однако мы все еще не…
Ну, наконец-то!..
Лунный пейзаж вдруг тронулся с места и плавно уходит в сторону. Земля, звезды – все движется в том же направлении, вокруг нас… Прерывисто ворчат, как бы переговариваясь спросонья, боковые моторы. Мы поворачиваемся кормой к Луне…
Вот… Полный оборот… Стоп… Заработал главный двигатель, падение корабля замедляется, чувствуется вибрация…
Появился вес! Наконец мы все становимся на ноги и теперь ясно: мы летим вниз. Уже Луна. Дальние горы постепенно скрываются за горизонтом, а близкие к нам – увеличиваются. Недалеко от нас вырастает какой-то щербатый кратер. Под нами как будто ровно… Юрий Николаевич делает какие-то знаки профессору. Алеша крутит киноаппарат. Ага, профессор включил шасси: сейчас из корабля выдвигаются три ноги. Они смягчат толчок и не дадут кораблю свалиться на бок…
Еще несколько секунд и – сядем… <…>
Мы на Луне! На Луне, черт возьми! <…>
Трудно передать чувство, охватившее нас всех. Мы посмотрели друг на друга, бросились обниматься. Это был беспредельный восторг, трепет. Мы ощутили поступь истории. Произошло то, о чем многие поколения людей не только не мечтали, но считали простейшим примером невозможного для человека – прыгнуть с Земли на Луну! И это сделали мы… Человечество впервые шагнуло в космос, на другую планету!..»
Дело не ограничилось выпуском журнала – в 1955 году вышла полноценная книга «Полет на Луну», в которой каждая заметка была развернута в большую статью. Помимо подробного описания подготовки и осуществления межпланетного рейса, в книге давался обзор перспектив космической экспансии – об этом написал Карл Гильзин. Причем он назвал и две ближайшие цели для следующих пилотируемых экспедиций: Марс и Венеру. Марс выглядел предпочтительнее, ведь авторы «Полета на Луну» верили в существование марсианской жизни и «каналов», им представлялось, что освоение красной планеты будет не слишком трудоемким.
Межавторский проект расширялся. Параллельно с книгой появился одноименный диафильм для подростков, над созданием которого работали два участника проекта: Карл Гильзин и художник Константин Арцеулов. Более того, отдельные очерки, сопровождаемые соответствующими иллюстрациями, вошли в знаменитую желтую десятитомную «Детскую энциклопедию» (1958–1961). Там отметились Георгий Гуревич и Борис Ляпунов. Иллюстратором на этот раз выступил Николай Кольчицкий, который много и охотно рисовал для популярных книг о космонавтике.
Влияние межавторского проекта «Полет на Луну» чувствуется и в классическом фильме Павла Клушанцева «Дорога к звездам» (1957), который заложил основы нового советского научно-фантастического кинематографа. Достаточно сказать, что соавтором сценария выступил Борис Ляпунов.
Разумеется, создатели «Полета на Луну» не остановились на достигнутом. Они продолжали пропагандировать свое видение перспектив космической экспансии в статьях и книгах (например, Борис Ляпунов прямо ссылается на историю космического корабля «Луна-1» в авторских сборниках научно-фантастических очерков «Мечте навстречу» и «По следам Жюля Верна»), а когда начались настоящие космические полеты, попытались «подверстать» свою реконструкцию под реальность. Так, в февральском номере журнала «Знание – сила» за 1957 год публикуется новая дополнительная глава проекта «Что же было дальше?» о приключениях отважных межпланетчиков на Луне – они не только собрали образцы пород, но обнаружили урановые залежи и даже лунный мох! Главу сопровождала примечательная редакционная врезка: «Конечно, все, о чем вы прочли на предыдущих страницах, – это фантастика. И в 1954 году, когда мы выпускали “'лунный” номер, мы могли лишь фантазировать о том, как люди полетят на Луну. Недаром это событие мы приурочили к третьей четверти века. Но прошло всего три года с тех пор как вышел наш фантастический номер, а эта фантастика уже не кажется такой далекой. <…> Три года назад и речи не было об искусственном спутнике Земли – “искусственной Луне”, как его иногда называют. А сейчас до запуска этого первого межпланетного путешественника остались считанные месяцы. Три года – срок небольшой, а насколько ближе мы стали к осуществлению давней мечты человечества!..»
Простим редакции ошибку интерпретации (искусственный спутник Земли и «межпланетный путешественник» – это разные вещи), ведь главное они предсказали точно – до запуска «Спутника-1» оставалось восемь месяцев. Кстати, в такой точности прогноза нет ничего удивительного: СССР и США к тому времени официально заявили о своем намерении запустить искусственные спутники Земли до окончания Международного геофизического года (т. е. до 31 декабря 1958 года), а в прессе активно обсуждались проекты спутников – вышеупомянутый Юрий Хлебцевич даже сумел подготовить и опубликовать сборник переводных материалов, посвященных этой проблематике.
Далее. В июле 1961 года «Знание – сила» публикует фото первого космонавта планеты Юрия Гагарина с «лунным» выпуском 1954 года в руках. Там же напечатано обращение Гагарина к читателям журнала:
«Теперь этот номер любопытно перелистать. Когда он вышел – помню очень хорошо – я учился в техникуме, и был уже летчиком-любителем. Я горячо рассказывал своим товарищам по аэроклубу о том, как советские люди полетели в космос. Ребята слушали и улыбались, а потом спросили:
– Где ты это все вычитал?
– В журнале “Знание – сила”.
– Так бы сразу и сказал. В этом журнале любят печатать фантастику.
Вы можете спросить, почему запомнился мне космический номер журнала “Знание – сила”? Пожалуй, потому, что многие материалы в нем читались как вполне серьезные научно-популярные статьи…»
Таким образом сам Юрий Гагарин засвидетельствовал: к межавторскому проекту «Полет на Луну» нужно относиться всерьез.
И еще – в 1962 году издательство «Молодая гвардия» выпустило новую книгу Бориса Ляпунова «Сквозь тернии к звездам», написанную им в соавторстве с Николаем Николаевым. В космосе уже побывали четыре «Востока», и авторы с упоением рассказывают об этих полетах, показывая, какое значение они имеют для дальнейшей экспансии. И там же читатель опять мог встретить знакомый план освоения Луны, Марса и краткое описание фотонных звездолетов, строительство которых называлось реальной задачей XXI века. Причем авторы намекали, что сроки могут быть пересмотрены в сторону уменьшения: «Предоставим слово ученому – члену-корреспонденту Академии наук СССР А. А. Ильюшину. В дни запуска первых спутников (за несколько лет до беспримерных полетов Гагарина и Титова) он отметил, что мы уже теперь могли бы послать за пределы солнечной системы искусственные небесные тела небольшого веса. И, несомненно, наступит время, когда станет реальностью фотонный звездолет. Возможно, сначала на нем не будет людей. Разведать неведомое, узнать об опасностях, подстерегающих в пути, помогут звездолеты-зонды. Подобно автоматическим спутникам, они первыми отправятся за пределы солнечных владений и приблизятся к тем районам Галактики, где вокруг звезд вращаются темные планетоподобные спутники, среди которых могут найтись и обитаемые миры. Приборы соберут информацию об этих мирах, о звездных системах, похожих на нашу, телевизионные приемники примут их изображения, рация – их возможные сигналы. Все результаты наблюдений будут записаны на магнитную ленту, и, выполнив заданную программу, автомат направится в обратный рейс…»
Эффектно, не правда ли? Многие профаны принимали эти пропагандистские ухищрения за чистую монету. И совсем не удивляет, что среди таких профанов оказались писатели-фантасты Аркадий и Борис Стругацкие – а откуда еще они могли черпать информацию о перспективных космических проектах, если не из трудов популяризаторов? За доступ к ракетным тайнам, как мы помним, приходилось платить молчанием… Следует учитывать еще один момент – братья Стругацкие с самого начала своей литературной карьеры и больше тридцати лет активно сотрудничали с журналом «Знание – сила», а это неизбежно сказалось на их творчестве. Фантастическая реконструкция, подкрепленная благожелательными авторитетными отзывами, была принята на ура.
В качестве поясняющего примера возьмем первый роман братьев Стругацких «Страна багровых туч», написанный в 1954–1957 годах (Борис Стругацкий в «Комментариях к пройденному» указывает более точную дату начала работы – лето-осень 1954 года) и впервые опубликованный в 1959 году. В нем представлена грядущая высадка на Венеру с целью поиска урановых залежей, а в качестве транспортного средства используется фотонный планетолет «Хиус» – прототип звездолетов XXI века. Обращает на себя внимание краткое описание этапов космической экспансии, которое словно бы взято из книг Бориса Ляпунова и Карла Гильзина. В романе есть конкретные привязки к месту и времени – дата старта «Хиуса» к Венере указана прямо: 18 августа 1991 года. При этом немного ранее заявлено, что до начала штурма Венеры прошло чуть менее тридцати лет со времени полета первых «лунников». Дадим два года на красочно описанный штурм, окончившийся крахом (это заниженная оценка), год на строительство и обкатку двух «Хиусов» (еще более заниженная оценка), получим на выходе дату старта «лунников»: 1959 или 1960 годы. Здесь прогноз Стругацких оказался удивительно точным – первый аппарат, известный ныне под названием «Луна-2», достиг поверхности Луны 14 сентября 1959 года. Однако во всем остальном Стругацкие ошиблись, как ошиблись и участники межавторского проекта «Полет на Луну». Ставка на ракеты с атомным двигателем (у Стругацких они называются атомно-импульсными ракетами и предшествуют фотонным планетолетам) оказалась проигрышной – их создание натолкнулось на ряд непреодолимых проблем.
Тем не менее тексты братьев Стругацких были новым словом в советской фантастике того времени. Они заворожили многих и многих. Без преувеличения можно сказать, что на этих текстах выросло два поколения советских лоялистов, веривших в неизбежную победу коммунизма и прорывную космическую экспансию. Даже Сергей Королёв, недолюбливавший фантастику, читал Стругацких и делал выписки, а космонавт Георгий Гречко, когда стало возможным, взял с собой на орбиту томик с их новыми повестями. Братья Стругацкие оказали влияние и на коллег: в текстах Сергея Жемайтиса, Генриха Альтова, Валентины Журавлевой, Дмитрия Биленкина, Ольги Ларионовой, Владимира Михайлова, Кира Булычева, Андрея Балабухи, Сергея Павлова, Юрия Тупицына, Вячеслава Рыбакова и многих других можно найти похожие образы и атрибутику.
Талантливая художественная трансляция утопических идей популяризаторов космонавтики оказалась столь действенной, что когда мечта разошлась с реальностью, вину за это возложили не на творцов иллюзий, а на… реальность!
Например, известный политолог и футуролог Сергей Переслегин в статье «Мы попали не в ту историю», опубликованной в «Огоньке» (№ 27, 1999), пишет следующее:
«Если непредвзято прочесть тексты Стругацких, выявится ряд смешных фактов. Смешных с точки зрения нашей Реальности. Так, вся техника могучих космических кораблей, обживших Солнечную систему, до крайности примитивна. Совсем нет компьютеров. Электронные устройства в XXII столетии работают на печатных платах (хоть не на лампах, и на том спасибо). <…>
Проще всего посмеяться над этими несоответствиями, найдя им тривиальное объяснение: писалось это в начале шестидесятых, да и неинтересны были братьям Стругацким все эти технические подробности… Но гораздо интереснее, однако, представить себе мир, в котором на фотонном звездолете действительно нет приличного компьютера. И попытаться понять, как мог бы возникнуть этот мир и почему он такой.
Обратим внимание, что с точки зрения реальности Стругацких, наш мир тоже дает поводы для насмешки <…>. Действительно, «Пентиум» с тридцатью двумя мегабайтами оперативной памяти и гигабайтом твердого диска используется нами… для бухгалтерских расчетов и игры в DOOM. А компьютер, регулирующий карбюратор в двигателе внутреннего сгорания, – это почище ручного управления на фотонолете! А керосиновые газотурбинные двигатели после шестидесяти лет развития реактивной авиации! А жидкостные ракеты, на которых зациклилась земная космонавтика! А сама эта космонавтика, тридцать лет преодолевающая лунную стадию!.. Нет, в чем-то историческая параллель, так подробно и тщательно прописанная Стругацкими, обогнала наш мир. <…>
Я пришел к выводу, что ценой глобального прогресса в теории обработки информации (компьютеры) оказался отказ Человечества от звезд. <…>
Мир, описанный Стругацкими, мир, где к концу 90-х годов освоена Солнечная система, конструируются прямоточные фотонолеты и завершается процесс мирового объединения, – мог осуществиться в Реальности! Просто кто-то когда-то, выйдя из комнаты, открыл не ту дверь. Глупая случайность».
Вот так – не больше, но и не меньше. Глупая случайность!
К сожалению, Сергей Переслегин не одинок в своей вере. Попадаются и более радикальные товарищи, которые утверждают, что космическую утопию расчетливо «убили» ненавистники Советского Союза (эти же ненавистники, надо думать, засыпали марсианские каналы и похитили венерианский уран); что будь коммунистические лидеры понастойчивее в достижении своих целей, межпланетные корабли уже бороздили бы космические просторы, а на Марсе зацветали бы яблони.
Увы-увы, но утопия всегда остается утопией, и ниже мы убедимся, что «глупая случайность» (а уж тем паче козни ненавистников) тут совершенно ни при чем.