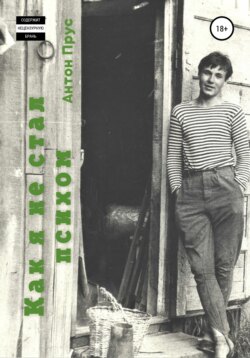Читать книгу Как я не стал психом - Антон Прус - Страница 6
Любовная кататония и неудачное предложение…
ОглавлениеПосле того, как я подержал ручку Светы моя жизнь совершенно изменилась. Понятно, что Света меня безумно любит, о чем я целыми ночами рассказывал своим друзьям по комнате, а они вдохновенно мастурбировали и сочувственно кивали в темноте головами. Учиться я почти перестал, ходил с головой повешенной на бок, полуоткрытым ртом, и улыбкой идиота. Незаметно оказалось, что вот-вот наступит второй Новый Год в казарме. Я продолжал писать удивительные, как мне казалось, стихи:
Словно лебяжьими крылами
С утра украсилась листва
Вчера шуршала под ногами, -
Богини осени паства!
А с неба падал, падал пух
К земле… как менуэт кривляний…
Укроют, разлетелся слух
Наш край – лебяжьими крылами!
Удивительным в них было только то, что они были ужасными. Я настойчиво предлагал друзьям почитать свои гениальные произведения, но они очень уставали днем, чтобы еще напрягаться интеллектуально ночью, и в дни моих вдохновений наша комната засыпала раньше обычного. Ну, размышлял я, если их сердце не вскрыто любовью, словно банка тушенки консервным ножом, то трудно от них ожидать понимания моего внезапного дара! Но и оставлять их без живительного глотка поэзии я не собирался. В свете фонаря за окном я тихонько читал свои прекрасные произведения спящим товарищам, стараясь вложить всю свою нежность к ним, лишённым любви, проповедуя любовь совершенством слова:
Все ложь! Ведь в нашем существе
Заложено одно предназначенье.
Не в бочке, и не в одиночестве
Изгоем быть, минуя плотские влеченья!
Вся жизнь в любви! Ей лишь одной внимать
Ты должен человек. Твой век короткий
Одна любовь должна лишь занимать!
Пусть прочие попытки будут робки!
Смысл человечества в слиянии сердец
Двух карликов вселенной беспредельной.
Ах, как ты глуп начитанный юнец,
Живи любовной слезною капелью!
Я надеялся, что под мое бормотание товарищи будут видеть прекрасные сны, наполненные любовью и радостью, и даже когда кто-то один из них ворочался, то я начинал читать сначала, чтобы не испортить процесс проникновения поэзии в их сердца! Новый Год приближался, и Света пригласила меня на праздник к друзьям ее старшей сестры. Я притащился в костюмчике, а на улице было ужасно холодно, и я надел под брюки толстенькие белоснежные генеральские дедушкины кальсоны. Праздник был как праздник, но беда в том, что, быстро поев, все переместились на пол, что-то пели и рассказывали, а я сидел и думал лишь об одном, – лишь бы брюки не задирались и мои белоснежные кальсоны не светились в полутьме комнаты. Я постоянно приглаживал брюки костюма, который мне купили еще в шестнадцать лет. Рукава и брюки были чуток коротковаты, но это не было заметно, если сидеть на стуле или идти. Но сидеть на полу, кто же это придумал? Гадские кальсоны вспыхивали лунным светом при каждом движении и мне казалось, что все на них смотрят, поэтому я сидел в оцепенении, не пел, не смеялся, даже не заметил пару раз вопрос, который мне кто-то задал. Белые кальсоны, белые кальсоны крутилось у меня в голове, и даже складывались глупые стихи, – кальсоны, унисон, шансон, гарсон… Свете, наверное, казалось, что это я от влюбленности, и она не обращала внимания на мою кататонию. Мы ушли из гостей около двух часов ночи, я провожал Свету домой. На краю недостроенного Купчино было совсем безлюдно, зато над нашими головами переливалось северное сияние. Я шел и мечтал только об одном, – как бы поцеловать ее, но мы идем, как это, взять, остановить, поцеловать, это же будет выглядеть грубо! Да и северное сияние над головой, и я, и она видели его впервые в своей жизни. Нельзя же вот так прервать наше любование красотой. Света молчала, а я молчал еще сильнее! Минут сорок мы шли до ее дома, сорок мучительных минут, в течение которых я всей душой пытался повернуться к ней, взять ее за руку и поцеловать. Но тело шло как ни в чем ни бывало, оно мне не подчинялось! В лифте, пока мы поднимались на последний этаж, на меня навалилась такая тяжесть, что ни руки не поднимались, ни рот не открывался, а секунды шли, тяжело отсчитывая последние мгновения улетающего счастья. Она сказала «пока», а я стоял в лифте, пока его автоматическая дверь не закрылась, и я ответил «пока, Света», уже при закрытой двери. Я вышел из подъезда, северное сияние исчезло, но в душе все болело и стонало, а потом вылилось сознание вытеснило все неприятное, осталось только северное сияние, прогулка и факт вместе проведенного Нового Года. И радость вылилась стишком:
Откуда песня льется, льется?
С чего в душе такой простор?
Где тот непрошеный укор,
Что ниоткуда вдруг берется?
Что, что вокруг, ведь не весна?
Но полна чаша, сердце рвется!
Что это? Как это зовется?
Ах, просто так! Поет душа!
Не помню, как я оказался дома, как поехал в гости к Грише Литваку, помню только, что впервые в жизни напился так, что на вечеринке танцевал с подружками его друзей, они прижимались ко мне, а я отстранялся, боялся, что они почувствуют мою каменную эрекцию. Подружки были симпатичные, а я пьяный. А потом мои руки опускались с очередной талии вниз, нет, не специально, просто я не спал вторые сутки, и немножко засыпал во время медленного танца, а Гришины друзья смотрели на это и беззвучно ржали. Гриша, единственный честный человек из моих товарищей, заявил, что стихи твои, Антон, полное говно, что нужно больше читать стихов хороших поэтов, да вообще, мол, завязывай ты с этой бодягой. Я танцевал, повиснув на чьей-то подружке, молоденькой медсестре, а Гриша неодобрительно мотал головой, видимо как самый тренированный из нас в смысле алкоголя, и перемещал мои руки с девичьей попы ближе к лопаткам, а сама девушка только хихикала, и говорила, «ну, Гришка». Потом, ближе к утру выпитая водка попросилась наружу, вместе с яйцами с майонезом и салатом оливье. Алексей Григорьевич, Гришин папа, известный тифлопсихолог, Гриша показывал его докторскую диссертацию, напечатанную Брайлем, заботливо помог мне поблевать с балкона, очень ласково говоря: ну, вот так, ну, ничего, ну, бывает, так, моем мордочку и баиньки! Я спал, но слышал, как хлопнула дверь, и друг Гришиных родителей, какой-то физик, рассказал, как ходил утром за пивом, а там была очередь. У друга была офицерская фуражка на этот случай, и подойдя к ларьку в фуражке и дубленке, он бодрым голосом сказал: Ребята, извиняйте, вот только с самолета из Анголы, дайте бидончик для однополчан возьму! Очередь робко спросила, мол, и как там? Он крякнул, допивая кружку, и ответил, – тяжело, но наши наступают! Взял бидон и скрылся. Я вернулся домой и, полный решимости, словно физик «из Анголы», отправился к Свете, делать ей предложение. Во мне еще булькал алкоголь, шевелились стихи, звучал военный марш. Света сразу открыла, а ее мама предложила мне поесть. На столе был суп. Мы со Светой сидели на кухне, и во всем была такая проза: остывающий суп, мама в замызганном халате, неулыбчивая Света. Света довольно резко попросила маму выйти, и ее голос совсем не был похож на волшебное пение про спящую Светлану… Я встал, подошел к окну, и заученным текстом сделал Свете предложение, стоя к ней спиной, так как стоять к ней лицом было очень страшно. Звучало предложение очень неубедительно, типа, мы уже не школьники и нам можно было бы пожениться. Ни слова про любовь, ни слова про стихи, ни слова про упоительное будущее. Как тогда в лифте я стал деревяннее Буратино. Между словами проходило по несколько минут, так что даже и непонятно, связала ли Света мою речь воедино. «Я не знаю», ответила она. Нет, такого ответа я не мог ожидать. Я ждал тихого Да, или радостного Да. Ведь я держал ее за руку и мы видели северное сияние! Ну, в крайнем случае – Да, давай, через год!? Небеса рухнули, и я вдруг ясно увидел, что ничего у нас и не было, и не будет, что мы и не разговаривали с ней, кроме того случая со спальником. Я молча собрался, постоял у двери, Света тоже молчала. Я ушел, а по пути домой, в трамвае написал:
Я уйду, и снег покроет след,
Я уйду, и дождь размоет грязь.
Утра дым лишит границ мой бег,
И изменит ветер путь мой – вязь.
Я уйду так тихо, как умру…
Изменив лишь той, которой нет.
Оторву от сердца ласку рук,
Прокляну друзей ненужный бред.
Я ускорю шаг от света в тьму,
Проведу черту из сердца в даль…
И услышав в спину робкий стук,
Оглянусь, скажу: «Что ж, очень жаль».