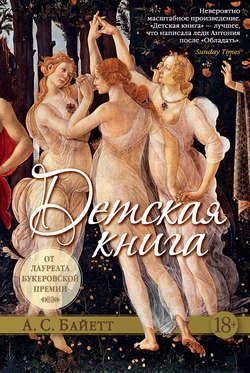Читать книгу Детская книга - Антония Байетт, Антония Сбюзен Байетт, Антония Сьюзен Байетт - Страница 6
I. Начала
4
ОглавлениеДата праздника Летней ночи могла слегка меняться. Хамфри объяснил Филипу, что день летнего солнцестояния, то есть самый длинный день солнечного года, на самом деле выпадает на 21 июня. Но европейский праздник святого Иоанна справляют вечером 23 июня, предшествующим Иванову дню 24 июня, который также называется «Серединой лета».
– На практике, – сказал Хамфри, который считал, что с молодежью надо говорить как с равными, – на практике мы со своим праздником поступали то так, то этак – выбирали то истинный день солнцестояния, то Иванов день, смотря по тому, на какой день недели они выпадали, чтобы удобнее было праздновать. Сегодня пятница, двадцать первое – истинная середина лета, хотя канун середины лета был вчера, и с рассвета субботы дни начнут убывать, несколько раньше европейской даты праздника… В субботу полнолуние, так что мы будем праздновать, если повезет с погодой, при свете растущей выпуклой луны. Выпуклый – хорошее слово.
Хамфри любил смаковать слова. Филипа встревожил поток речи, летевший с той стороны стола. Обычно слова не обрушивались на Филипа в таких количествах. Но теперь он смог представить себе растущий выпуклый диск, и его неуемное воображение принялось расписывать большую чашу убывающими выпуклыми, растущими выпуклыми и истинно круглыми лунными дисками. Может получиться интересно. Серебро и золото на темном кобальте.
– Пятница – удобный день для наших друзей, – сказала Олив. – Они все соберутся здесь на выходные, подальше от города. Филип, мы тебя совсем загоняем приготовлениями.
– Это хорошо, – сказал Филип.
* * *
Все семейство, чада, домочадцы, прислуга и Филип самозабвенно трудились. Олив и Хамфри оба закончили свою писанину – уже почти на рассвете, до завтрака. Кухня полнилась запахами готовки, и на обед всем дали только хлеб и сыр, потому что печь и бóльшая часть посуды были уже заняты. Филипа отрядили украшать сады – декоративный и плодовый. Он помогал расставлять складные столы на газоне возле дома, а потом в особо живописных местах разместил стулья небольшими уютными группами, словно для заговорщиков. В ход пошли все стулья – плетеные, конторские, школьные, кресло-качалка из детской, железные садовые. Их расставляли под увитыми зеленью сводами беседок, на прогалине посреди кустарника, даже в саду под яблонями. Потом фонарики – их развесили на ветках, скрыли в купах густой травы и декоративного чертополоха цветочных бордюров. Филипа вместе с Филлис послали вешать фонарики в плодовый сад. Это было запущенное, унылое место. С искривленных ветвей старых плодовых деревьев свисали мох и лишайники, с воли в сад проникли колючие плети ежевики и местами задушили все остальное. На некоторых деревьях были какие-то странные надстройки из досок, с кусками свисающих веревок. Филлис сказала, что они хорошо подойдут для иллюминации. Она привязала фонарики к веревкам и велела Филипу залезать наверх.
– Это старые дома на деревьях, – сказала Филлис. – С тех пор, когда мы были еще маленькие. В эти даже Гедда может залезть. У нас теперь есть другой дом на дереве, гораздо лучше – далеко в лесу. Но это секрет, – неуверенно добавила она.
Филип в это время подбирал жесткую падалицу. Филлис предупредила, чтобы он остерегался ос.
– В яблочках бывают всякие червячки – вдруг возьмет да и высунет черненькую головку. Ужасно противно, только подумать – вонзаешь зубы, а там что-то извивается…
Они побрели вглубь сада. Филлис показала пальцем:
– Эти два дерева – волшебные, из сказки. Золотая яблоня и серебряная груша. Золото и серебро можно увидеть только при определенном свете, а так приходится верить. Эти два дерева – в самой середине. Их ветви касаются земли, а вершины – неба. А все это… переступень, шиповник… растет вокруг, чтобы их украсить.
Деревья были старые, запущенные, прекрасные. Филип смотрел на сплетения узловатых ветвей и жалел, что у него нет карандаша. Филлис взяла его за руку и потянула вперед:
– А вот тут лежит Рози. Видишь, вон круг из белых камушков. Она под ними и под яблоней и под грушей.
Котенок? Птичка?
– На день ее рождения мы приносим ей цветы. И делаем возлияния яблочного сока. Мы ее не забываем. Мы ее никогда не забудем.
Голос у нее был торжественный и густой от избытка чувств.
– Она прожила на свете неделю, всего одну недельку, и ее не стало. У нее были совершенно дивные, изумительные пальчики на ручках и ножках. А теперь она спит здесь.
Филлис почтительно склонила голову. Филип почуял актерскую игру, но не облек свою мысль в слова. Он немилосердно спросил себя, задумывалась ли Филлис хоть раз, что там лежит на самом деле – под белыми камнями, меж корней. Он сказал туманно и фальшиво:
– Это хорошо.
Он швырнул горсть жестких мелких яблочек в заросли ежевики. Повесил фонарь с полумесяцем и темной тенью птицы на ветви груши, над белыми камнями.
Филлис взяла его за руку. Прижалась всем тельцем к его боку. Филип почувствовал, что ее плоть всегда была чистой и приятной, а его собственная, по контрасту, – никогда. Это снова было только ощущение, не облеченное в слова. Он отстранился.
Когда сад был украшен, а обед из хлеба с сыром съеден, все начали облачаться в костюмы. Виолетта одевала детей, в том числе Филипа, в классной комнате, а Хамфри и Олив пошли надевать собственные наряды, напоминавшие об «их» пьесе – «Сне в летнюю ночь», не строго елизаветинские и не афинские, но летящие шелка и льны в духе Движения искусств и ремесел, серебристые и золотистые, цветастые и струящиеся.
В классной комнате стоял большой раскрашенный сундук, имитация ренессансного сундука для приданого. На нем были нарисованы лесные пейзажи, темные поляны, бледные дамы, гончие и белый олень. Это был костюмерный сундук. В нем хранилась необычайно богатая коллекция шелковых сорочек, рубашек с оборочками, вышитых шалей, обручей с вуалями и корон для принцев.
– Очень удобно, когда тетушка – портниха, – сказала Виолетта, обращаясь к Филипу. – Я могу превратить тогу в бальное платье или наоборот и сделать волшебные шелковые цветы из старого чулка. Я думаю, Гедду стоит одеть Душистым Горошком. Вот дивная розово-сиреневая сорочка.
Гедда рылась в ворохах шелка, запустив в сундук обе руки.
– Я хочу быть ведьмой, – сказала она.
– Милая, я же тебе сказала, – произнесла Виолетта. – Ведьмы бывают на Хеллоуин. А в Летнюю ночь должны быть феи. С хорошенькими крылышками из органзы. Вот погляди.
Пришла Олив со сверкающей пряжкой – попросить Виолетту пришить ее к шарфу. Олив взъерошила волосы Гедды.
– Ну пусть будет ведьмой, если хочет, – небрежно сказала она. – Мы же хотим, чтобы они были довольны, правда? Чтобы могли бегать и веселиться. Милая, ты нашла ведьминский костюм? Вот моя старая черная шаль с прекрасной бахромой. Видишь, на ней вышит огнедышащий дракон. А вот старая танцевальная туника Филлис – Ви, ты только прихвати в паре мест, чтобы она не распахивалась. А вот брошка, стеклянный жук, то, что надо. А Филип сделает тебе шляпу из черной бумаги. Филип, только не слишком большую, чтобы она не сваливалась.
– И метлу, – сказала Гедда.
– Тогда сходи на кухню и попроси там веник.
У Виолетты было такое лицо, словно она вот-вот взорвется, – похожее выражение бывало и у Гедды, – но она повиновалась, и скоро малышка уже кружилась в вихре черных крыльев летучих мышей и летящей по воздуху бахромы. Виолетта одела покорного Флориана в желтое и зеленое, в куртку с фестонами – он изображал Горчичное Зернышко. На голову ему водрузили остроконечную фетровую шапочку, которую он все время растерянно трогал. Филлис приняла отвергнутую роль Душистого Горошка, и ее любовно задрапировали маркизетом – сиреневым, розовым, цвета слоновой кости. Надели на нее серебристый плащ, напоминающий сложенные крылья стрекозы, а на голову – венок из шелковых цветов.
Дороти изображала Мотылька – в серой бархатной тунике, в плаще, на котором были нарисованы глаза. Виолетта пыталась уговорить ее надеть проволочные усики, но тщетно.
Тому выпала роль Пэка. Он был босиком, в обтягивающих коричневых лосинах и куртке цвета листьев. Он тоже отверг головной убор и сказал, что вплетет в волосы веточки. Филлис сказала, что Пэк не носил очков. «Этот носит, – ответил Том, – иначе свалится в пруд или запутается в колючках».
Возник вопрос: что делать с Филипом. Он сказал, что не наденет костюм, потому что будет чувствовать себя по-дурацки. Никто не хотел предложить ему должность рабочего сцены. Это было бы грубо. Том спросил:
– Может, ты наденешь тогу и будешь афинянином?
Филип не знал сюжета «Сна в летнюю ночь», и выбор костюмов привел его в полнейшее недоумение. Он сказал, что, наверное, не сможет ходить в тоге. По правде сказать, он не представлял себе, что это вообще такое.
– Я не люблю, чтоб на меня глядели, – сдавленно сказал он.
Все дети, даже те, что прыгали кругом, хвалясь нарядами, прекрасно понимали, что значит, когда человеку не хочется, чтобы на него смотрели. Тут Дороти осенило. Она сняла со стены кубово-синий халат, который Том надевал на уроки рисования:
– Ты можешь нарядиться художником. Кстати, ты и по правде мог бы в нем ходить, когда делаешь горшки и все такое.
У халата было высокое горло, широкие рукава, глубокие карманы. Он надевался сверху на одежду. Во многих отношениях это был меньший маскарад, чем теперешняя заемная одежда Филипа. Он посмотрел на свои ноги.
– Ты можешь пойти босиком, – сказала Дороти. – Мы ходим босиком.
– Ты можешь пойти как есть, – сказал Том.
Филип надел халат. Он был удобный. Филип позволил Виолетте переменить ему ботинки на сандалии. Все, кто не ходил босиком, были в сандалиях.
– Теперь ты можешь бегать и прыгать, – сказала Дороти.
Ноги Филипа под ремешками сандалий были бледные, но не белые. Мысль о том, что можно бегать и прыгать, доставила ему мимолетное удовольствие.
* * *
В середине дня начали прибывать гости. Не все сразу, а одни за другими, из близких и далеких краев, в экипажах, двуколках, запряженных пони, пролетках, взятых на железнодорожной станции, пешком, а в одном случае даже на трехколесном тандем-велосипеде.
Хамфри и Олив стояли на ступенях и встречали гостей. Супруги оделись Обероном и Титанией. На Хамфри была шелковая куртка, расшитая флорентийскими арабесками, черные бриджи и объемистый бархатный плащ, державшийся под невероятным углом на шелковом шнуре, перехватившем плечо. Хамфри выглядел нелепо и прекрасно. Эта роль его забавляла. На Олив был плиссированный оливковый шелк поверх плиссированного белого льна, а сверху батистовый плащ с прожилками – словно крылья стрекозы. Волосы увиты жимолостью и розами. Рядом стояла Виолетта в платье, расшитом ивовыми листьями по атласу, по-девичьи склонив голову, тяжелую от шелкового плюща и белых перьев. Вокруг носились дети. Их призовут к порядку, когда появятся другие дети.
* * *
Первыми – им надо было только перейти лужайку – явились из фермерского домика русские анархисты. Василий Татаринов бежал из Санкт-Петербурга в 1885 году. Он читал лекции о русском обществе и получал щедрое вспомоществование (в том числе право пользования тем самым домиком) от английских социалистов. У Василия было две смены одежды: рабочий халат и парадный костюм для лекций. Сегодня Василий пришел в костюме. Он бросался в глаза – необыкновенно высокий, тощий, с длинной остроконечной белой бородой, похожий на волшебника. Его жена Елена пришла в лучшем из своих двух платьев – коричневом поплиновом, отделанном черной тесьмой и черными пуговицами. Волосы гладко зачесаны назад. До карнавальных костюмов Татариновы не снизошли. Их дети, Андрей и Дмитрий, примерно ровесники Филлис, были в повседневных фартуках – красном и синем. Они по большей части притворялись, что не говорят по-английски.
На трехколесном велосипеде, крутя педали, прикатили Лесли и Этта Скиннер, собратья-фабианцы. Скиннер занимался антропологической статистикой и наследственностью в лондонском Юниверсити-колледже. У Лесли были прилизанные черные волосы, белая кожа и синие глаза. Этта была старше мужа. Они познакомились в 1880 году в Клубе мужчин и женщин при колледже. Там обсуждали женский вопрос, противозачаточные средства, животные страсти и сексуальные инстинкты. Скиннер был очень серьезный, с чарующим голосом. Он возбуждал немалые животные страсти в коллегах и студентках. Уэллвуды согласились между собой, что он женился на Этте, чтобы защитить себя от безумных менад. Этта была пламенной теософкой, посещала собрания на Албемарл-стрит, посвященные эзотерическим и астральным материям, читала лекции о вегетарианстве, а также учила грамоте и арифметике лондонских бедняков. У Этты было круглое лицо, плотно сжатый рот и волосы цвета перца с солью, пушащиеся посеченными концами. Казалось, она когда-то была жадной и нетерпеливой, но перевоспиталась. Она приходилась дальней родней Дарвинам, Веджвудам и Гальтонам; это не могло не заинтересовать специалиста по наследственности, как заметил Хамфри. Но Скиннеры, женатые уже десять лет, были бездетны. Странно, сказал Хамфри, что люди, изучающие наследственность, часто сами не имеют наследников. Олив ответила, что ей не нравится, как одевается Этта: она сама красит материю для своих платьев и все они похожи на мешки. Этта сняла велосипедную юбку и вуаль, и стало видно повседневное платье неровного сливового цвета.
Вслед за Скиннерами прибыл Тоби Юлгрив, тоже на велосипеде. Тоби владел крохотным коттеджем в лесу и приезжал туда на выходные. Тоби с Эттой тут же принялись обсуждать народные обычаи, связанные с Летней ночью.
Проспер Кейн приехал из Айуэйд-хауза в экипаже с Джулианом и дочерью Флоренцией. Они все были в костюмах. Проспер – в костюме Просперо: обширных одеждах черного бархата, расшитых знаками зодиака. В руке он держал длинный посох из бивня нарвала. Навершие посоха было усажено «лунными камнями» и оливинами. Джулиан оделся в театральный костюм принца Фердинанда, черный с серебром. Двенадцатилетняя Флоренция была в очень красивом костюме Миранды, в струящейся рубашке цвета морской волны, с развевающимися темными волосами, в жемчужном ожерелье. Джулиан и Том осторожно поглядывали друг на друга. Они пережили совместное приключение, но оба не были уверены, что хотят дружить. Подошла улыбающаяся Олив, и Проспер поцеловал ей руку. Он шепнул ей на ухо:
– Дорогая, я позаимствовал из музея одну совершенно фантастическую вещь, только не говорите никому.
– Даже не знаю, верить ли вам.
Он так и не выпустил ее руки́:
– Никто мне никогда не верит. Я излучаю неопределенность.
Джулиан заметил Филипа в халате:
– А я тебя не узнал.
Филип переминался с ноги на ногу. Том сказал:
– Он сделал совершенно потрясные фонари. Пойдем посмотрим.
Они пошли прочь, и Флоренция последовала за ними.
Приехала бричка, а в ней компания из Дандженесса; дамы везли маскарадные наряды в плетеных корзинках, поскольку ехали издалека. Бенедикт Фладд, как и предсказывала Олив, не явился. Серафита в те дни, когда еще была Сарой-Джейн Стаббс, прерафаэлитской красавицей из Маргейта, служила моделью Берн-Джонсу и Россетти. Сейчас ей было уже за сорок; она сохранила все черты, запечатленные на картинах, – тонкую кость, узел черных волос, огромный лоб, широко расставленные зеленые глаза и спокойную линию рта, но тело ее отяжелело, и кроткой благости в лице поубавилось. Она путешествовала в свободном платье фасона «либерти», но привезла с собой другой наряд, более роскошный, с вуалью, которую собиралась набросить на голову и плечи. Детей звали Имогена – девочка шестнадцати лет, стесняющаяся своих грудей, Герант – чуть старше Тома, с глазами и волосами как у матери, и Помона – ровесница Тома, с волной каштановых кудрей. Обе девочки привезли вышитые бисерные «шапочки Джульетты», а Помона еще и домотканое платье, расшитое крокусами, нарциссами и колокольчиками. Герант был одет в какой-то домотканый халат, очень похожий на халат Филипа.
Фладдов сопровождал серьезный юноша по имени Артур Доббин. Он считал себя подмастерьем Бенедикта Фладда. Доббин надеялся основать в соляных болотах вокруг реки Рай коммуну художников. Он был низенький, пухлый, с зализанными волосами и настойчивым, рыскающим взглядом. Он хотел бы явиться на праздник в костюме Оберона или сэра Галахада, но знал, что это не пойдет. На нем были шерстяные вязаные егеревские одежды, разрекламированные Бернардом Шоу. Для жаркого июня он оделся чересчур тепло.
Дороти ждала следующего экипажа. Хамфри тоже ждал – он судорожно вдохнул, когда к дому подкатила элегантная коляска. Это были другие Уэллвуды. Они приехали из «Повилики», своей загородной усадьбы. На них были скромные дорожные костюмы, а в руках – коробки от модисток. Бэзил и Катарина смотрели по направлению движения; дети, Чарльз и Гризельда, сидели за спиной кучера, глядя назад.
Дороти ждала кузину Гризельду. Именно кузина Гризельда приходила на ум Дороти, когда та мысленно произносила слово «любовь» (которым обычно не разбрасывалась). Гризельда была одного возраста с Дороти и ближе ей, чем родная сестра Филлис. Дороти была реалисткой и понимала, что не любит Филлис, хоть и знала, что должна любить. Может быть, именно поэтому Дороти чуть более подчеркнуто любила Гризельду, которую видела не слишком часто. Дороти иногда опасалась, что от рождения обделена способностью любить по сравнению с другими людьми. Филлис любила всех и вся – маму, папу, тетю Виолетту, Гедду, Флориана и Робина, Аду и Кейти, пони, пушистого котенка, мертвенькую Рози в саду, живущих в «Жабьей просеке» жаб. Дороти ко всем ним питала различные чувства. Кое-кого она любила. Но Гризельду она любила на самом деле, она выбрала Гризельду, чтобы ее любить.
Фрида, горничная Катарины, сидела рядом с кучером. Она слезла, чтобы руководить разгрузкой шляпных и одежных коробок.
Бэзил Уэллвуд был ниже и мускулистее младшего брата. Он носил хорошо скроенный светло-серый костюм, который не собирался менять на маскарадный, кольцо с бриллиантом и сложную часовую цепочку из множества переплетенных колец. Увидев яркие одежды Хамфри, Бэзил счел их нелепыми, нахмурился и не очень старательно скрыл это. Он поздравил Хамфри с солнечным днем, словно Хамфри кого-то нанял для получения нужной погоды, и Хамфри в свою очередь счел это нелепым.
Четырнадцатилетний Чарльз, который как раз готовился к экзаменам в Итон, был похож на обоих братьев – у него были рыжевато-золотистые волосы, песочного цвета ресницы и сильные черты лица. Он тоже был в костюме, с шейным платком, заколотым жемчужной булавкой для галстука.
Катарина была худа и бледна; голова на стройной шее казалась маленькой по сравнению со шляпой, украшенной крыльями голубки и плотно прилегающей вуалью с мушками. Волосы у Катарины были какого-то промежуточного цвета между выцветшим серым и мышиным блондинистым. Глаза – большие, тоже какого-то неопределенного цвета, в слегка пострадавших от времени, обведенных темными кругами орбитах, среди складок и тонких морщинок.
Гризельда была очень худая, с тонкими светло-серебристыми волосами, заплетенными в косу и уложенными короной вокруг головы (как у настоящей mädchen,[3] подумал Хамфри). Одета она была в серо-бежевый дорожный костюм. Тонкий рот не улыбался. Гризельда была высокая и с виду не очень крепкая. Дороти побежала с ней здороваться.
Они пошли в дом переодеваться. Филлис, пристраиваясь хвостом за Дороти и Гризельдой, спросила:
– Кузина Гризель, а ты привезла красивый костюм?
– Вы все в маскарадных нарядах.
– Сегодня праздник Летней ночи, – сказала Дороти. – Мы его всегда справляем в костюмах. А ты?
– А я нет. Я привезла новое бальное платье. Увидите.
Одевание было делом не быстрым. Шнурки и пуговицы отняли целую вечность. Возникшие наконец из спальни Олив мать и дочь были совершенно очаровательны и абсолютно неуместны. На Катарине было платье из бело-сиреневого шанжана и валансьенского кружева с огромными буфами выше локтя. Туалет довершали лайковые перчатки и головной убор из кружев и свежих розовых бутонов, похожий на огромную подушечку для булавок. Гризельда была в платье светло-розового атласа с кружевной кокеткой. Платье украшали розовые бантики чуть более темного оттенка – на рукавах-буфах, по подолу. Филлис сказала, что платье очень красивое. Дороти воскликнула:
– Оно может запачкаться, если мы пойдем в сад.
– Оно тут совершенно не к месту, – ответила Гризельда. – Чарльз называет его «малютка Бо-Пип».
– Ты похожа на фарфоровую куклу, – заметила Дороти, – на куклу из сказки. Она стоит на полке, и в нее безнадежно влюблен оловянный солдатик или нахальный мышонок.
– На Портман-сквер это платье смотрелось бы абсолютно уместно, – безо всякого выражения произнесла Гризельда. – Думаю, мне придется потерпеть.
* * *
Явилась двуколка, запряженная пони. Сперва показалось, что в ней сидит труппа вампиров и привидений с белыми застывшими лицами. Двуколкой правил Август Штейнинг, обитатель коттеджа «Орешек», стоявшего на краю Даунса. Штейнинг слез с двуколки и встал на длинные-длинные ноги с элегантно развернутыми, как у танцора, носками. У него была серебристая бородка, элегантные усы, густые, хорошо подстриженные серебристые волосы. Он приехал в костюме для сельской местности, но, переодевшись, стал еще одним Просперо, так как привез с собой каббалистический плащ с капюшоном и узловатый посох из древесины грецкого ореха. Штейнинг был театральным режиссером, иногда и сам писал пьесы; больше всего прославились его постановки «Пера Гюнта» и «Бури», хотя, помимо этого, он написал еще историческую пьесу о Кромвеле и Карле I. У него были передовые идеи. Он интересовался новой немецкой драмой, немецкими сказками и фантазиями. (Коттедж «Орешек» назывался так не из-за ореховых деревьев, растущих в саду, а по зловещей сказке Гофмана про Щелкунчика и мышиного короля.) В повозке лежали кучей большие театральные маски.
– Дорогие, я привез вам ослиную голову, без нее Летняя ночь не обходится, а это не простая голова, ее носил сам Бирбом Три. Мы можем надевать ее по очереди и преображаться. А еще я привез восхитительные венецианские маски, вот Пьеро и Коломбина, вот гриф-стервятник – на самом деле он доктор-шарлатан, сторонящийся чумных бубонов… Вот черная колдунья, расшитая блестками. Вот Солнце в пылающей короне, вот Луна с облачными горами и серебряными слезами…
Он обратился к Олив:
– Я взял на себя вольность пригласить одного гостя. Он едет отдельно, так как ему нужно много места. Он следовал прямо за мной…
Тень раздражения пробежала по лицу Олив. Это ее праздник. Здесь она раздает дары. Тут прибыла еще одна двуколка с единственным человеком в неодушевленной компании, которая в данном случае была спрятана в черных коробках и сундуках с медными застежками.
– Кажется, вы давно знакомы, – сказал Август Штейнинг. (Он любил называть себя Августом в честь клоунов.) – Надеюсь, я не совершил оплошности.
Он заметил гримаску Олив.
Олив посмотрела на нового гостя, помедлила и бросилась к нему с распростертыми руками:
– Добро пожаловать. Какая неожиданная радость…
Незнакомец вылез из двуколки. Он был маленький, худой, темноволосый, в черных брюках в обтяжку, длинной черной куртке, черной фетровой шляпе, за ленту которой были заткнуты перья сойки. У него была остроконечная театральная бородка и ухоженные усы. Гравий не хрустел у него под ногами. Он на миг склонился над рукой Олив.
– Это и вправду наш старинный друг, мы встречались в Мюнхене. Майор Кейн, позвольте представить вам – герр Ансельм Штерн, человек искусства, весьма необычного. Герр Штерн, это мистер Уэллвуд, мой деверь, и Катарина Уэллвуд…
* * *
Детей она не представила.
Кейти получила приказ – помочь герру Штерну с коробками. Гедда потрогала коробки и спросила, что в них.
– Увидишь во благовремении, – сказал Август Штейнинг. – Мы надеемся, что твоя мама разрешит нам это показать.
Герр Штерн, наблюдая за разгрузкой коробок, вдруг обрел голос и, запинаясь, сказал по-английски:
– Я привез подарок для маленьких девочек.
Он неуверенно переводил взгляд с Дороти на разнаряженную Гризельду, на хорошенькую Филлис, на маленькую черную ведьму с жуком-брошкой.
– Коробка с красной лентой, – сказал герр Штерн, обращаясь к Кейти. – Пожалуйста.
– Что это может быть? – спросила Филлис.
– Откройте, пожалуйста, – сказал Ансельм Штерн.
Коробка была размером с обувную и завернута в бумагу, похожую на пергамент. Виолетта разрезала бечевку, Филлис развернула бумагу. Гедда выскочила вперед и сняла крышку с оказавшейся внутри коробки – очень похожей на обувную, а может, и вправду обувной. Гедда заглянула в коробку.
– Там башмак, – сказала она.
Виолетта вытащила то, что лежало в коробке.
Это был очень большой башмак из прошитой кожи, темной, красновато-коричневой, с большим языком и большой стальной пряжкой с острой булавкой в середине.
Дороти сперва показалось, что в башмаке мыши. Она отступила на шаг.
– Это дети, – неуверенно сказала Филлис.
Башмак был битком набит тряпичными куколками, круглоголовыми, с немигающими глазами-бусинками.
Куклы были одетые – кто в кожаных шортах, кто в фартуках, оборачивающих все тело. Филлис неловко засмеялась. Куклы смотрели не мигая. Гедда сказала:
– Это старушка, которая жила в башмаке. Только старушки нету, дети сами по себе.
Она схватила башмак и прижала его к сердцу. Другие девочки вздохнули с облегчением.
– Какая оригинальная игрушка, – произнесла Виолетта.
– Тебе нравится? – спросил герр Штерн у Гедды.
– Она немножко страшная. Я люблю все страшное.
Август Штейнинг объяснил, что Ансельм Штерн – кукольник. Он творит чудеса с перчаточными куклами и марионетками. Они надеются преподнести подарок королеве фей, сказал он, кланяясь в сторону Олив. Представить для гостей сказку о Золушке. Куклы для постановки были надежно запрятаны в тех самых черных лакированных ящичках, уже виденных присутствующими. И он надеется, что если пьеса понравится зрителям, то назавтра они посетят «Орешек», чтобы увидеть более искусную постановку.
– Я говорю «мы надеемся представить», – объяснил он, – потому что Ансельм учит меня тайнам марионеточного театра. Я буду учеником волшебника. Я буду управлять злыми сестрами Золушки.
Олив улыбнулась. Хамфри пригласил всех к столу:
– Сначала мы будем есть и пить. Потом – представление. Потом другая перемена блюд и танцы. У нас есть талантливые музыканты – Герант играет на флейте, Чарльз на скрипке, а Том управляется как может с жестяной дудочкой.
* * *
Они собрались на лужайке. Штейнинг только что вернулся из Лондона, где встречал Ансельма Штерна, и привез ошеломительные новости. Рутинное голосование по поводу ассигнований на армию – трат на стрелковое оружие – вдруг переросло в вотум недоверия. Лорд Розбери подал в отставку, и премьер-министром стал лорд Солсбери – временно, до осенних выборов.
Проспер Кейн сказал, что эти перемены могут пойти во вред Музею. Он все еще ждал осязаемого воплощения проектов сэра Астона Уэбба – нового фасада и внутреннего дворика.
– Музей превратился в склад стройматериалов, – пожаловался майор. – А все это в лучшем случае задержит работы.
Бэзил Уэллвуд не нашел среди собравшихся ни одного человека, с которым можно было бы обсудить влияние этих событий на фондовую биржу. Он подумал, что попал в необычное племя – сплошная мишура и фальшивая позолота.
Вполголоса заговорил Лесли Скиннер. Насколько он помнит, имя лорда Розбери упоминалось в связи с прискорбными событиями, вызвавшими недавний судебный процесс. Ведь правда, ходили слухи, что прискорбная кончина старшего сына лорда Куинсберри – не лорда Альфреда Дугласа, а лорда Друмланрига – была вовсе не несчастной случайностью, но актом самоуничтожения, направленным, как говорили, на защиту доброго имени лорда Розбери? И по этому поводу задавались вопросы во время рассмотрения проигранного дела мистера Уайльда против лорда Куинсберри – иска за клевету? Скиннер говорил с таким видом, словно его интерес был чисто научным. На серьезном лице не отражалось ничего, кроме стремления к точным знаниям.
Виолетта Гримуит неодобрительно цокнула языком, согнала в кучку детей, которые стояли поблизости и слушали, и повела их есть фруктовый салат. Джулиан и Том не пошли. Джулиан поманил Тома, и они встали так, чтобы все слышать, – по ту сторону складного стола, пробуя тарталетки по одной. Прошло меньше месяца с того дня, как Оскар Уайльд в третий раз предстал перед судом, – это был второй суд над ним за «нарушение общественных приличий», так как на первом судебном процессе присяжные не пришли к согласию. Все только об этом и говорили и никак не могли перестать. Джулиан, как и его товарищи по школе, читал газетные отчеты. Он хотел послушать. Лесли Скиннер спросил у Августа Штейнинга:
– Я не ошибаюсь, вы присутствовали в суде?
– Да, – ответил Штейнинг. – Действительно так. Бедняга нуждался в дружественно настроенных зрителях. Я не мог не выступить свидетелем. Это было поистине трагическое падение. Некоторые аспекты его необъяснимы. Вы слыхали о предсказаниях гадалки?
Все сказали, что нет, хотя по крайней мере Хамфри прекрасно знал эту историю.
Штейнинг рассказал, вытягивая вперед в качестве иллюстрации сначала одну, потом другую длинную, бледную, изящную ладонь:
– Это было за ужином у Бланш Рузвельт. Хиромантка пряталась за ширмой, и гости по очереди просовывали туда руки, оставаясь неизвестными. Оказывается, левая ладонь показывает судьбу, начертанную в звездах, а правая – то, что ее владелец сделает с этой судьбой. Левая рука Оскара – у него ладони гораздо пухлее моих – сулила ему огромные, невероятные достижения, успех. Правая предвещала гибель, причем в точно указанный срок. Левая – рука короля, правая – рука короля, который отправит себя в изгнание. Оскар спросил о точной дате, получил ответ и немедленно покинул собрание. По-видимому, пророчество сбылось.
Скиннер спросил Штейнинга о его впечатлениях от суда.
– Он держался с достоинством и стоял, как агнец, предназначенный на заклание. Он позволил загнать себя в положение, когда вынужден был острить. Он храбро говорил о любви, не смеющей назвать себя. Ему хлопали. Но это не было триумфом. А его теперешнее состояние ужасно. Его имя убрали с афиш театров, где идут его пьесы, – боюсь, недолго им еще идти. Говорят, тюрьма его убивает. Он хотел отнестись к ней как к монашескому затвору, келье Просперо, но он спит на досках, у него нет ни книг, ни чернил, ни перьев, его заставляют крутить ступальное колесо. Он исхудал, плоть висит складками. Он не может спать.
Хамфри, свой человек в мире газетных сплетен, небрежно заметил, что лорд Розбери был болен – очень болен – несколько месяцев и внезапно оправился в конце мая. Но по-видимому, лишь для того, чтобы дождаться падения своего правительства. Хамфри переглянулся со Штейнингом и вдруг заметил Тома с Джулианом:
– Нечего вам тут стоять и слушать про политику. Идите расставьте стулья для кукольного представления.
Том и Джулиан побрели прочь по траве.
– Вот всегда они говорят, что нечего слушать, как раз когда хочешь послушать, – заметил Джулиан.
– А ты хочешь? – спросил Том.
– Они думают, мы про это ничего не знаем. Они должны были бы понимать, что мы про все узнаем в школе, просто потому, что мы мальчики. Между уроками греческого и крикетом, греблей и рисованием. Хихиканье, тычки, записочки. Они должны бы знать, что мы знаем. Они ведь сами не могли не знать.
* * *
Том не знал. Он жил дома и учился дома, хотя Бэзил и Хамфри планировали следующей весной отправить его на приемные экзамены в школу Марло. Когда Хамфри заговорил о том, чтобы отправить Тома в новомодную, только что открытую школу Бедейлз, где мальчики купаются нагишом и выгребают навоз из-под скота, вмешался Бэзил. Он сказал, что поможет с платой за обучение. Том был очень способный, ему давались математика, языки. Латыни и греческому его учили анархисты, они любили учить и были рады лишнему источнику дохода. Математикой Том занимался с преподавателем. Осенью математики должно было прибавиться. Том ходил на уроки через поля и луга. Бóльшую часть времени он жил привольно. Он не мог решить, хочется ли ему знать про то, о чем говорит Джулиан. Он не мог решить, хочется ли ему дружить с Джулианом. Том часто не мог понять, чего хочет, и при этом был общителен и дружелюбен; в результате у него было много приятелей и ни одного близкого друга. Ему было тринадцать, и он все еще был мальчиком, а Джулиану – пятнадцать, и он по временам мог быть серьезным молодым человеком.
Очки придавали Тому сходство с совой. Тонкие светлые волосы торчали во все стороны, словно напрашиваясь, чтобы их кто-нибудь взъерошил. Юную кожу, смугло-золотую от жизни на открытом воздухе, еще не испортили прыщи. У Тома были глаза матери и длинные ресницы. Высокие и широкие скулы, нежный рот. Именно таких мальчиков, красивых, но не сознающих своей красоты, много обсуждали и старались добиться их благосклонности, как в подготовительной школе, где Джулиан учился сейчас, так и в Марло. Джулиан спросил себя, хорошенький ли Том, может ли он быть объектом страсти, и понял, что теоретически – несомненно, да. В школе хорошенькие мальчики быстро становились настороженными и застенчивыми. Том держался небрежно, это создавало дистанцию и придавало ему шарм. Джулиан ждал наплыва любви и похоти, которые соответственно, как правило, не заставляли себя ждать. У него была неудобная привычка наблюдать за собой со стороны и задаваться вопросом – не фальшивые ли, не натужные ли его любовь и похоть. Он боялся стать изгоем-одиночкой и опасался, что именно это его и ждет. Сам он точно не был объектом влечения других мальчиков, насколько он знал, а он разбирался в таких вещах. Кроме того, ему докучали гнойные прыщи и оставленные ими кратеры. Он не знал – может быть, Том, кроме того, что хорошенький, еще и слишком простой, а потому скучный.
Том же оценивал Джулиана по своим привычным критериям. Можно ли его пригласить в «дом на дереве»? Станет ли он когда-нибудь человеком, которого можно туда пригласить? Пока еще трудно было сказать с уверенностью, но Том склонялся к тому мнению, что нельзя. Он произнес дружелюбную бессмыслицу:
– Взрослые всегда думают, что мы не знаем того, что они на нашем месте знали. Я думаю, им просто нужно помнить неправильно.
* * *
Зрители, словно куры, сбежались на кукольное представление. Они расселись полумесяцем в голубом дневном свете – на стульях, табуретах, на траве. Гризельда и Дороти сели рядом на вышитые табуреточки, охраняя Гризельдину юбку. Обе думали, что уже слишком взрослые для кукольных спектаклей.
Август Штейнинг выступил из-за будки, которую воздвигли они с герром Штерном. Будка была завешена занавесками цвета полночного неба в звездах-блестках. Он низко поклонился и провозгласил:
– Добро пожаловать на представление пьесы «Aschenputtel», или «Золушка»!
Он снова ушел за темную будку.
Прозвучала труба, забил барабан. Занавес распахнулся.
Сцену под медленный бой барабана пересекал траурный кортеж: одетые в черное плакальщики, несущие гроб, скорбный вдовец, чинная дочь в черном плаще, с затененным лицом. Гроб под мрачный барабанный бой опустили в яму. Из земли поднялся зеленый холмик, на нем воздвиглось надгробие. Отец и дочь обнялись.
Следующая сцена была в доме. Под торжественные звуки скрипки появились мачеха и сестры. Марионетки были тонкой работы, с изящными фарфоровыми лицами, с настоящими человеческими волосами, затейливо убранными – заплетенными или скрученными, в шуршащих юбках тонкой работы – алых, сиреневых, янтарных. Сестры были не уродки, а модные красавицы – в жемчужных ожерельях, с высокомерными личиками, презрительно искривленными ртами, нарисованными выщипанными бровями. Мать и дочери были похожи, как горошины в стручке, – сделаны по одной и той же форме. Золушка с длинными золотыми косами была одета в простое небесно-голубое платье. Мачеха и сестры повелительно указывали ей на стулья, которые следовало протереть и переставить, на серебряные супницы, которые надо было отнести на кухню, на очаг, который нужно было подмести, на огонь, за которым она должна была следить. Она двигалась, повинуясь их командам. Из камина вылетел клуб настоящего дыма.
Золушка вздрогнула, села на табурет, закрыла милое фарфоровое личико тонкими фарфоровыми руками. Дрожь была совсем человеческая и пугала; маленькие ручки качались в такт и складывались вместе.
Пришел отец в дорожных сапогах и плаще. Он поцеловал руки дочерям и спросил, что им привезти в подарок.
Куклы в спектакле почти не говорили, но этот ритуальный вопрос был произнесен голосом Августа Штейнинга – высоким, легким, тонким, словно тростинка. Голос казался соразмерным миниатюрному артисту. Тон голоса поднялся, переходя в контртенор. «Шелку и бархату», – сказала алая сестра. «Рубинов и жемчугу», – сказала сиреневая. «Веточку, что зацепит твою шляпу», – ответила Золушка.
Вслед за этим зрители увидели ее на коленях у зеленого холмика и серого камня – она разглаживала траву и сажала веточку. Медленно, чудесно из-за сцены стало подниматься дерево, гибкий ствол распустился ветвями, завесился дымкой листьев. Прилетели две белые голубки, порхающие, пикирующие, сшитые из перьев и шелка, с черными бисеринками вместо глаз, розовыми лапками и перламутровыми шейками. Защебетала скрипка. Голубки слетели на руки Золушке. Она легла и обняла могильный холмик, а голубки стали прихорашиваться и ворковать у нее в волосах.
Дороти захлопала глазами. Крохотные создания странно и страшно ожили. Дороти крепилась, стараясь не поддаваться иллюзии. Рядом Гризельда, завороженная, смотрела не отрываясь.
Мачеха велела Золушке выбирать чечевицу из золы. Голубки просеяли золу и ловко побросали зерна в кастрюлю – послышался дробный мелкий стук.
Сестры наряжались на бал – им помогала новая марионетка, послушная портниха с нарисованным ртом, полным булавок. У одной сестры были пюсовые банты. У другой – фиолетовые помпоны. Золушка сидела у очага, уронив голову на руки.
Рыдающая дочь стояла у могильного холмика – распущенные волосы падали массой золотых нитей – под танцующим деревом, которое замахало ветвями и, словно сходящий с небес ангел, снабдило Золушку роскошным золотым платьем, диадемой и парой золотых туфелек.
Бал происходил за кисейной занавеской – вихрем кружились фигуры, танцевальная музыка слышалась из музыкальной шкатулки: бренчащие вальсы, скачущие польки. У принца были сверкающие белые волосы, связанные лентой, длинный темный фрак и панталоны до колен. Он танцевал с золотой девушкой. Пробили часы. Она бежала. Дерево и птицы соткали из воздуха другое платье, серебряное, как луна. И третье – словно звездное небо, запутавшееся в острых ветках. Контртенор пропел:
Ты качнись, отряхнись, деревцо,
Одень меня в злато-серебро.
Явился принц с горшком смолы и коварно намазал ступени дворца. Он танцевал с Золушкой, пробили часы, она бежала, и золотой башмачок остался блестеть на смоле.
Финальные сцены были отвратительно кровавы. Одна высокомерная сестра, все с тем же гордым лицом, по наущению матери взяла кухонный тесак и – хрясь! – отрубила себе большой палец на ноге. «Когда станешь королевой, все равно пешком ходить тебе не придется», – сказала мать фальцетом. Жених и невеста поехали верхом – на лошади, сделанной из настоящей кожи, в красивой сбруе. Золотой башмачок переполнялся кровью. Многие дети потом долгие годы будут вспоминать, как капало красное из башмачка.
Дороти хлопнула глазами и запретила себе что-либо воображать.
Кружащиеся голубки воззвали к принцу:
Погляди-ка, посмотри,
А башмак-то весь в крови,
Башмачок, как видно, тесный,
Плохо выбрал ты невесту!
Пришлось им поворачивать назад. Но мачеху это ничему не научило: она снова взяла тесак, хрясь! – и отлетела пятка у второй сестры, и та принялась всовывать фарфоровые пальчики в золотую скорлупку.
– Какой ужас, – сказала Гедда вслух. – И так уже все в крови.
Пропели голубки, и принц повернул обратно.
Отец вызвал Золушку, которая в это время сидела в лохмотьях на золе. Золушка явилась, вдела тонкую ступню в башмачок, и принц схватил ее в объятия. Она выбежала и вбежала снова в сияющем звездном платье. Кукольные отец и дочь обнялись посреди сцены, ее фарфоровая щека лежала у него на плече, он гладил ее золотые волосы.
Задник сцены превратился в освещенный свечами хор. Свадебная процессия шла от алтаря. Голубки слетели на паперть, воркуя, и напали на злых сестер, колотя их белыми крылышками по головам, – головные уборы слетели, лица исчезли за мельтешением крыльев и вновь появились уже с кровавыми ямами вместо глаз.
Гризельда сжала губы. Дороти сердито вздрогнула. Филлис заявила, что сказка совсем неправильная – ни феи-крестной, ни тыквы, ни стеклянной кареты. «И ни крыс и мышей, ни ящерицы!» – закричала Гедда, перевозбужденная и напуганная кровожадными голубками. «Еще!» – сказал Флориан: он ничего не понял, но его заворожил движущийся миниатюрный мир.
* * *
– Интересно, почему так отличается сюжет, – сказала Гризельда, обращаясь к Дороти.
Дороти ответила, что лично ей это не очень интересно, но если Гризельда интересуется такими вещами, то ей лучше спросить Тоби Юлгрива, он вечно распространяется насчет волшебных сказок.
Гризельда, похожая на потерянную фарфоровую пастушку в толпе разномастных феечек, робко потянула Тоби за рукав. Она сказала, что ей очень хочется знать, почему сказка совсем другая.
– Дороти сказала, что вы можете объяснить.
Тоби уселся рядом на садовую скамью. Он сказал, что Гризельда привыкла к французской версии сказки, которую создал Шарль Перро. Он писал сказки специально для юных девиц и, как правило, вставлял туда фей-крестных. Штерн же использовал немецкую версию, из сказок братьев Гримм. Гризельда сказала, что она сама наполовину немка, но дома у них нет немецких волшебных сказок, а жаль. Тоби ответил, что это лишь две вариации из бесконечного числа: в каждой стране, от Финляндии и Шотландии до России, своя версия «Золушки», где повторяются одни детали и меняются другие – злая мачеха, жадные сестры, животные-помощники, волшебные платья, туфельки с кровью или без крови. Братья Гримм считали, что собираемые ими сказки – часть древних мифов и верований германского народа. Тоби заметил, что существуют и английские волшебные сказки. Миссис Олив Уэллвуд умело использует их в своих книгах.
Гризельда ответила, что тетины сказки ее пугают. И сказки Андерсена тоже, она от них плачет. А от этой сказки – нет. Неизвестно почему. Эта сказка должна бы пугать, столько в ней крови. Тоби объяснил, что эта сказка хранит воспоминания о других, давних временах, и согласился, что она не страшная.
– Она просто такая, – сказала Гризельда, пытаясь нащупать то, что ее заинтриговало, но безуспешно.
Тоби взглянул в серьезное тонкое личико. Он пообещал прислать Гризельде книгу братьев Гримм, если родители разрешат. Гризельда сказала: она не думает, что ее родители против братьев Гримм. Они про них просто ничего не знают. Тоби захотелось погладить девочку по голове и сказать: «Не беспокойся», но он решил, что лучше не надо.
* * *
К этому времени все, и стар и млад, собрались на изобильный пикник. Людей, жизнь которых уже вошла в определенное русло, окружали, к счастью или к несчастью, те, у кого еще все было впереди, и, как часто бывает на таких сборищах, старшие начали спрашивать молодежь о ее устремлениях и планировать ее будущее.
Начали, естественно, со старших мальчиков. Проспер Кейн сказал, что у Джулиана хороший глаз на антиквариат, что он отличает подлинник от подделки. Он собрал коллекцию ценных вещей, найденных на блошиных рынках, – средневековая ложка, очень старый стаффордширский кубок с ангобной росписью. Джулиан небрежно согласился, что после Кембриджа действительно надеется устроиться на работу в музей или галерею. Серафита Фладд выразила надежду, что Герант пойдет в отца, художника, и будет творить прекрасные вещи. Герант заметил, что мать прекрасно знает: он на самом деле для этого не годится. Ему легко даются цифры. «Звездочет!» – вскричала Виолетта. Герант сказал, что хотел бы зарабатывать на комфортабельную жизнь. Он дружелюбно улыбнулся. Бэзил заметил, что в таком случае Геранту нужно идти в бизнес. «Как Уильям Моррис, который старался привить деловой подход в художественных мастерских в Лидде», – вставил Артур Доббин. Герант продолжал улыбаться и есть формованную ветчину в желе. Бэзил Уэллвуд пригласил Геранта войти вместе с Чарльзом в семейное дело Уэллвудов. Чарльз покраснел, издал полузадушенный звук и сказал, что это еще не решено. Этта Скиннер заметила: странно, что в такой прогрессивной компании никто до сих пор не спросил девочек, кем они хотят быть. Она выразила надежду, что хотя бы некоторые из них стремятся чего-то достичь. В это же время Проспер Кейн спросил у Тома, чего он хочет добиться в жизни. Том понятия не имел. Он так и сказал.
– Я не хочу отсюда уезжать. Хочу все так же быть в лесах… на равнинах… вообще здесь…
– И остаться вечным мальчиком, – вставил Август Штейнинг, конечно театральным голосом.
Олив сказала, что Тому совершенно некуда торопиться.
Лесли Скиннер подхватил слова Этты. Он почти агрессивно обратился к Дороти:
– Вот вы, юная дама. Кем вы собираетесь стать?
– Я буду доктором, – ответила Дороти.
Виолетта сказала, что слышит об этом первый раз. И действительно, эта идея впервые оформилась в голове у Дороти, и высказала она ее непроизвольно. Дети никогда не играли в докторов и сиделок. Но Дороти услышала собственные слова, и вдруг у нее в голове возникла картинка: взрослая Дороти, врач. Не милая и покладистая, но вооруженная скальпелем. Скиннер ответил, что это весьма похвальная цель, хотя путь к ней тяжел, и выразил надежду, что Дороти поступит в Юниверсити-колледж.
– Но, Йожыг, разве ты не хочешь замуж? – спросила Филлис, назвав сестру детским прозвищем, которое та не любила. – Я вот хочу. Я хочу, чтобы у меня была красивая свадьба и вот как раз такой дом, с розами в саду, и я буду печь хлеб, носить прекрасные платья и рожу семерых детей…
Филлис знала, что она хорошенькая. Ей все об этом говорили. Девиц Фладд, Имогену и Помону, можно было назвать красивыми, но их красота была боязливой, неуверенной в себе – они не тянули на прерафаэлитских моделей. Они были грациозны и неловки в домотканых платьях и раскрашенных вручную эмалевых браслетах. У Имогены были полные груди, и она не носила поддерживающего нижнего белья. Она казалась пухленькой. Она сказала, что подумывает об изучении вышивки в Королевском колледже искусств. Помона сказала, что, может быть, тоже туда пойдет или останется в Дандженессе и будет делать изразцы. Гедда заявила, что хочет стать ведьмой. Виолетта хлопнула ее по руке.
Дошла очередь до Флоренции Кейн. У Флоренции была гувернантка, внушившая девочке, что она стала причиной смерти матери, а потому должна посвятить свою жизнь заботам об отце. Флоренция ничего не говорила отцу об этих наставлениях, и он о них понятия не имел, а кроме того, о нем неплохо заботились экономки и саперы. Он любил играть с обоими детьми в особенную игру: клал на поднос разные пуговицы, бусы, бутылочки, табакерки и прочее и просил детей запомнить все предметы, описать и опознать. Наблюдательность Флоренции радовала его так же, как и наблюдательность Джулиана. Флоренция действительно напоминала утраченную Джулию, но, когда Проспер думал об этом сходстве, ему вспоминались Ван-Эйковы ангелы, безмятежное спокойствие в потоке гофрированных волос.
– Ну так что же, Флоренция? – спросил он. – Чем ты хочешь заниматься?
– Я буду вести для тебя хозяйство, – ответила Флоренция, которой казалось, что это уже решено между ними.
– Надеюсь, что нет. Надеюсь, у тебя будет свой дом, а прежде того – образование. Я надеюсь, что Джулиан пойдет в Кембридж, и ты, надеюсь, тоже. Ньюнэмский колледж дает хорошее образование. Надеюсь, ты решишь пойти туда.
Флоренция растерялась. Эта тема никогда не обсуждалась в семье, и вдруг посреди многолюдного сборища делаются такие определенные заявления. Флоренция ничего не знала о Ньюнэм-колледже – это название было для нее пустым звуком.
– Она не хочет быть старой девой, – заметил Джулиан. – Синим чулком.
Это рассердило Флоренцию. Почему бы мне и не пойти чему-нибудь поучиться, сказала она. Джулиан ведь собирается учиться. Вот и она тоже. Она споткнулась об эти слова и замолчала. Ей никак не приходило в голову, чему же такому она могла бы учиться.
Осталась Гризельда. Бэзил и Катарина не сомневались в ее будущем. Ее представят ко двору, она будет выезжать в свет и найдет себе хорошую партию. Катарина выразила надежду, что брак Гризельды будет таким же счастливым, как и у ее родителей.
Гризельда ритмично, не переставая, крутила пюсовый бант. Мать легонько шлепнула ее по пальцам. Гризельду потрясли – по-настоящему потрясли – слова Дороти о намерении стать врачом. Желания самой Гризельды не шли дальше освобождения от пюсовых бантов. Она жила богатой внутренней жизнью, которая состояла в чтении романов о женщинах, вынужденных играть роль молчаливых наблюдательниц, но в душе исполненных мятежа или усилием принуждающих себя к покорности: Джейн Эйр, Элизабет Беннет, Фанни Прайс, Мэгги Талливер. Но все они на самом деле стремились к любви и браку. Ни одна из них не хотела ничего такого… такого разрушительного, как докторская карьера. Почему Дороти никогда об этом даже не заикалась? Гризельда любила Дороти так же, как та Гризельду. Она любила и «Жабью просеку» со страстью, в которой не осмеливалась признаться даже в «Жабьей просеке». Когда она приезжала сюда, ее немедленно освобождали от парадных одежд и разрешали вволю бегать по лесу. Здесь повсюду были книги. Гризельда вбила себе в светловолосую головку, что они с Дороти могут навсегда поселиться за городом и никогда больше не мучить себя корсетами, шляпными булавками, крючками и застежками. Больше Гризельда ни о чем не думала. И вдруг оказалось, что мир Дороти – черные саквояжи, кровь, больничные койки, горе, превратности, а Гризельды в этом мире нет. У Дороти обнаружилась тайна. Гризельда, побелев, сказала:
– Я хочу учиться. Как Флоренция. Я учу немецкий и французский. Я собираюсь изучать языки.
Катарина ввернула, что к Гризельде ходят самые лучшие учителя и она делает просто невероятные успехи.
Бэзил заметил, обращаясь к окружающим кустам, что образование несет женщинам только неудовлетворенность. Чем именно неудовлетворенность – он не объяснил.
Гризельда принялась крутить другой бант, и мать хлопнула ее по руке. Взгляд Хамфри Уэллвуда упал на Флориана.
– Флориан, а ты кем хочешь быть?
– Лисой, – ответил Флориан, нимало не колеблясь. – Лисой и жить в норе, в лесу.
3
Девушка (нем.).