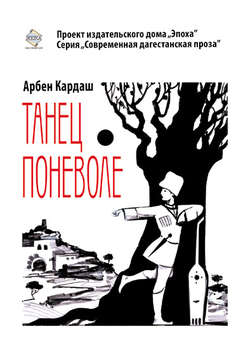Читать книгу Танец поневоле - Арбен Кардаш - Страница 1
Повесть и рассказы
Пастух и орёл
Повесть
Оглавление– Папа, почему наша речка называется Большой рекой? Не такая уж она большая, а сливаясь с Самуром, и вовсе исчезает.
Непонятно, каким образом моему десятилетнему сыну, в последний раз побывавшему вместе со мной в селе, на нашей речке год назад, вспомнилась Большая река. Однако его вопрос напомнил мне о деревянном чемодане.
– Лезгины говорят: свое надо самому возвеличивать. Наши односельчане следуют этой поговорке, – вот первое, что мне пришло в голову в ответ: – Давай, спустимся в гараж, помоги мне навести там порядок, а я покажу тебе кое-что из моего деревянного чемодана. – Я попытался придать нашему разговору оттенок таинственности и тем самым соблазнить сына.
– А кто не знает, что хранится в твоем чемодане? Старые тетрадки, всякие бумаги… – Сын не поддался на мою уловку и, чтобы ответ прозвучал весомее, добавил: – Ты что, хочешь чемодан, набитый запыленным бумажным хламом, притащить домой? Мама рассердится.
– Мама сегодня дежурит… Пока вернется наш доктор, мы не оставим дома ни пылинки… Пошли, пошли! Я не обязан за так отвечать на твои вопросы! – попробовал я подделаться под дух подрастающего поколения.
Мои слова возымели действие.
В гараже царила неразбериха. В середине стояла машина с вывороченным для ремонта нутром, оставшееся пространство было завалено отслужившим свое старьем, уже бесполезным в хозяйстве, но на всякий случай не выброшенным: а вдруг на что-то понадобится. Не пустовали и полки вдоль стен. Теснота в гараже от нагромождения говорила и о тесноте в доме.
Деревянный чемодан находился на самой верхней полке у задней стенки. Чтобы добраться до него, надо было разобрать вещи, наваленные на пол, и освободить проход.
– Бери что тебе по силам и расставь по полкам там, где пусто, а со всем тяжелым я сам управлюсь, – сказал я сыну.
В конце концов проход освободился. Опуская чемодан на пол, я почувствовал, что он стал тяжелее с того раза, когда поднимал его на полку. «Наверное, оттого, что с годами человек больше ценит все оставшееся от своей прошлой жизни», – подумал я.
Действительно, этот черный чемодан был дорогим памятником. Со слов бабушки, я знал, что его привез, возвращаясь с войны, дедушка Камал. Однако дедушка про чемодан мне ничего не рассказывал, я его не расспрашивал. Дедушке с бабушкой, должно быть, чемодан напоминал давно минувшую войну, заставляя ныть старые раны, а потому я не находил нужным говорить о нем. С детства я знавал чемодан, хранящийся в специальной холодной комнате вместе с запасами съестного, всевозможной посудой, всем тем, чем редко пользовались или не пользовались вовсе.
Холодная комната использовалась как и мой гараж, однако бабушкой в ней неукоснительно соблюдался порядок. Там хранились предметы обихода, даже названия которых забыты нынешней молодежью: два глинобитных ларя для хранения муки и зерна, три тростниковых короба разного объема для хранения расчесанной шерсти, гребень, которым расчесывают шерсть, ручная мельница, прялка, три кутала[1], сплетенных из ивовых прутьев (в них тоже хранили шерсть или шерстяную пряжу), несколько надутых пустых бурдюков, подвешенных на гвоздях по стене, куски вяленого мяса, нанизанные на длинную палку, своими концами вдетую в проволочные кольца, свисающие на проволоке из-под потолочных балок, большие медные казаны, глиняные кувшины, расставленные на полочках стенных ниш, кастрюля из обожженной глины для приготовления тача[2], медный подойник, глиняная маслобойка, даже семи– и восьмилитровые бутылки, оставшиеся с царских времен. У стены, на деревянном топчане, обычно стопой лежали овчины, а под ними – шкуры.
Полку единственного, не очень широкого и не очень высокого окна холодной комнаты занимал деревянный чемодан, а над ним – старый газер-паша[3]. Когда умерла моя мама, в холодную комнату перекочевал и ковроткацкий станок и рег[4] для уплотнения ткущегося ковра. Был у нас дома и большой винный рог, который называли рогом тамады. На застолье, где дедушке предстояло быть тамадой, он брал его с собой. Этот рог не хранился в холодной комнате, так как относился к тем предметам, которые всегда были в ходу, и потому дедушка вешал его на ковре в гостиной.
Словом, холодная комната являлась хранилищем всего того, у чего истек или истекал срок жизни или он должен был истечь (скажем, у запасов съестного). Из всего прочего лишь деревянному чемодану суждено было продление жизни.
Ещё малышом дошкольного возраста я «положил» глаз и на этот чемодан, причиной чему послужил подарок дедушки. От нахлынувшей радости я не знал, где хранить игрушечную машинку, которой не было ни у кого из детворы по соседству. Тогда и вспомнился деревянный чемодан: я притащил его в свою комнату и положил в него машину, альчики и другие мелочи, без которых не обходилось в играх.
А перейдя в старшие классы, все это «богатство» я раздал соседним малышам. Однако чемодан не оставался пустым: теперь в нем хранились тетрадки с моими стихами и рассказами, во мне созрело желание написать столько стихов, чтобы они заполнили весь чемодан. Все написанное складывалось в него. И только я знал о его содержимом. Пожалуй, ещё и бабушка догадывалась.
Поступив в институт, через год я приехал в село на каникулы, открыл чемодан, все просмотрел и застыдился перед самим собой: ничего глупее и слабее я в жизни не читал. «Неужели все это я написал?» – спросил я самого себя. Взял чемодан и пошел в сад перед нашим домом. Вырыл яму и разжег в ней костер, начал брать из чемодана по тетрадке и бросать в огонь, разрывая листы и получая большое удовлетворение.
Бабушка, увидев, чем я занимаюсь, ахнула:
– Вай, дите мое! Что ты делаешь?! Разве не жалко? Разве можно предавать огню написанное бессонными ночами? – Она подошла и забрала чемодан.
– Бабушка, все это – слабые вещи, никуда не годные.
– И слабые вещи имеют свою цену… Они тоже жить хотят… Пройдут годы, и ты пожалеешь, что сжег их. Вот увидишь… Пусть останутся там, где они и были: есть не просят, пить – тоже. Вот когда я умру, тогда и поступай с ними по своему усмотрению.
Годы прошли. Я забыл про чемодан и о его содержимом.
Однако права оказалась бабушка. Когда она умерла, я открыл чемодан и пожалел о том, что успел сжечь: мучаюсь, что я сжег часть своего детства. А если что и осталось, так в этом чемодане. Оказалось, что содержимое чемодана обогатилось. Бабушка сложила туда мои школьные тетради разных лет, классные дневники и письма, отправленные мной матери, бабушке и дедушке во время учебы в институте. Тогда я не успел перебрать все, что находилось в чемодане, и привез его в город в надежде, что как-нибудь найду время возложить надежды на завтрашний день: я так и не открыл чемодан, водворенный на полку в гараже.
Сегодня же сын задал свой вопрос как нельзя кстати: дал мне повод заняться чемоданом, и время для этого у меня имелось. Я предполагал, что ответ на вопрос сына я найду именно в чемодане.
Мы подняли чемодан к себе на четвертый этаж.
Почему наша речка называется Большой рекой? Я помнил, что некогда вопрошал об этом и самого себя. Даже стихотворение написал. Вот только сохранилось ли оно в чемодане? Вытерев пыль, я открыл его. Заструился запах бумаги, пролежавшей долгое время. Сын, словно в ожидании чуда, стоял и наблюдал за мной.
– Вот, смотри, – передал я ему стопку своих классных дневников, тетрадей по математике, русскому языку и другим предметам. – Я не был таким лоботрясом, как ты.
Я искал стихотворение. Листал тетради и пробегал глазами по строкам.
А сын неохотно переворачивал страницы старых классных дневников:
– Ну и что?
– Погляди на оценки, на оценки погляди! – Я как будто превратился в мальчишку его возраста. Радовался когда-то полученным мною хорошим отметкам. Мне казалось, что они и сына подвигнут к более прилежной учебе. Однако сын жил своей жизнью, у него было свое детство, а в моем прошлом он ничего необычного не видел.
– Теперь программы сложные, да ещё в городских школах. Мои тройки стоят больше, чем пятерки, полученные тобой в сельской школе, – ответил сын, оставив мои тетради и дневники, намекая на свое превосходство горожанина над моим сельским происхождением. – Ты же не сумел вчера решить мне задачу, – с хитрецой в глазах посмотрел он на меня.
– Эврика! Нашел! – обрадовался я, заодно и возможности оставить без внимания последнее замечание сына. – Вот стихи. О Большой реке. Когда я их написал, мне было четырнадцать лет, – повернулся я к нему. – Этим стихам ровно двадцать пять лет!
– Из-за них ты и рылся в запыленном чемодане? – Сын никак не желал оценить мои старания.
– Вот, смотри. Вопрос, который ты задал мне, когда-то я задавал и самому себе. Послушай. «Большая река»:
Речка-невеличка,
Крутящиеся струи,
Почему же, почему
Большой тебя назвали?
Сольешься с Самуром,
Потеряешь себя, потеряешь.
Речка ты, невеличка,
Перестань бесноваться.
За дерзость твою
Тебя прозвали Большой.
– Ого! – Сын не остался равнодушным. – И ты их написал? В детстве?
– Да. Тебе понравились?
– Неплохие стихи… Ведь я думал так же, как и ты… Воды мало, а несется среди скал и обрывов с яростным шумом, грохочет на всю долину. Вот люди и назвали её Большой. – Сын вдохновился, словно сделал открытие. А может быть, его порадовало то, что мысли моего детства и ему пришли в голову. Почему-то это понравилось и мне. Вспорхнула мысль: «Мой сын – это я сам в детстве, и это стихотворение, что я держу в руке, как будто только что написано им…»
– Папа, можно я выйду на улицу? – Голос сына вернул меня к действительности. Он нашел ответ на свой вопрос и больше ничего не ожидал от моего деревянного чемодана.
– Иди. Не уходи далеко со двора. Потом поможешь мне отнести чемодан на место.
Последние слова я произнес, чтобы дать сыну почувствовать, что он мне нужен. Это было одним из уроков, полученных мною в детстве. Об этом мне тоже напомнил чемодан. Бабушка с дедушкой или другие взрослые односельчане давали понять каждому из детей необходимость, даже важность его пребывания в этой жизни. «Имей в виду, – бывало, говорил дедушка, – завтра в верхнем магале[5] состоится свадьба такого-то, куда и ты должен сходить. Мы близкие родичи, пусть потом не говорят, что не пришли, не признали их. Если сумеешь, и потанцуй. Мои танцы уже не те, а на свадьбе надо по-иному, чтобы в крови огонь зажёгся!» Дедушка совал мне в кулак металлический рубль с изображением профиля Ленина – чтобы я смог отдарить девочку, которая выйдет со мной танцевать. «Разок потанцуй и за меня, – говорил наш сосед дядя Шах-Буба. Если у него оказывались деньги, он тоже давал мне рубль, а если денег не было, добавлял: – В долг. Отдам с получки». На свадьбы я ходил, если даже их играли не у родственников, и танцевал: после подобных слов взрослых у меня вырастали крылья, я и сам чувствовал себя, как мужчина.
Воспитательное значение имело и то, что бабушка сохранила чемодан с моими принадлежностями. Знала ведь: когда-нибудь я, возмужав, захочу вернуться в свое детство, в своей взрослой жизни мне придется обратиться к урокам, полученным в детстве, ибо уроки детства мы начинаем осваивать, лишь повзрослев… Задумавшись, я перебираю бумаги из чемодана, те, что просмотрел, откладываю в сторону. А это что за конверт? Вроде знакомый. И нераспечатанный. Вах![6] Это же письмо, которое я написал по просьбе дяди Шах-Бубы! Слова «Адресат по этому адресу не проживает» на конверте тоже выведены знакомым почерком. Без сомнения, это почерк Севзихана, сына дяди Шах-Бубы.
Холодная дрожь пробежала по моей спине. Я вскрыл конверт, который когда-то давным-давно сам запечатал и опустил в почтовый ящик, и вынул письмо.
«Дорогой сын мой Севзихан! Прежде всего прими мои благопожелания тебе, чистые, как ветерок с нашего Шалбуз-дага. Не обижайся, сын мой, что пишу вдогонку, после твоего недавнего пребывания в селе. Тогда не сумели толком поговорить, да и ты не пожелал выслушать меня. Конечно, ты был недоволен тем, что я послал тебе телеграмму от имени дяди Камала. И ты в этом прав. Но что мне оставалось делать, сын мой? Прости меня, так уж получилось. Я послал тебе телеграмму, не зная, куда деться от одиночества, когда сердцу стало темно в этом мире, когда дошел до последнего предела. Не знаю, почему ты не хочешь побывать в моей шкуре, попытаться понять мою душу. Разве ты не из этого села, сын мой?
У меня одно слово, милый мой сын: я хочу, чтобы ты насовсем переехал в село и позаботился о наследии предков. Мне жить осталось – с птичий век. Сегодня еще дышу, завтра меня уже не будет. Привези свою семью. Я жду не дождусь своих внуков. До сего дня ты их мне не показал и на этот раз приехал без них. После телеграммы я надеялся, что ты приедешь вместе с ними. И имена у них такие, что никак не запомнишь. А как бы им подошли имена дедушки и их покойной бабушки! Разве мало у нас хороших старинных лезгинских имен? Дети лезгина должны носить лезгинские имена. В районе мы найдем тебе работу, и жена твоя не останется без дела. Только не будь у нее под каблуком, будь мужчиной, имей лезгинский дух. Куда иголка, туда и нить тянется. Не будет так, дела примут другой оборот. Пусть она приедет, уговори ее, убеди. Я приму её как родную дочь. Научим её нашим обычаям, нашему языку. Ты и сам не представляешь, как прекрасен наш язык. Поговори хоть раз на языке твоей матери с Шалбуз-дагом, с Большой рекой, с ключами и водопадами Красной горы, лишь тогда почувствуешь всю сладость нашего языка.
Ты помнишь учившую тебя в нашей школе Тоню-учительницу, Антонину Николаевну? Приехала вместе с мужем, нашим односельчанином Агаси, работала в селе, родила и вырастила восьмерых детей, и лезгинским языком овладела, и обычаи наши переняла, в полуобвалившийся дом отца Агаси вдохнула жизнь, обзавелась крепким хозяйством. Великая женщина, честь и хвала ей! Приведи её в пример своей жене, расскажи о ней. Может быть, снизойдет до нее, стукнет в голову…
Говорят ведь, не послушаешься старшего – попадешь в большую беду. Как бы тебе потом не пожалеть. А про все остальное я тебе говорил. Не позорь меня перед народом, сын мой. Оставь мне возможность с открытом лицом появляться на киме[7].
Ты думаешь, я пасу колхозных бычков потому, чтобы не помереть с голоду? Нет! Мне совестно, что дом мой пустует. У всех дома детский гомон, жизнь течет. А я уподобился одинокой сове, сын! Как бы твое сердце ни остыло к нашей стороне, привези хотя бы одного моего внука. И я не так буду тосковать, и он вырастет нашим, местным, человеком, станет хозяином нашего пустующего дома, наследником. Я словно тот орел со сломанными крыльями, которого ты видел у нас под навесом. У орла в сердце небо, а у меня в сердце ты, сын. Если для тебя и я, и отчий дом, и село ничего не значат, приезжай, по древнему обычаю сбрось меня с какой-нибудь скалы и отправляйся восвояси. И могиле своей матери скажи: «Забудь меня!» Больше ничего я тебе не скажу.
Написать это письмо мне помог Кудрат.
Хочу немного добавить. Только ты не обижайся. После нашего застолья, когда мы с дядей Камалом вернулись домой, он оставил рог тамады на столе на террасе. Утром его там не нашли. Чист ли на руку таксист, что привез тебя? Из наших односельчан никто бы не позарился на этот рог. Это большое горе для моего соседа, и я опозорился перед ним. Хранившийся веками, рог пропал из нашего дома, сын мой…
С наилучшими пожеланиями!
Я написал, потеряв покой и терпение, сам обмозгуй на досуге и не спеша.
Твой отец Шах-Буба».
Письмо потрясло меня по нескольким причинам. Во-первых, своим содержанием. Во-вторых, тем, что Севзихан на конверте письма, посланного ему вдогонку, даже не вскрыв его, надписал: «Адресат по этому адресу не проживает» – и отправил письмо обратно. В-третьих, что бабушка никому и словом не обмолвилась о вернувшемся обратно письме и через годы положила его в мой чемодан…
И это, по-моему, был один из уроков бабушки…
Может быть, она хотела, чтобы я когда-нибудь так неожиданно вспомнил дядю Шах-Бубу и его судьбу, чтобы вернулся в свое детство, в родное село, в родной дом и был им предан. Сейчас мне казалось, будто дедушка, бабушка, дядя Шах-Буба (царствие небесное всем троим!) пришли ко мне домой, будто они втроем сидят у меня в кухне, пьют чай и беседуют…
– Эй, Гюзель, старушка, – бывало, обращался дядя Шах-Буба к моей бабушке, – я завтра ухожу на архаш[8]. Ты не собираешься разводить огонь в харе[9]?
Бабушка понимала с полуслова: дядя Шах-Буба хочет, чтобы она испекла для него хлеба.
– Если ты хочешь, разведу огонь, – отвечала она с нашего двора.
Дядя Шах-Буба приносил бабушке муку.
– Да сгинут и старость, и одиночество, – говорил он при этом.
– Да сгинет одинокая старость. – Бабушка по-своему поправляла слова соседа и добавляла: – Эй, Шах-Буба, почему не приведешь себе хозяйку? Ей-богу, не так угнетали бы тебя старость и одиночество.
– Эх, Гюзель, старуха, – вздыхал дядя Шах-Буба. – Ну, приведу я хозяйку, но сколько мне осталось жить – с птичий век. И хозяйка, как сова, останется в одиночестве. Вот чего я боюсь…
– Сабур[10] – хорошее дело. Да воздаст Аллах тебе по сердцу твоему. – Бабушка, наверное очень хорошо понимала его.
– Что-то не видно дядюшки Камала?
– Он на киме, – ответствовала бабушка и обращалась ко мне: – Иди, сыночек, принеси дяде кюсри[11].
Я поднимался на балкон за кюсри, а про себя замечал: каждый раз, когда дядя Шах-Буба приходит к бабушке с мукой, они заводят одни и те же разговоры, только в разной форме. Мне казалось, что новые слова придавали их старому разговору иную окраску, иной вкус, бабушка и дядя Шах-Буба таким образом дополняли и для себя уточняли свои постоянные мысли. Как я заметил, эти два человека, повидавшие мир и всякие невзгоды, облегчали себе жизнь чудесами словес.
Я приносил кюсри. Дядя Шах-Буба, как всегда, садился у входа в помещение, где топился хар. Я знал, что он скажет, когда я появлюсь с кюсри, эти слова почти всегда были одни и те же:
– Вай, маншалла[12], мой мужественный сын! Хвала тебе! Твой кюсри хоть и деревянный, но мягче трона иранского шаха.
Однажды я, лукавя, спросил у него:
– А откуда ты знаешь, что шахский трон – мягкий?
– Ей-богу, мужественный ты парень! – воскликнул он. Потом снял с головы свою лохматую папаху, положил ее на кюсри, сел на нее и добавил: – Не знаю, правда ли мягок шахский трон, но я уверен, что у шаха нет папахи, подобной моей.
После этого дядя Шах-Буба гладил свою голову с редкими седыми волосами, из внутреннего кармана ватника, накинутого на плечи, вынимал кипу четвертушек газетной бумаги, стянутых тонкой резинкой. Выбрав одну, остальные прятал в нагрудный карман, из другого кармана вынимал кисет с табаком и сворачивал самокрутку. Доставал из кармана брюк коробок спичек, прикурив, перекидывал ногу на ногу и начинал дымить. Видно было, что скручивание цигарки, а затем выдыхание кольцами дыма доставляет ему огромное наслаждение. Шаламы[13] на его ногах подходили к его брюкам галифе, так как брючины были удобны для обмоток.
В селе больше я ни на ком не видел шаламов, носить такую обувь уже не было в обычае, даже шаламы моего дедушки, скореженные, лежали в углу холодной комнаты. Но дяде Шах-Бубе, может быть, было удобно в них ходить по горам за стадом колхозных бычков…
– За твое кюсри я подарю тебе бычка, – как-то сказал мне дядя Шах-Буба.
– Как ты мне подаришь колхозного бычка?
– Для такого друга, как ты, если даже колхоз не пожертвует, я найду бычка.
Я знал, почему так говорит дядя Шах-Буба. Прошло немногим меньше года, как умерла моя мама. Он понимал, что сердце у меня еще болит, и хотел подбодрить меня, показать, что он ко мне расположен. Только впоследствии я понял, что от его обещания колхозному хозяйству никакого вреда не было…
Везде – на земле и на небесах – весна входила в свои права. Каждый листочек, каждая былинка, каждый цветочек, каждая поющая птичка, весь люд, и белоснежное облачко на синем небосклоне, и льды на вершинах Шалбуздага и Красной горы, и окрепший, гремящий шум Большой реки – все включалось в праздник весенних дней.
Я привык просыпаться под птичье пение. «Кто видит приход весны, как и восход солнца, много-много раз, тот будет счастливым», – говорила бабушка. Я еще не понимал, из чего слагается счастье, и потому, в жажде счастья, поднимался рано. И бабушка, и дедушка, сколько я помнил, всегда вставали с первой утренней зорькой, и мне казалось, что счастливее их никого нет. На них походили и остальные престарелые односельчане. Выгнав скотину в стадо, женщины принимались мести двор и улицу перед домом, потом занимались уборкой дома. Мужчины находили себе дело в саду и в огороде, подправляли изгороди, ремонтировали всевозможные инструменты и орудия. В утреннюю пору люди обменивались благопожеланиями, и получалось, что подбадривали и поддерживали друг друга. Весной все эти явления приобретали какую-то особую силу, по-особому влияли на душу, точно наступившей в природе прекрасной поре именно открытые и добрые людские взаимоотношения придавали особый аромат, звучание и окраску. И я понимал, что среди этих людей я тоже имею свое место, тоже счастлив вместе с ними, хотя весеннее солнце я встречал еще не так много раз, как они.
Я рано вставал, чтобы усилить свое чувство счастья, но для этого была еще одна причина – соседка Халиса, дочь тетушки Шамсият. Она тоже привыкла вставать рано. Каждое утро она шла к роднику за водой. Мне необходимо было видеть, как она идет за водой и возвращается с полным кувшином. В эти минуты я отчетливо понимал, из чего слагается счастье.
В одно такое воскресное утро, когда все голоса и звуки так прелестно гармонировали друг с другом, когда жизнь, как цветок, распускалась на земле и на небесах, когда не было ничего, чего бы не хватало или недоставало, когда птицы еще не угомонились после утреннего своего пробуждения, когда Халиса еще не сходила за водой, в дальнем конце нашего двора раздались выкрики дяди Хелефа, напарника дяди Шах-Бубы, пасшего вместе с ним бычков, нарушившие очарование весны.
– Гей, парень! Кудрат! – От его голоса, показалось, задребезжали стекла в окнах нашего дома. Таким голосом не человека зовут, а грозят быку, когда он, оставив стадо, с ревом устремляется к появившейся вдали телке. – Весь закис от сна! Вставай!
Бабушка пошла за водой, дедушка находился на утреннем сборе мужчин на киме. А я в задней части террасы ожидал, когда же брызнут из-за вершины горы Келет густые потоки первых лучей. Дядя Хелеф меня не видел и думал, что я все еще в постели. И язычок же был у дяди Хелефа! Я знал, что надо ответить, пока он не разойдется по-настоящему, иначе выкинет что-нибудь такое, от чего все очарование весны растает, как дым, пожалуй, и солнце, так ласково восходящее, обратится вспять.
– Я уже встал, дядя Хелеф! – Я прошел к перилам террасы, при этом недоумевая, почему он зовет не старших, а меня. – Что случилось?
Увидев меня одетым и бодрым, дядя Хелеф, должно быть, подумал, что он сам еще не проснулся.
– Вах! Неужели это ты?
– Да, это я.
– Трусы хоть успел натянуть? – Дядя Хелеф воспользовался тем, что перила террасы закрывали меня ниже пояса. Он не может не дать волю языку.
– Натянул! – Я поднялся на перила. – Показать, что ли? – Тут нельзя было давать слабинку.
– Свои трусы, если сможешь, покажи дочери Шамсият.
– Ты же спрашивал… – Я спустился с перил. На сердце у меня потяжелело: еще не хватало, чтобы в грубую шутку дяди Хелефа вплелось имя Халисы. О моих чувствах он не догадывался, но такой уж был характер: что придет на язык, то и ляпнет. Нельзя было показывать, что меня задело, а то дядя Хелеф это сразу почувствует и еще что-нибудь выкинет. – Для чего девочке мои трусы? – добавил я вместо того, чтобы попридержать язык за зубами.
– Как для чего? А для того, чтобы узнать, есть что-нибудь в трусах или нет! – На этот раз от хохота дяди Хелефа стекла наших окон действительно задребезжали.
– Доброе утро, Хелеф! – появилась бабушка с полным кувшином.
– Добр… доброе хи… Хи-хи! Ха-ха-ха! – Дядя Хелеф не мог остановиться. Кажется, бабушка догадалась, над кем мог смеяться дядя Хелеф, и без лишних слов приказывающим тоном сказала:
– Иди, парень, принеси ковшик, а то он сгорит от смеха. – В голосе бабушки прозвучало недовольство мной, так как я пустился в разговоры с дядей Хелефом и дал ему повод подшутить над собой.
Пока я бегал за ковшиком, Халиса пошла за водой, я только успел заметить, как мелькнул ее кувшин.
Бабушка налила в ковшик воду и протянула дяде Хелефу.
– На, пей! Иначе я налью тебе на голову! – Бабушка знала, как с ним говорить. Дать бы ему ковшиком по голове, было бы лучше, подумал я, раздосадованный тем, что не увидел Халису.
– Доброе утро! – Дядя Хелеф наконец перестал смеяться и ответил на приветствие бабушки. Затем он, взяв ковшик, отпил глоток и вернул посуду бабушке.
– Что за сумасшедший смех? Не приведи Господь, если насмехаешься над моим внуком, а то ковшик в моих руках наготове!..
– Нет, бабушка, дядя Хелеф смеется над собственными байками, – кольнул я дядю Хелефа и в то же время показал, что его шутки меня не трогают. Кроме того, я понимал, что бабушка не пустит ковшик в ход, она и без того умела его усмирить, а дядя Хелеф имел привычку остерегаться женщин.
– Шах-Буба наказал мне вернуться на архаш вместе с Кудратом, чтобы он поел бутени[14]. Хороша бутень в нынешнем году!
– Чтобы я отправила вместе с тобой своего внука?!
– А что, на мне растут рога, что ли?
– Язык у тебя без костей!
– Милая старшая сестра, лопну же, если держать язык за зубами! Как мне быть? Таким уж меня Господь создал. Да буду я его жертвой. Через две сотни лет…
– Хоть бы Господа не упоминал, чтоб град на твою голову!
– Бабушка, давай я пойду! Иначе дядя Шах-Буба обидится, – сказал я.
– Шах-Буба хотел, чтобы Кудрат помог ему вскопать огород старухи Тенфе.
– Это другой разговор, – смягчилась бабушка. Теперь её голос подбодрил меня. – Как чувствует себя Тенфе? Жива еще? Когда ее внук вернется из армии?
– Старуха чувствует себя неплохо. Сидит у стены и греется на солнце, присматривая за своими козлятами. И внук должен вернуться этой весной… – Дядя Хелеф заговорил добрым языком. – Вы с Тенфе ровесницы?
– Нет же, брат. Когда ее выдавали замуж, я была маленькой девочкой… – Бабушка обернулась ко мне: – Готовься, сынок. Сходи, помоги чем-нибудь бабушке Тенфе. Одинокая старуха. Тебе зачтется доброе дело.
Старушку Тенфе я знал хорошо. Пока могла, она нет-нет да и появлялась в нашем доме. Ее муж Антер, объездчик обширных угодий на той стороне Большой реки, и дедушка были приятелями. Дом старого Антера одиноко стоял среди лугов. Когда он состарился и уже не мог вскочить на коня, чуть коснувшись ногой стремени, объездчиком стал его сын дядя Ахмед. Но он упал в реку и утонул, после чего бабушку и старуху Тенфе сблизило одинаковое горе: у одной дочь, то есть моя мама, у другой сын – оба еще молодыми ушли из этого мира. Горе придавало им больше терпения, печальная доля одной словно успокаивала другую в ее такой же доле. Теперь не стало и дедушки Антера. После его смерти бабушка и старушка Тенфе не виделись. Они не могли преодолевать неблизкую дорогу. Бабушку, по-видимому, обрадовал повод послать меня помогать старухе Тенфе. Она вынесла и сунула в карман моей курточки два желтых лимона:
– Отдай старушке Тенфе.
Такой вот своеобразный обычай – посылать пожилым людям не растущие у нас редкостные фрукты, этим самым свидетельствуя особую любовь и почитание к тем, в ком видели своего ближнего.
– А для меня разве нет доли? – спросил дядя Хелеф.
– Я же отдала тебе твою долю.
– Чем же?
– Холодной свежей водой!
«Умница, бабушка!» – похвалил я ее про себя и чуть не подпрыгнул от радости: значит, сегодня я впервые увижу склоны Красной горы, альпийские луга по правому берегу Большой реки! И другая причина удваивала мою радость: по пути я встречусь с возвращающейся с родника Халисой! Да еще с полным кувшином, что считается хорошим предзнаменованием. Все дела и события сегодняшнего дня будут добрыми!
– Смотри, чтобы мой внук сегодня же вернулся обратно. Ему завтра в школу, – напутствовала нас бабушка.
– Ладно, будет по-твоему. Твоего внука приведет сам Шах-Буба. – Он знал, что дядя Шах-Буба сегодня должен вернуться в село.
– Потом не говори, что я не предупреждала! – добавила бабушка. – Будьте осторожны, проходя по мосту.
– Есть, товарищ генерал! – Дядя Хелеф взял под козырек, вытянулся в струнку и отчеканил несколько шагов.
Его армейская шапка, обретшая неопределенный цвет от пребывания то под палящим солнцем, то под снегом и дождем, уже мало чем напоминала собственно шапку. Чуть приметный след на околыше указывал на то, что некогда там горела красная звезда. Если даже нацепить ее обратно, к его бушлату пришить погоны, там, где они также некогда были, заменить залатанные на коленях брюки (тоже армейские) на другие, более подходящие, а сапоги с отвернутыми голенищами, затвердевшие и в глубоких складках снизу доверху, с каблуками, стертыми правый на правую, а левый на левую сторону, почистить и хорошо смазать, а палку в его руках заменить на ружье или автомат, едва ли дядя Хелеф походил на бравого солдата, остался бы тем, кем являлся.
Таким он, дядя Хелеф, был всегда. Жизнелюбом. И не только от весны передавались ему бодрость и неиссякаемый задор. Зимой и летом он пребывал в отменном расположении духа. Пока не вышли из села, ни одного односельчанина, встретившегося нам, он не отпустил без шуток, при этом не слишком заботясь о том, уместны ли они. Ответы односельчан он пропускал мимо ушей, заглушая их хохотом, подобным грохоту обвала в горах. И никто на него не обижался, так как привыкли к его шутовским выходкам. В селе говорили: умрет Хелеф, и даже из его могилы будет раздаваться смех.
Я шагал и мечтал о встрече с Халисой. Так хотелось заглянуть в ее голубые глаза! Каждый раз, видя эти глаза, я чувствовал, как у меня в груди какие-то птицы взмахивали легкими крыльями. И я желал жить и жить, сильнее любить Халису… Однако Халисы не было, хотя давно уже пошла за водой. Жаль, что дорога шла не мимо родника. Магал с родником остался позади. «Все девочки одинаковы, – подумал я. – Наполнят кувшины и часа три будут болтать». Несколько раз я оборачивался и смотрел назад. Нет. Халисы так и не было. Я прибавил шагу.
Дядя Хелеф начал бодро насвистывать.
Когда дошли до моста на Большой реке, прозванного людьми Сиратом[15], неожиданно дядя Хелеф совершенно преобразился. Если бы не увидел своими глазами, я бы этому не поверил. В глазах исчезло выражение плутоватости, даже морщинки у глаз, придающие ему облик хитреца, разгладились.
– Вот с этого моста, друг мой Кудрат, и сорвался сын старухи Тенфе. Объездчик Ахмед… – Он посмотрел на реку, неистово переворачивающую валуны, на бегущий стремительный поток мутной воды. Мы стояли по эту сторону моста. – Хороший был человек, сукин сын. Упокой Господь его душу.
Я знал, что каждую весну Большая река начинает выходить из себя. Но здесь у моста, в узком ущелье, бешенство ревущего потока, неудержимый напор, с каким вода проглатывала и уносила все, что в ней оказывалось, увеличивались в несколько раз. Чтобы слышать друг друга, нам приходилось кричать.
Нельзя было смотреть на реку долго.
Я знал, что не надо делать: человека, потерявшего осторожность, притянет вода, и он может упасть в реку. Вспомнив про это, я спросил у дяди Хелефа:
– А как упал в реку дядя Ахмед? Притянула вода? – Мне пришлось закричать приблизив рот к его уху.
– Нет, парень! – прокричал дядя Хелеф мне на ухо. Меня подбадривало то, что он говорил со мной как со взрослым. – Вода не могла его притянуть. Здесь он никогда не проезжал с открытыми глазами.
Смысл последних слов до меня не дошел, о чем догадался дядя Хелеф.
– Он выпивал. Шибко выпивал. Когда бы ни проезжал этот мост на своей лошади, он бывал мертвецки пьян. И спал. На лошади. Если бы не лошадь, пожалуй, он еще раньше стал бы жертвой реки.
– Он же упал в реку из-за лошади? – Я припомнил что-то из разговоров дедушки с бабушкой.
– Ну да, это так, но бедное животное не было виновато… Животные никогда не виноваты, всегда виноваты люди… Ты видишь этот мост? – Дядя Хелеф точно не решался ступить на мост и хотел сообщить мне что-то важное. – Видишь, деревянные балки поддерживают настил из ветвей с насыпанным сверху грунтом? – Он кричал все громче. – В ширину не достигает даже полутора метров. Под ногами людей, под копытами скотины, постоянно снующей в ту и в другую сторону по дрожащему мосту, грунт сыпался сквозь подложенные ветви, и его слой редел и уменьшался… А в тот день еще пошел дождь, и грунт пропитался водой. Ахмед не смотрел, дождь ли пошел, снег ли… Задняя нога лошади, как в масло, вошла в размякший грунт и прорвала тонкий настил из ветвей… – Дядя Хелеф замолчал. И ступил на мост.
Медленно, чтобы мост не очень дрожал, мы двинулись вперед. Однако мост все равно трясся, и казалось, не столько от наших осторожных шагов, сколько от напора бунтующего потока. Ничего другого тут не требовалось, кроме как быть внимательным и осторожным. Дядя Хелеф об этом, пожалуй, не очень заботился, так как привык, но у меня, казалось, дрожь, передаваясь от моста, не только продолжалась в жилах ног, но пробирала аж до мозга костей. Перейдя мост, мы взошли по крутому береговому откосу и оказались на зеленой луговине. Она была небольшая. Зато выше, к Красной горе, и по обе стороны от нас виднелись зеленые холмы, небольшие овраги, а еще выше – альпийские луга, рощицы на склонах, кустарниковые заросли. Виднелся и дом бабушки Тенфе. Но сначала нам надо было попасть на архаш.
– Давай-ка, передохнем, – предложил дядя Хелеф, наверное, ему нелегко давалось преодолевать крутой склон. Он вынул из кармана и закурил «Приму». Казалось, он ушел в свои мысли.
Я ждал от него окончания рассказа.
– А что стало с лошадью, дядя Хелеф?
– С какой лошадью? – не сразу понял он.
– С лошадью дяди Ахмеда?
– А-а-а… Ведь я не докончил рассказ. – Он раз за разом втянул в себя дым и продолжил: – В тот день мне надо было вернуться в село. Когда поднялся на этот холм, на мосту я увидел лошадь. И сразу понял: я кинулся к мосту. Лошадь, откинув в сторону передние ноги, склонив голову, плакала; из ее глаз градинками текли слезы. Задняя нога несчастного животного, застряла между двумя толстыми бревнами, а другая была неудобно подогнута и задавлена тяжелым туловищем. Как я понял, она пыталась высвободить свою ногу, рвалась и, обессилев, теперь лежала, расположив свободные передние ноги на мокром грунте, опустив голову. Возможно, когда от ее метаний мост задрожал и зашатался, она испугалась и перестала двигаться. Наверное, почувствовала, что не стоит состязаться с судьбой. У бедняжки телесная боль смешалась с душевной. Я с трудом высвободил ее ногу, она была переломана. На другую заднюю ногу она тоже не могла ступить И вся она одеревенела. Я поспешил обратно на архаш, и мы вернулись на мост вместе с Шах-Бубой. Мы подложили под лошадь бурку и на ней оттащили животное. Затем сообщили о несчастье дядюшке Антеру и односельчанам. Мужчины все вышли на поиски утопленника. Его нашли далеко от села, где река, широко разлившись, мелеет и успокаивается. Это место названо Запрудой утопленников, потому что там вода уходит в сторону от главного русла и, действительно, образует запруду, где обычно находят унесенных рекой.
– Это я знаю, – сказал я. – А что стало с лошадью?
– После похорон, подавленный горем, дядюшка Антер не стал возиться с лошадью, принес животное в жертву, зарезал и раздал мясо селу. Он был прав: лошадь, у которой погиб хозяин, теряет вкус к жизни, хиреет от горя и в конце концов умирает… – Дядя Хелеф договаривал, точно забывшись, устремив глаза на вершину горы Гетин, что возвышалась вдалеке напротив нас.
– Но почему дядя Ахмед так сильно выпивал?
– Потому что от него ушла жена. Она была из одного равнинного села. Дочь кунака дядюшки Антера. Женили их по любви. Невесту привезли на лошади, как принято было в старину. Год они прожили вместе, родился ребенок. Но потом она заявила, что не желает жить в краю туманов, подобном преисподней. Захотела на равнину, в город. Но Ахмед этого не хотел, сказал: «Здесь я родился, здесь и умру». Уехала, дочь дьявола, оставив неокрепшего ребенка. Да хранит его Аллах, теперь он вырос, служит в армии, скоро вернется. Дядюшка Антер и старуха Тенфе вырастили его на козьем молоке…
От папироски дяди Хелефа почти ничего не оставалось. Завершив разговор, он поднес к губам маленький окурок, зажатый между двумя пальцами, затянулся. Посыпался пепел. Затянув еще разок, он бросил окурок, который еще тонко дымился в зеленой траве. Дядя Хелеф встал и кирзовым сапогом наступил на него. Я тоже встал, чувствуя печаль в сердце. Грусть была и у меня в душе. Устремив на меня взгляд, дядя Хелеф, раскинув обе руки, сказал:
– Эй, милый мой односельчанин! Что-то в глазах твоих заклубились тучи. Смотри, не заплачь! А то неизвестно, сколько ковшей твоя бабушка разобьет о мою голову! Мне моя голова еще нужна… Ну-ка, выше голову, если хочешь, чтобы она была крепкой!
Дядя Хелеф вернулся в свое обычное состояние духа. Это меня рассмешило.
– Вот так! Вот так, милый человек! Не с ослика же ты упал! – приблизившись вплотную, он заглянул мне в глаза. – Вот теперь тучи рассеялись. Посмотри вокруг себя! Наслаждайся этой благодатью! Живи! Только, милый мой, выпив, никогда не садись ни на коня, ни за руль машины. Пьяней без вина! И еще запомни: не приведи невесту со стороны. Придерживайся обычая дедов: невесту выбирай из местных. А потому не упускай ту самую дочь Шамсият. Как ее звали?
– Халиса, – ответил я. В моей груди опять затрепетали птицы.
– Салиха, – проговорил дядя Хелеф. – И имя на нее похожее, красивое.
– Не Салиха, а Халиса, – поправил я.
– Какая разница, как произносить? Лицом ясна, стройна телом, узка в талии. Хорошо обнимать такую, обними обеими руками крепко и не отпускай! – расхохотался дядя Хелеф. – Только вперед, только вверх!
Дядя Хелеф двинулся вверх по узенькой тропинке. Положив палку на плечо, он засвистел. Я последовал за ним.
«Хорошо, что не встретили возвращающуюся с родника Халису, – подумал я. – Кто знает, что бы он еще начудил…»
Благодать была кругом! С правого берега Большой реки я впервые видел нашу долину. С четырех сторон возвышались четыре горы: Шалбуздаг, Гетин, Келет и Красная гора, состоящие из утесов, скал, острых гребней; их соединяли зеленые проходы и поля на склонах; овраги, прорытые потоками, и серые разломы, образованные какими-то природными катаклизмами – все это отсюда, с тропинки, ведущей от реки к Красной горе, виднелось как на ладони и по-другому, для меня по-новому. Из нашего села каждая черта этих вершин мне была хорошо знакома. Если бы меня попросили нарисовать их с закрытыми глазами, я бы это сделал без всякого труда. Однако с видом, открывающимся отсюда, я не был знаком, и моя душа не сразу могла объять эту громадную картину. Но я осознал то, на что раньше не обращал внимания: хотя все горы были почти одинаковой высоты, каждая из них обладала своей неповторимой особенностью. Шалбуздаг состоял из громадных, точно обтесанных, прямоугольных скал, в беспорядке наваленных друг на друга. Вершина Гетин напоминала голову и плечи сказочного великана; кто знает, не изваяние ли это героя Шарвили[16]? Келет был из скальных слоев, разделенных полосами зеленых склонов. Базар-Дюзи из нашего села похожа на треугольную белую башню, её заслоняла Красная гора. Она вытянулась от Базар-Дюзи до горы Келет. Келет и Красную гору разделяла обрывистая лощина, которая называлась Гилх. Дети нашего села называли её по-своему – Откусанным местом. Действительно, было похоже, что когда-то из большой каменной стены, объединяющей две горы, некое сказочное чудище вырвало кусок. Точно определяя границу двух гор и прилегающих к ним угодий, вниз по Откусанному месту, прорыв глубокую теснину, протекал небольшой поток и ниже моста сливался с Большой рекой. Поток разделял также бедный растительный покров покатых склонов в низовьях Келет и изобилие угодий, раскинувшихся у подножия Красной горы вниз до самой Большой реки. На стороне Келет-горы травы было мало, большинство холмов там оставались оголенными, не зеленели даже в весеннюю пору; а угодья Красной горы состояли из зеленых полей и альпийских лугов, отчего там и требовались объездчики. Нетрудно было догадаться, откуда такое изобилие у Красной горы. Ведь она всегда покрыта снегами и льдами, которые дают жизнь потокам и родникам, поящим землю. А на вершине Келет даже снег, выпавший зимой, держится недолго. Может быть, причиной тому служит солнце, которое всегда поднимается из-за этой горы. Келет завидует Красной горе, говорили односельчане, потому она высыхает, превращаясь в голые скалы. А Красная гора остается сама собой, никогда не меняется, и ничто не может превратить ее во что-то другое. Эта гора, из села похожая на длинную и высокую, красную стену крепости, какая бывает только в сказках, с тропинки, по которой мы шли, казалось, вот-вот обрушится на наши головы. Если из села можно было наблюдать за серебристыми льдами на вершине Красной горы (когда из-за Келет всходило солнце и когда оно заходило за Шалбуздаг, льды и струящиеся из-под них потоки сверкали), то отсюда ни вершина горы, ни льды не были видны. Зато потоки, текущие по склону горы, из села похожие на тонкие белые нити, теперь делились на мощные потоки и разбивались о скалы, точно алмазные глыбы, и расходились во все стороны; внизу, у подножия горы, они опять выходили из-под разорванных скал и валунов, стекались в русла, усеянные мелкими белыми камушками и извилистыми ручейками между больших красноватых глыб, отколовшихся от скал и скатившихся далеко вниз по пастбищам, украшая собой луга и сенокосы, наконец, сливались с Большой рекой. Прямо посреди Красной горы, точно его кто-то вырыл, прежде тщательно измерив, находился Орлиный грот, который отсюда смотрелся еще более обширным и глубоким, таящим в себе какую-то опасность. Казалось, что пасть чудища, оставившего Откусанное место, была именно такой; или некое свирепое существо попыталось разрушить крепостную стену, сделать в ней проем, а когда у него ничего не получилось, сбежало… Но едва ли могли существовать чудища, у которых хватило бы сил, чтобы разрушить эти горы, покорить их себе. Иначе они не возвышались бы так горделиво и в то же время умиротворенно, каждая сохраняя свое своеобразие…
В синем, цвета глаз Халисы, без единого белого облачка, небе кругами парил орел…
– Парень, я не просил, чтобы ты так высоко задирал нос! – Дядя Хелеф вернул меня к действительности. – Ты видел когда-нибудь надгробие Шах-Бубы?
– Какое надгробие? – не понял я.
– Если не видел, то смотри. Вот надгробие твоего соседа.
В холмик была воткнута палка, а на ней красовалась папаха. И палка, и папаха принадлежали дяде Шах-Бубе; я догадался, что мы достигли архаша. По зеленому лугу разбрелись бычки. Они щипали траву.
– Ты понимаешь, о чем говорит это надгробие? «Я сплю, меня не трогай». А потому не стучи ногами. – Дядя Хелеф, конечно, шутил, потому что тут захочешь – и то не сумеешь стучать: луговая трава густа и мягка.
Дядя Хелеф привел меня к выстроенной из камней хибаре, которая пряталась за громадным валуном. Сзади к ней примыкал загон с каменной оградой. Черепичную крышу загона поддерживали потемневшие от навоза деревянные опоры.
Черепица, чтобы ее не сорвало ветром, была вразброс придавлена камнями. От загона несло навозным духом.
– Заходи, дорогой гость! – Дядя Хелеф пригласил меня в хибару. – Это наша тавхана[17]. Полюбуйся, как почивают живые шахи и беки!
Дяди Шах-Бубы в хибаре не было. Обстановка внутри была очень скудная. В стенах, кроме той, где находилась дверь, были оставлены маленькие оконца. Лишь одно из них было застекленное, то, что в стене напротив двери. Внизу под пустыми оконцами, на земляном полу, лежало по подушке. Как я догадался, в туман, при похолодании, ими затыкали оконца. На полу была постелена бычья шкура. В одном углу на невысоком обтесанном камне-подставе стояла вымытая посуда, накрытая полотенцем, по виду давно не бывавшем для стирки в женских руках. Рядом примостились покрытые копотью кастрюля и чайник. На застекленном окне находилась и лампа. Другой угол занимали матрасы и одеяла с накинутой на них буркой; поверху лежала книга «Материалы XXV съезда Коммунистической партии Советского Союза». Подумалось: «Неужели они ничего другого не нашли почитать?» Не поверив, что они читают такую скучную книгу, я спросил у дяди Хелефа:
– Вы читаете эту книгу?
– Да.
– Как?!
– А вот так! Аж дым идет…
– Этому обязывают?
– Нет, мы по собственному желанию. – Дядя Хелеф плутовато улыбался, отчего у глаз его показались морщинки. – Министерство здравоохранения хотя и предупреждает о вреде курения, мы поступаем по-своему. – Он положил свою суму на подоконник рядом с керосиновой лампой.
– Больше вам нечего читать? Дома у меня есть интересные книжки…
– Твои книги нам не нужны. Этой пользуемся, когда нет газетной бумаги. Она, конечно, лучше, тоньше, а у этой бумага плотная.
Я пожал плечами, не совсем понимая дядю Хелефа. Опять шутит, что ли?..
Он взял и раскрыл книгу, в которой не хватало многих страниц. Осторожно вырвав один лист, дядя Хелеф бросил книгу обратно на бурку, нарезал бумагу на четвертушки, одну оставил, остальные сунул в карман бушлата; из другого кармана вынул пачку сигарет, разделил папиросу, высыпал табак на четвертушку, свернул самокрутку, послюнявил по краю и повертел в пальцах. Закурил. Выдохнув дым, сказал:
– Вот так мы читаем эту книгу… Аж дым идет… Такая самокрутка с табаком Шах-Бубы в сто раз крепче папирос авчи[18] Прима (так он называл «Приму»). Меня разобрал смех. «Аж дым идет…» И чего это я его сразу не понял… Дядя Хелеф пошел к двери.
– Шах исчез, оставив свое надгробие, а мы тут занимаемся чтением книги… Пошли, поищем его. Старушка Тенфе ждет вас, – сказал он, выходя наружу.
Я тоже вышел из хибары. Не докурив самокрутку, дядя Хелеф бросил ее за стеной хибары на кучу золы между двумя камнями. На склоне горы паслось несколько бычков, другие разбрелись по лугу. Один из них, недалеко от нас, сам красный, но с курчавым белыми волосами на лбу, рыл копытом землю и, повернувшись в сторону села, протяжно ревел страстным голосом. Его рев походил на волчий вой.
– Знаешь, что он говорит? – спросил дядя Хелеф.
– Нет.
– Видишь стадо у подножия Шалбуздага? Это стадо нашего села. Издалека чувствует свою телку, зазывает ее. Вот такие чудеса бывают на свете, – подмигнул мне дядя Хелеф.
– А почему остальные так не делают?
– Остальные не знают, кого выбрать. У них еще нет той единственной, самой дорогой.
Я не знал, верить или нет его словам. Дядя Хелеф это понял и повернул разговор в другую сторону:
– Ты знаешь, чей это бык ревет?
– Нет.
– Посмотри хорошенько. Разве он не похож на хозяина?
– Хозяин ведь колхоз…
– Нет же, парень! Приглядись хорошенько. У него на ухе нет бирки.
– Тогда чей же он?
– Шах-Бубы! Колхоз подарил за хорошую работу. Хотя какая там работа? – Дядя Хелеф засмеялся. – Только и знает, что спит… Увидели, что похож на него, и подарили, чтобы посмеяться. Смотри, похож на него? Он тоже, как сумасшедший, иногда любит разговаривать с горами!
– Я бы сказал, на кого похож, но лучше уж помолчу…
Дядя Хелеф понял:
– Да разве ты не внук бодливого Камала? – утихомирил он свой пыл. – Пойдем-ка, сам увидишь, что наш Шах спит. Если он не в своей серебряной кровати, я отрежу себе оба уха. – Он приложил руку к своей шапке.
Дядя Хелеф привел меня к большому белому, серебристого оттенка валуну. При взгляде снизу, с той стороны, с какой мы подошли, валун выглядел обыкновенным, ничем не примечательным. А сверху, то есть со стороны Красной горы, к которой валун был обращен своей чуть покатой поверхностью, в нем образовалась глубокая ложбинка. В этой ложбинке, завернувшись в бурку, спал дядя Шах-Буба. Сняв шаламы, оставил у ног.
Отсюда казалось, что Красная гора вот-вот обрушится на нашу голову.
В небе, словно охраняя покой спящего дяди Шах-Бубы, парил одинокий орел.
– Смотри, смотри, – зашептал дядя Хелеф, – только и знает, что спать, своими боками даже в камне ложбинку протер, – локтем он толкнул меня в бок. Потом приблизился к камню, стал рядом с шаламами и, повысив голос, сказал: – Шах, живи и здравствуй! – поклонился он в пояс. – Смилуйся над своим грешным рабом за то, что он осмелился разбудить тебя. Но твои нукеры[19], не получая от тебя указаний, не зная, что делать, разбрелись по полям… И орлы скучают в небесах, без твоего позволения не осмеливаясь охотиться в твоих владениях… Бычки ревут…
Дядя Шах-Буба, проснувшись, встал на ноги и лениво потянулся.
– Салам алейкум, дядя Шах-Буба! – поприветствовал я его.
– Ай маншалла, геройский парень! Ты пришел – что солнце взошло! Алейкум салам! – ответил он.
– Вах, а меня он не признает! Даже не замечает! – Я не понял, дядя Хелеф и вправду обиделся или он опять шутил.
– Был ли день, когда я не видел тебя? Такого счастья не дождусь! – засмеялся дядя Шах-Буба. Он, сойдя с валуна, пожал руки мне и дяде Хелефу, затем надел свои шаламы.
– В таком случае сгинь с моих глаз! – сказал дядя Хелеф дяде Шах-Бубе. – Аманат[20] Гюзель я передаю тебе. Отныне ты за него в ответе.
– За себя я сам отвечаю! – сказал я.
– Вот так! – восхитился дядя Шах-Буба. И добавил, хлопнув меня по спине: – Не перевелись у нас мужественные парни!
– Пусть кто хочет, тот и отвечает! Я с этого ничего не имею. Принимаю свой пост. – Дядя Хелеф взобрался на белый валун, вытянулся, придерживая слева свою палку, правую руку поднес к виску и добавил, смешивая русские и лезгинские слова: – Служу Красной горе, Советскому Союзу и его бычкам! Килянусь матриалами двадцать пиятий сиезда Кепесес!
– А как же остальные съезды? – Дядя Шах-Буба решил подтрунить над дядей Хелефом.
– Ими ты сам клянись! – Дядя Хелеф снял свои кирзачи и водрузил их на высокий край валуна. Рядом положил палку, которая наполовину повисла в воздухе. На его ногах были черные домотканые шерстяные носки.
– Это надгробие Хелефа! – указав на сапоги и палку, засмеялся дядя Шах-Буба.
– И означает: я сплю, меня не трогай, так же? – засмеялся и я.
– Нет, – сказал дядя Шах-Буба. – Это означает: я ушел в мир иной, а сапоги и палку там не принимают.
Дядя Хелеф ничего не ответил, словно перестал видеть и слышать нас. Он лег на бурку, с которой встал дядя Шах-Буба, подложил под голову шапку, укрылся другой стороной бурки и начал делать вид, что уснул и храпит.
– Ну пошли, – сказал дядя Шах-Буба, – его выходкам не будет конца.
Дядя Хелеф вдруг подняв голову, крикнул нам вслед:
– Ушедшие в мир иной разве храпят?.. Темный народ!
Дядя Шах-Буба, не отвечая ему, сказал:
– Я сегодня ухожу в село. Не жди.
– Уходи, уходи. Отпустишь Кудрата одного – Гюзель съест тебя вместе с твоими шаламами.
– Я тоже, как и ты, ухожу, чтобы умереть, – сказал дядя Шах-Буба.
Была ли это шутка, или он ехидничал, я не понял.
– Я не смогу, оставив государственных бычков, прийти на твои похороны. Прости уж меня… – Хохот дядя Хелефа уподобился обвалу в горах, а Красная гора ответила ему эхом.
– Чтоб тебе сдохнуть, чертов шут! – махнул рукой дядя Шах-Буба. – Пошли, я заберу свою папаху и палку, – обратился он ко мне.
От хибары пастухов к Откусанному месту вела широкая тропинка. Было заметно, что по ней ходят чаще, чем по другим тропинкам в этих лугах. Мы вышли на тропинку, которая поднималась все выше и выше. Когда подъем кончился, до самого ручья, протекающего по Откусанному месту, она пошла прямо, как по линейке. Отсюда долина между высокими горами виднелась полностью, во всей свой красе. Здесь преобладал густо-зеленый тон. Цветы, словно стесняясь, только начинали распускаться. Долину заполняла черная линия Большой реки, оба берега которой были усеяны большими белыми и серыми валунами. Береговые скальные сломы имели красный цвет. В садах нашего села и в селах, расположенных ниже их, цвел абрикос. Река хоть и находилась далеко, но ее шум доносился до нас. Без этого шума долина походила бы на застывшую, без единого движения картину.
– Ну как, не наглядишься? – Дядя Шах-Буба заметил, что со мной творится.
– Нет, – только и вымолвил я.
– Значит, у тебя в груди сердце поэта.
– Ты еще скажешь! Где я, а где поэзия? – Я был уверен, что дядя Шах-Буба ничего не знает о моих тайных опытах в стихотворчестве, и тем более меня удивили его слова:
– Поэтом становятся не по собственному желанию, это происходит как-то само собой. Тебя тянет сейчас, повысив голос, поговорить с полями, лугами, ключами, горами, с Большой рекой? Тянет? Только скажи правду!
– Из моей груди что-то готово вылететь в небо…
– Вот об этом и скажи словами, скажи горам, скажи полям, скажи Орлиному гроту. Они сами придадут тебе силу, развяжут тебе язык, придадут тебе уверенность!.. Поговори с Богом!
Для меня подобные советы были внове.
– Как? – спросил я. – Как сказать?
Дядя Шах-Буба остановился. Лицо у него посветлело, в глазах зажглись огоньки. Правой рукой упирая палку в землю, подбоченившись и подняв голову, он обратился к Шалбуздагу:
– Эй, моя священная гора, гора монахов и пиров[21]! Ты неизменный свидетель моей жизни. У твоего подножия я родился и вырос. Перед тобой прошла моя молодость и настигла меня старость. Не хочу я, чтобы она приближалась, но возраст склоняет перед ней свою голову. Моя судьба навсегда связана с тобой: еще маленьким ты, Шалбуздаг, оставил меня сиротой, забрав моего молодого отца. Мой отец хотел взобраться на твою вершину, на самый верх. Но ты сказал: «Это предательство со стороны моих сыновей – пожелать стать выше меня. Будь гордым там, где это необходимо, но не пытайся задеть мою гордость». Но ты заменил мне, сироте, отца: вместе с теми, кто шел на зиярат[22], сколько раз я приходил к тебе на поклон, Шалбуздаг, в надежде получить кусок жертвенного хлеба. Это ты давал мне этот хлеб. Сколько раз я приходил к бездне, превратившейся в могилу отца, сидел там и тайком от всех плакал. Ты, один только ты видел те мои слезы. И у меня в сердце гнездилась мысль подняться на твою вершину и тем самым исполнить несбывшееся желание отца. Но ты сказал: «Милый сын! Будь гордым там, где это требуется, и не наступай ногой на мою гордость!» Ты призвал меня к сабуру. Ты взрастил меня, Шалбуздаг. Чтобы не держать в душе дерзновенную мысль, больше я не приблизился к твоему подножию: перебрался к Красной горе и превратился в дервиша в ее владениях, но сердце свое я оставил тебе, Шалбуздаг-отец. Облегчи его тоску-кручину, милый, найди для него лекарство. – Неожиданно дядя Шах-Буба замолчал. Но когда говорил, он был похож не на пастуха, а на святого, держащего путь на зиярат. Теперь же он, со склоненной на груди головой, напоминал, по его же словам, дервиша; казалось, он отошел от всего мира, печаль и горе заполонили его сердце, полное несбывшихся надежд.
А какое у него горе, я знал. Птицы в моей груди уже не хотели взмыть в небо: они нахохлились и дрожали, словно оказавшись на морозе. Теперь мое сердце окончательно убедилось: этот человек, дядя Шах-Буба, пастух в ватнике и лохматой папахе, обутый в шаламы, не таков, как все остальные люди, он другой, только я не знаю, как его назвать. И я сказал:
– Ты настоящий поэт! Ты, дядя Шах-Буба!
– Эх, сынок, темный пастух разве может стать поэтом? Я лишь горе свое изливаю. Поэты говорят стихами. Поэты по-своему находят красоту, соблюдают свои высокие традиции. То, что зреет в глубинах сердца, они просеивают через сито поэзии, крупные зерна, что остаются на сите, – и есть стихи, а те, кто сумел выбрать эти лучшие зерна, – поэты… У меня нет такого сита…
Мне нравилось говорить о стихах – слова дяди Шах-Бубы открывали передо мной неизвестный мир, и этот мир манил меня. Я почувствовал пустоту тех строк, что выводил тайно от всех, и в душе обрадовался, что никому их не показывал.
– Ты сказал: говори с Богом… Но как? – спросил я.
– Ей-богу, ты хочешь стать поэтом, – засмеялся дядя Шах-Буба. – Знай же: с кем бы, с чем бы ты ни говорил, ты говоришь с Богом, потому что всех, с кем ты говоришь, Он создал. Вот почему, что бы ты ни сказал, надо сказать откровенно и с чистыми помыслами, чтобы слова твои исходили из сердца. Надо стараться так говорить, приучать к этому самого себя. Слово, что ты сказал камню или роднику, цветку или орлу, слышит Бог. Он присутствует в каждом камушке, былинке, роднике, во всем.
– Когда люди говорят друг с другом – то же самое?
– Да. Только каждый человек, когда говорит с другим, совершает свои дела, должен стараться не говорить такого слова, не совершать такого дела, после чего Бог может уйти из него. Иначе он перестанет быть тем, кем создал его Бог. – Дядя Шах-Буба увлекся, видимо, он скучал без собеседника и теперь раскрывал мне свои мысли, неспешно шагая, с огоньками, зажегшимися в карих глазах. – С самим Богом говори в трудную пору, когда в помыслах твоих начинает царить неразбериха, когда ничто и никто, кроме Него, не может тебе помочь… – Вдруг он остановился и тут же обернулся тем дядей Шах-Бубой, которого я всегда знал, на лице его появилась виноватая улыбка. – Извини, друг мой, должно быть, я надоел тебе своими длинными речами… Вот мы и пришли…
– Нет, нет, – запротестовал я. – Я слушаю, ты говоришь об удивительных вещах.
– На сегодня уж достаточно… Вот это – камень Цавдара, – указал он на громадный продолговатый валун, край которого ушел в землю, а другой торчал в воздухе. – Спустимся вниз и окажемся у дома бабушки Тенфе.
С тропинки можно было легко ступить на этот камень. Круто вниз уходил склон, прорезанный другой тропинкой. Виднелась черепичная крыша дома старушки Тенфе, придавленная камнями.
– А кто такой Цавдар?
– Разве я тебе не рассказывал про Цавдара?
– Нет. Я впервые слышу это имя.
– Не может быть!.. Тогда смотри на него. – Он посмотрел на небо. Над нашей головой выписывал круги тот самый орел, которого я впервые увидел, когда перебрался на эту сторону Большой реки. – Он и есть Цавдар. Это я его так назвал… На козлят старухи Тенфе когти точит…
Я наблюдал за полетом орла, не отрывая от него глаз, и сам тоже сделал круг на месте. Я видел его по-другому. Не то что вблизи, орел-то находился высоко в небе, но прозрачно-чистая голубизна неба словно приближала его к нам. «Как было бы хорошо, если бы я был этим орлом, Цавдаром, – подумал я. – Я увидел бы Красную гору сверху, ее другую сторону, место слияния Большой реки с Срединой рекой[23], как на ладони предстали бы передо мной противоположные отроги Шалбуздага и горы Келет…» Я знал, что за Красной горой находится гора Шахдаг, я мечтал увидеть ее, так как говорят, что она расположена в самом центре Лезгистана, потому ее назвали Шахдагом: как шах, вознеслась она над землей лезгин, над остальными горами, полями, лугами, реками, родниками и живущими на этой земле людьми. Я завидовал Цавдару. У него есть возможность все видеть, вот почему он так горделив и спокоен, уверен в себе.
– Эй, парень, спускайся на землю! На небесах ничего не найдешь. Если что и найдешь, то только на земле. – Дядя Шах-Буба дергал бутень, обрывал и бросал верхушки, а мясистые корни клал в карман.
– Возьми, ешь, – сказал он, доставая бутень из кармана. Дергай сам. Их сейчас только и отведать, пока не затвердели. Недели через две ты бы таких уже не ел.
С мыслями, которые все еще парили в выси вместе с Цавдаром, я принял от дяди Шах-Бубы корнеплоды и положил себе в карман.
– Дергай, дергай! – сказал он. – Дергай и себе, и старуху Тенфе угостим. Она уже не может сюда подняться.
Спускаясь вниз по тропинке, дядя Шах-Буба одновременно собирал и бутень.
– Значит, Цавдар крадет козлят бабушки Тенфе? – спросил я, выдергивая бутень. Я знал, что орлы нападают на овечьи отары, ягнят, домашнюю птицу, но почему-то не хотел верить, что Цавдар охотится на козлят беспомощной старухи, одиноко живущей в этих лугах.
– Он рожден для того, чтобы охотиться; если бы не охотился, он не был бы орлом.
– Кроме козлят бабушки Тенфе, не на кого ему охотиться? Разве на горных склонах не осталось зайцев, нет ли овец да ягнят?
– Отары пока находятся в пути из Мугани[24].
– Я не говорю о колхозных. А как же овцы нашего села? Разве они не пасутся там, повыше, во впадине Парсар?
– Они там… Но у Цавдара свое горе… Он мстит.
– Как мстит?
– Несколько лет назад, когда Ахмед еще не попал в беду и дядюшка Антер был жив, Цавдар имел подружку. Однажды они напали на козлят, а дядюшка Антер убил его подружку выстрелом из ружья. Они всегда были вместе, охотились вместе и вечером вместе улетали к Орлиному гроту. Все просторы Красной горы – и на земле, и на небесах – принадлежали им. Орлы с других гор не имели права залетать сюда.
В душу мне запал вопрос, но я не осмеливался задать его. И это меня смешило. Однако дядя Шах-Буба догадался сам.
– Наверное, думаешь: откуда тебе известно, Цавдар – орел или орлица? По усмешке твоей вижу, хитрец! – засмеялся и дядя Шах-Буба. – За Цавдаром я наблюдал вблизи. Снизу вверх. Когда он сидел на своем камне, отдыхая или тоскуя по погибшей подружке… Я никогда не видел, чтобы они сидели здесь вместе… А оставшись один, несколько дней он, застыв, оставался на этом камне. Хелеф даже попытался, подкравшись, поймать его голыми руками, но Цавдар чуть было не убил Хелефа. Охваченный тоской, орел разъярился и оказался сильнее человека. Попавшись под его острые когти и клюв, Хелеф кубарем скатился вниз по склону аж до самого дома дядюшки Антера. На крик Хелефа покойный Ахмед выскочил с ружьем. Но Цавдар взмыл в вышину и исчез с глаз. Он уже понимал, что ружье – штука опасная, судьба, смерть подружки преподали ему суровый урок… Однако месть остается местью. Тут уж никакой урок не идет впрок, хотя Цавдар и стал осторожным. Охота на козлят одинокой старухи является для него местью людям, заставившим его пережить горе. Иначе он мог бы, как ты говоришь, охотиться на наших овец и ягнят в лощине Парсар или на птиц и мелкую дичь в лесу под Откусанным местом. Нет, он желает состязаться со старушкой Тенфе… Тенфе – это не Хелеф! – засмеялся дядя Шах-Буба, что-то подразумевая под последними словами.
Казалось, одновременно с нами и Цавдар опускался все ниже. Теперь он кружился над домом старухи Тенфе; казалось, он за чем-то наблюдает, на что-то решается, чего-то дожидается.
– Знаешь, почему Цавдар не осмеливается опуститься ближе к земле? – продолжил разговор дядя Шах-Буба.
– Нет. Я хотел об этом тебя спросить.
– Вот, сам смотри. Подумай и скажи, почему.
Мы подходили к дому старушки Тенфе. С холма, на котором мы находились, внизу, в небольшой лощине, виднелись одноэтажный дом, двор, огороженный изгородью из гибких прутьев, сад и огород. Чуть подальше от дома стоял хлев, приземистый и со стенами, изборожденными дождевыми струями. Хлев, который некогда занимала скотина, теперь, оставшись без сильных рук, которые обмазали бы его стены, ухаживали бы за овцами и коровами, выглядел осиротевшим. Дом бабушки Тенфе имел одну особенность: передней частью он был обращен не к югу, как принято, а на север, где находилось наше село. Должно быть, дедушка Антер, строя дом в этих лугах, хотя бы видом на село думал скрасить одиночество своей сакли. На южной стороне взор останавливался лишь на холмах, скалах и словно готовой обрушиться на тебя Красной горе. Место для дома было выбрано тщательно, взвесив все обстоятельства. В половодье ручьи и потоки не представляли для жилища опасности. Горные воды стекали в овраг, разрезающий склоны между Откусанным местом и Большой рекой. Дворик, залитый солнцем, казался еще светлее из-за покрывающей землю белой гальки. Во дворе сидела старуха Тенфе у сбитой из досок ограды террасы. Голова у нее упала на грудь. Наверное, как случается у старых людей, она пребывает в полусонном состоянии. Выше дома, сзади, находились две могилы. Только две. На валуне позади хлева стоял козел, да еще имел такой важный вид, точно своими рогами он поддерживал небо. Поодаль, в зарослях вербы, две козы обгрызли со стволов всю кору и теперь принялись за распускающиеся листья. Внизу мы увидели родник с желобом и накопителем для воды, которая, извиваясь, как змея, и сверкая разными оттенками, устремлялась по канавке дальше, к Большой реке. По обе стороны от родника были привязаны к колышкам два козленка, так, чтобы они не спутались веревками друг с другом, но могли дотянуться до воды.
«Наверное, родник заставил дедушку Антера выстроить здесь дом, – подумал я. – Иначе это место осталось бы просто полем. Без дома, без сада, без огорода… Но почему Цавдар не приближается к козлятам? Что ему мешает? Мог бы и напиться…»
– Цавдар видит, что козлята привязаны, и потому не решается напасть на них… – неуверенно заговорил я.
– Ты хорошо смотрел? – Мой ответ никак не подействовал на дядю Шах-Бубу. Значит, ошибся. Я пожал плечами, показывая, что признаю себя побежденным.
– Умение признать себя побежденным тоже относится к достоинствам мужчины, – сказал дядя Шах-Буба. – А все-таки вглядись еще раз, обостри свой взгляд, как алмаз.
Я еще раз огляделся кругом. В одном конце огорода находился нужник, а в другом, куда старуха Тенфе выносила золу из очага, несколько курочек разгребали землю. Там же находился курятник, смахивающий на маленькую саклю. Место перед курятником было огорожено металлической сеткой, а сверху покрыто черепицей. Наверное, там держали кур, когда сажали в огороде. Теперь же куры, довольные и беззаботные, даже не замечали, что над ними кружится орел. «Неужели старухе Тенфе козлята дороже кур? – подумал я. – Нет, тут что-то не так. Что стоит Цавдару подлететь и забрать одну из них? А может быть, он не признает их? Подумаешь, куры, которые валяются в золе… Может быть, помня о своей подружке, желает завладеть только козленком?..» Дядя Шах-Буба не дождался моего ответа.
– Пойдем, посмотрим вблизи, – сказал он.
Мы спустились к роднику. Чистая вода, которая била из-под земли, собиралась в квадратный, примерно метр на метр, накопитель. Он имел невысокие борта, козлята своими мордочками могли дотянуться до воды.
– Попробуй водицу, – предложил дядя Шах-Буба. – Родник дядюшки Антера имеет свой вкус.
– Сначала пей ты, – сказал я, оказывая уважение старшем у.
Дядя Шах-Буба подставил под желоб руку, удерживая в ней воду, и сделал несколько глотков. Затем набрал воду в пригоршню, плеснул себе в лицо и провел по нему обеими руками.
– Ну и вкусная же водица! Не сравнить и с райским источником Замзам[25]! – воодушевился он.
Будь здесь дядя Хелеф, он не преминул бы спросить: где ты видел источник Замзам и откуда знаешь, какая там вода? Но я не осмелился взять на себя его роль и не стал задавать «замогильных» вопросов. «Не случайно дядя Шах-Буба, испивший из всех родников на лугах Красной горы, познавший их вкус, сравнивает родник дедушки Антер с источником Замзам», – подумал я и, как и он, подставив ладонь под желоб, сделал несколько глотков. От ледяной воды у меня перехватило дыхание, в висках отдалось болью.
– Вода в Замзаме такая же холодная? – спросил я.
– Едва ли, – ответил дядя Шах-Буба, но без прежней уверенности. Возможно, от моего вопроса на него повеяло ехидством дяди Хелефа. – Когда пьешь из горных родников, сначала набери в легкие побольше воздуха, а потом пей маленькими глотками. Иначе схлопочешь воспаление, угробишь себе внутренности… Посреди лета вода в горном роднике становится еще более ледяной, а вот зимой, наоборот, теплеет, словно ее слегка подогревают… Плесни, плесни в лицо, чтобы дрожь пробежала по телу, взбодришься… Вот какую силу имеет эта водица. Покойный дядюшка Антер называл ее Родником бодрости. Каждый родник в горах обладает какой-то особенностью, от чего-то помогает и лечит. Эта же вода бодрит и вдохновляет.
Я плеснул себе в лицо, провел руками по лицу и затылку. Несколько капель, скатившись за шиворот, действительно вызвали дрожь в теле.
От родника к дому вела узенькая тропинка, посыпанная, как и двор бабушки Тенфе, белой галькой. Дядя Шах-Буба шел впереди.
Цавдар плавно, горделиво парил у нас над головой. Казалось, что он забылся и его, пребывающего во сне, горный ветерок носит по небу. Интересно, из какого родника он пьет? – думал я. – Из водопадов Красной горы, – всплывал ответ в моем сердце. – Воду, падающую сверху, разбивающуюся о камни и брызгами отбрасываемую обратно, он хватает еще в воздухе, словно охотясь… Я бы хотел эту картину, возникающую в мыслях, наблюдать наяву…
– Сколько можно спать?! Твоих козлят унес орел! – воскликнул дядя Шах-Буба, приближаясь к старушке Тенфе.
Бабушка Тенфе, сидя дремавшая, опустив голову на грудь, как ребенок, мгновенно очнулась.
– Что случилось?! – суматошно вскричала она. Вся она с ног до головы была в черном, как и моя бабушка. Шутку[26], накинутый поверх него платок, покрывающий иссохшее тело, и висящий на ней хилеш[27], подбитый шерстью, длинная булушка[28] под ним – все было черным. Только выглядывающие из-под подола концы штанов черного сукна были оторочены полосками ткани зеленого цвета. Обута она была в черные резиновые галоши. – Не может быть! Оплошала я! – Она приняла всерьез шутку дяди Шах-Бубы, не обращая на нас никакого внимания, затенила глаза высохшей, сплошь в морщинах рукой и посмотрела в сторону козлят. – Нет, нет, не унес, на месте они, – опомнилась и обрадовалась. Теперь она заметила и нас и сама начала шутить: – Куда уж орлу подступиться к моим козлятам! Хотя вы считаете меня за старую развалину, он видит меня другой, чтоб ему упасть со своих небес. Он видит, что моя защита рядом со мной. Он видит! Не слепец же какой-нибудь, востроглазый разбойник. – Старушка взяла в руки двустволку, лежащую на выступе террасы.
– Эй, не принимай гостей с ружьем в руках! Ты только смотри, какого дорогого гостя я к тебе привел! – Дядя Шах-Буба показал на меня.
– Не иначе как Кудрат?! Милый мой, милый! Да помереть мне у ног твоих! – Бабушка Тенфе положила на место ружье, пошла мне навстречу, взяла меня за обе руки и расцеловала их. – Ты пришел, что солнце взошло! Да буду я жертвой тропинок, которые привели тебя! Будь благословен тот, кто привел тебя!
Весь свет души и все тепло, что хранилось в сердце этой старушки, угнетенной горестями и одиночеством, вырвались наружу. Этот свет и тепло мне были знакомы по ее посещениям бабушки. Сладкий язык, ясное лицо, приятные руки – свидетельствовали о богатстве ее души. И одевалась она по-особенному, на старинный манер: носила старинный широкий пояс, украшенный серебряными пластинками, на груди висели серебряные монеты, голову покрывали шутку и шаль неброских расцветок, на ногах – сапожки из мягкой кожи… Лицо у бабушки Тенфе благостно алело; мне казалось, что это цвет языков пламени из-под хара, печи для выпечки хлеба, передался ее лицу и навсегда сохранился на нем.
Правда, теперь цвет пламени поблек, и лицо, уподобившись склону горы Келет, распахали глубокие морщины, лишь нос не изменился, выглядел даже длиннее, чем прежде.
До сих пор вблизи я не видел орлов, но почему-то я сравнивал бабушку Тенфе с состарившейся орлицей. Мне казалось, что ее темные покровы как бы оттеняют внутренний свет и тепло, исходящие от нее, усиливают их, делают их более действенными. Помимо всего прочего, я понял, что старушка соперничает с Цавдаром, знает, как с ним обходиться, и может обезопасить двух своих беззащитных козлят. Наверное, она никакой выгоды не имела ни от козла, ни от коз с козлятами, ни от кур, пожалуй, они лишь помогали ей скрасить одиночество, но готовность постоянно соперничать с орлом свидетельствовала о ее гордости, непритупляющейся силе сердца и умении постоять за себя. Ещё издали, когда мы над родником смотрели с холма, дядя Шах-Буба заметил ружье, которое лежало на выступе террасы. А я его не видел, мои глаза не обладали остротой зрения, данной Цавдару. Нет, не обладали…
Потом каких только вопросов не задавала мне старушка Тенфе: «Как поживает бабушка? Чем занимается дедушка? Как ты учишься?» Порасспросила и о соседях, и о близких. Словом, видно было, что она угнетена одиночеством и жаждет общения с людьми.
– Разговор продолжим после того, как завершим дело. – Дядя Шах-Буба в конце концов прервал расспросы Тенфе, взял ружье и, чтобы переменить тему разговора, спросил у нее: – Патроны есть?
– Есть. Последний. И тот нашла, перебирая на днях валявшееся дома тряпье. Остальные я бросила в Большую реку, когда погиб Ахмед, чтобы старик не натворил что-нибудь с собой. И ружье упрятала подальше от греха… Старик еще спрашивал о нем. Я сказала, что его взял Байбут из села Келе, чтобы охотиться на кабанов. «Если Байбут забрал, то не скоро вернет, кабаний сын!» – рассердился он, но поверил… И то хорошо, что своей смертью умер. Иначе кто знает, что натворил бы с собой… У него не было такой выдержки, как у меня… – Бабушка Тенфе помолчала. Действительно, вся она, с головы до ног, олицетворяла собой неиссякаемую выдержку, многое она выдержала в жизни, и ясно было, что готова была выдержать еще, так как в сердце у нее жили желания.
– Что делать? Царствие небесное мертвым. – Слова дяди Шах-Бубы должны были еще больше укрепить ее в своей выдержке. – Ничего не поделаешь, сыновья больно ранят сердца отцов, аж доводят их до наложения на себя руки… – Дядя Шах-Буба, конечно, говорил о ране собственного сердца.
– Всевышний все решает, сын мой, – сказала Тенфе, понимая и, в свою очередь, успокаивая его. – Когда нашла патрон, я обрадовалась. Решила, что это мне предписано судьбой. Но засовестилась внука, который служит в армии. Пока не перепоручу ему это гнездо и две могилы, не могу я завершить свои дни, о чем молю Аллаха и прошу поддержки у святынь Шалбуздага и у могил чистых людей… Пока сыновья далеко, мы должны позаботиться о том, что нам досталось от предков. Мы, повидавшие мир… А сыновья когда-нибудь да вернутся на родину. Потянет их на родину!
– Знаю я, как его потянет… – таинственно проговорил дядя Шах-Буба, и я понял, что он что-то задумал.
Горе этих двоих людей вселяло печаль и в мое сердце. Предаваясь воспоминаниям, они могли далеко зайти в своем разговоре, и потому я тоже, как и дядя Шах-Буба немногим раньше, решил переменить ход их разговора.
– Возьми, это тебе передала бабушка, – вынув из кармана, я передал старушке Тенфе два лимона.
– Милый, да воздастся тебе лучшей долей! – радостно воскликнула она. – Сам Всевышний услышал меня, так хотела попробовать чего-нибудь кисленького!
Дядя Шах-Буба, в свою очередь, угостил ее бутенью.
– Зубов не осталось, чтобы грызть их, сынок!
– Потолки и ешь.
– Душа да возрадуется у тебя, неоплатны твои благодеяния!
– Можешь не думать о моих благодеяниях, да пойдут они тебе впрок. – Дядя Шах-Буба, направившись на террасу, повесил ружье на гвоздь.
– Если Цавдар набросится на козлят, ты и вправду убьешь его из ружья? – задал я вопрос, который давно вертелся на языке.
– А как же! – Голос Тенфе налился силой. – Или ты думаешь, что из меня песок сыплется и я ни на что не годна? – шутя, продолжила она. – Ей-богу, от него одно только мокрое место останется! – С лимонами и бутенью в иссохшихся руках она тоже пошла на террасу и позвала меня: – Ну, пойдем. Достаточно разговоров… Смотри-ка на старую! Гостей кормит разговорами, да еще во дворе… Выпейте чаю, перекусите.
– Нет-нет. – Дядя Шах-Буба с террасы вернулся во двор. – Покажи, где у тебя лопаты. Мы займемся своим делом. Бабушка Гюзель будет ждать возвращения внука. Запоздает он – сама здесь появится.
– Лопаты в хлеву. Я сама сейчас принесу. – Старушка Тенфе положила в миску то, что держала в руках.
– Иди ты, сынок, – сказал мне дядя Шах-Буба.
Я принес лопаты. Мы пошли в огород. А Тенфе завозилась у печи в конце террасы. Ясно было видно, что приход гостей придал ей сил.
Чернозем легко поддавался лопате, и я копал с удовольствием. Казалось, земле приятно, когда ее рыхлят и куски её, падая с лопаты, ложились рассыпчато. От уже раскопанной земли несло теплым духом, словно она облегченно задышала. Работа отвлекла нас от того, что происходило на небесах. Мы раскопали весь огород, сделали грядки и завершали сажать картофель…
– Летит, проклятый, летит! Эй, Шах-Буба! – Мы не сразу поняли, к чему относится крик бабушки Тенфе.
Вдруг мы увидели, что Цавдар пулей устремился на козленка, вцепился когтями ему в спину и обратно ринулся в небо. Веревка, которой был привязан козленок, натянулась и вырвала из земли кол. Он подскочил вверх, затем повис и уплыл в небо вместе с веревкой. Козленок исходил криком, подобным детскому плачу. Козел, все это время красовавшийся на валуне, спрыгнул на землю; обе козы мемекали, устремив взгляды к тем, кто уносился в небо. Бабушка Тенфе сорвала с гвоздя ружье и в растерянности застыла у входа на террасу.
– Вот разбойник, заметил, что ружья нет на месте! – Дядя Шах-Буба, подбежав, выхватил у Тенфе ружье.
– Стреляй! Стреляй же! – кричала она.
– В жизни я такого не видывал! – Дядя Шах-Буба направил ружье в небо, но не прицеливался; наверное, он хотел, чтобы Цавдар увидел ружье; может быть, надеялся, что, видя ружье в руках мужчины, орел выпустит козленка!
– Стреляй же, парень! Он удаляется! Пожалей козленка!
Голос козленка, словно моля о пощаде, не прерывался.
Выстрел грохнул; и грохот повторился, эхом отозвавшись в горах. Показалось, что стреляли несколько раз, и, может быть, это заставило Цавдара разжать свои когти. Переворачиваясь в воздухе и потянув с собой веревку с колом, козленок шлепнулся о землю за домом, рядом с могилами дедушки Антера и дяди Ахмеда.
– Не попал? Как жаль! – сказала Тенфе, когда орел, резко увеличив скорость, стремительно ушел в сторону Красной горы. – Конец моему козленку! – Она хотела побежать за дом, но ноги ей не повиновались. Остановив ее, я побежал сам. У козленка, лежащего на боку, изо рта шла кровь, заднее копытце дергалось, словно удерживая уходящую жизнь.
Цавдара и след простыл. Дядя Шах-Буба не стрелял в него. Значит, он хотел лишь напугать орла, чтобы тот выпустил козленка, но не подумал о том, что с ним будет, когда тот упадет с высоты, да и некогда было об этом думать.
Я взял козленка на руки и принес его во двор.
– Живой? – Тенфе еще надеялась.
– Умирает. – Дядя Шах-Буба опечалился.
– Хоть прирежь бедняжку, – сказала бабушка Тенфе, – пусть не мучается. Дядя Шах-Буба послушался и вынул нож, который всегда носил в кармане. Но события дня на этом не завершились.
– Эге-гей! Урра-а! Ха-ха-ха! – раздался свыше голос, повторяемый эхом, что походило на то, как будто с гор скатывали камни.
– Это Хелеф, – сказал дядя Шах-Буба. – Злится, что выстрел разбудил его… Тут мы увидели, что он сам спускается сверху и что-то тянет за собой.
– Я поймал его! Эй, люди! Я поймал орла! Не медля сообщите в Москву! Пусть меня наградят орденом Ленина! Эй, Шах-Буба, готовь клетку! В Москву мы отправим тебя как передового пастуха! Вместе с Цавдаром! Привезешь оттуда и мой орден!
– Что случилось? О чем он кричит? – Тенфе ничего не понимала.
– Дядя Хелеф поймал орла, Цавдара, – пояснил я.
– Поймал орла? Не может быть! – не поверила она. Бедная старушка не только плохо слышала, но и плохо видела.
– Колесо жизни повернулось вспять, матушка Тенфе, – проговорил дядя Шах-Буба. – Наступили времена, когда шуты тащат орлов по земле…
Дядя Хелеф спускался с холма над Родником бодрости и тащил Цавдара, ухватив его за ноги. Одно крыло орла, бессильно распластанное, тащилось по земле. А дядя Хелеф шагал, смело стуча палкой, которую держал в левой руке.
– Эту палку подари в музей Вооруженных сил, Шах-Буба! Когда ты поедешь в Москву. От меня! – Дойдя до родника, он оставил палку, не выпуская ног орла, набрал воду в левую ладонь, сделал два глотка и, сполоснув рот и горло, сплюнул в канаву. Затем той же ладонью раз за разом плеснул себе в лицо и напился. – Если не знаешь дорогу в Москву, то спроси у учителя Кариба.
– Прекрати клоунаду, чтоб тебе сдохнуть! – Дяде Шах-Бубе очень не нравилось его поведение. – Ты только на себя посмотри, как полоумный, по горам лазаешь без обуви.
Действительно, дядя Хелеф был без сапог, в одних шерстяных чулках.
– Кто тут клоун? Посмотри на него! – засмеялся дядя Хелеф. – Вышедший из сеновала позорит того, кто сидит на киме! Достойного ордена Ленина! – Я не мог понять, шутит он или говорит всерьез. – Нет-нет, я не шучу. Вот эта палка решила дело Цавдара, – он был уже во дворе.
Тенфе стояла, прижав палец к губам.
Дядя Шах-Буба недовольно покачал головой.
Я не находил слов.
Наконец заговорила бабушка Тенфе:
– Хватит, Хелеф! Шутки хороши в меру. Расскажи, что там произошло.
– Вот, товарищ командир! Враг народа Цавдар, из-за которого козлятам матушки Тенфе светлый мир казался черным, я бросаю к твоим ногам! Рядовой пастух Хелеф, ефрейтор запаса! – И он, не раздумывая, бросил Цавдара к ногам дяди Шах-Бубы.
Цавдар был еще жив. Одно крыло его раскрылось веером, было ясно, что оно сломано. На голове виднелись следы крови. С усилием открывая глаза, он тяжело дышал. Досталось же ему от дяди Хелефа.
– Вот, проклятый, на твое зло и Всевышний возместил тебе злом! Хватай, ешь теперь! Чтоб ты лопнул! – Тенфе подтащила к Цавдару бездыханного козленка. Охваченная гневом, она вспомнила, наверное, нанесенную ей некогда обиду, и у нее заныли старые душевные раны.
– Что тут говорить о Всевышнем?! – Дядя Хелеф никак не мог успокоиться, а дядя Шах-Буба, понимая, что сейчас его ничем не проймешь, молчал и ждал, чем же он завершит свою болтовню. Дядя Хелеф, распаляясь, продолжал: – Разве Всевышний сумел бы его наказать? Это я поймал орла, я!.. Разбуженный звуком выстрела, я подумал: «Что-то случилось? Почему стреляют? Кто же на нас напал?» Осмотрелся, ничего особенного не заметил. Бычки живы-здоровы, сидят себе и беззаботно жуют жвачку. Со мной тоже все в порядке. По тропинке я пошел в сторону камня Цавдара. И палку взял с собой. Ого, что я вижу?! Цавдар, спрятав голову, сидит на камне с очень хмурым видом. Наверное, кто-то ранил его, решил я про себя. А вот оказывается, рана была у него в сердце, – рассказчик бросил взгляд на козленка и веревку с колышком, лежащих рядом. – Стараясь не шуметь, повезло, что не вспомнил про сапоги, я, как солдат, взяв палку наперевес, подошел к орлу со спины и так огрел его палкой, что он головой вниз слетел с камня и ударился о валуны. Я подумал, что он издох. Ан нет, живуч разбойник!
– Потому что он орел. И жизненная сила у него не сравнится с твоей… как у козленка. – Дядю Шах-Бубу, видимо, опечалила судьба Цавдара.
Мои чувства пребывали в смятении; казалось, что опустевшее небо тяжелым грузом давит на плечи. Летали птицы, но они не могли заполнить небо подобно орлу. Однако Цавдар был жив, и в моем сердце зажглась искорка надежды, что он еще будет парить в небесах. Надеялся я и на дядю Шах-Бубу, лишь он мог спасти орла, он должен знать, как это сделать.
Гнев Тенфе также улегся; наверное, старушка сожалела о том, что гордая птица, парившая в поднебесье над горами, оказалась под ногами. Опять прижав палец к губам, она качала головой. Интересно было бы узнать, о чем она думает? Может быть, осознавала, что падение единственного своего достойного соперника вконец обесцветит ее старушечий век? На кого теперь она будет кричать, кому будет угрожать?
Перед кем будет доказывать, что сердце у нее еще не угасло? Кому будет грозить ружьем? Кому теперь показывать, что одинокое владение среди пастбищ и полей, среди гор и скал еще имеет своего крепкого хозяина? Нет, не та жизнь наступит без орла…
– Ей-богу, теперь мне жалко бедняжку, – промолвила старушка.
– Дай-ка нож, отрежем ему голову. – Дядя Хелеф посмотрел на дядю Шах-Бубу. – Слышал я, полезно поесть вместе мясо козленка и орла. Если не веришь, как вернешься в село, спроси у доктора Назима.
– Доктору Назиму дай обследовать свою голову! – Дядя Шах-Буба отвязал веревку от колышка и начал завязывать орлу ноги.
– Что ты делаешь? – Дядя Хелеф не понял его действий.
– Повезу в Москву, скажу, что ты его поймал. – Дядя Шах-Буба снял с себя ватник.
Цавдар открыл глаза, они были неопределенного серо-зеленого цвета. Орел приходил в себя, но едва ли еще осознавал, в какую беду он попал. Наверное, пока он испытывал лишь боль в сломанном крыле.
– Держи мою палку, – сказал мне дядя Шах-Буба, а сам, завернув в ватник, поднял орла, одной рукой придерживая его за шею. – Пошли, тут нам больше нечего делать.
– Вай, дорогой Шах-Буба, разве так поступают? Неужели ты это говоришь серьезно? Зайдите домой, перекусите. Я уже приготовила…
– Нет. Не обижайся. Зайду в другой раз, когда вернется твой внук. Тогда и поедим, и выпьем. Будем пить из рога дядюшки Камала!
– Перед ребенком совестно мне. – Тенфе повернулась ко мне. – Ведь скажут, даже стаканом чая не угостила!
– Пусть пойдет и напьется из родника, – сказал дядя Хелеф. – Орла поймал я, а угощают других!
– Я уже напился, – ответил я дяде Хелефу. Мне также надоели его шутки.
– Заберите с собой хотя бы этого бедного козленка. Пусть Гюзель приготовит вам что-нибудь. Скажите, что я просила… Подождите, я найду, во что его положить…
– Нет-нет, не стоит утруждать себя. – Дядя Шах-Буба остановил ее: – Козленок пусть останется у тебя, найдешь, что с ним сделать, – и повернулся к дяде Хелефу: – Сними с него шкуру, разделай, потом уходи.
– Его мясо не влезет мне в горло, – сказала старушка.
– Тогда отдай тому, у кого в горло влезет все что угодно. – Дядя Шах-Буба опять взглянул на своего товарища.
– Наконец ты сказал хоть что-то умное. – Дядя Хелеф отнесся к его словам спокойно.
– Забирай, Хелеф, себе, – сказала Тенфе. Может быть, она почувствовала некоторое облегчение от того, что больше не надо возиться с козленком. Растила-то его для внука, который служит в армии, а если не судьба, то и сама не захотела есть его мясо.
– Грех отпускать победителя над орлом с пустыми руками. Все же, есть еще справедливость на свете! – Дядя Хелеф поднял козленка за задние ноги, потом сказал, обращаясь к Цавдару, находившемуся под мышкой у дяди Шах-Бубы: – Ты хотел его съесть, а съем все-таки я! Значит, не ты, а я из породы орлов! – Насвистывая, он удалился той же дорогой, какой и пришел сюда.
Дядя Шах-Буба не ответил ему ни словом. Мы попрощались со старушкой Тенфе и направились в сторону моста через Большую реку.
Мне было жалко Цавдара. Дядя Шах-Буба старался не сжимать орла, чтобы ему не было больно. Цавдар время от времени дергал ногами, а потом опять успокаивался. Наверное, боль пронзала всего его: тело, голову, крылья. Может быть, когда боль немного отпускала, он и пытался вырваться? Или хотел освободиться от этой боли в теле? Иногда он дергал головой, за которую держал его дядя Шах-Буба. Но, видя, что никакие усилия не помогают, ему приходилось мириться со своим положением. Как я понимал, большую, чем раны, боль орлу доставляло его бессилие, невозможность помочь самому себе. В глазах его, помимо испытываемой им боли, сквозили прежняя гордость и ненависть ко мне и к дяде Шах-Бубе, наверное, не забывал он и про дядю Хелефа с бабушкой Тенфе. Пожалуй, в эти минуты Цавдар ненавидел весь окружающий мир. Кто знает, какие еще чувства и желания его обуревали. «Если бы утром Халиса встретилась мне с полным кувшином, может быть, не было бы и этого несчастья…» – подумал я.
Но несчастье Цавдара на этом не закончилось…
Кто только ни приходил во двор дяди Шах-Бубы поглазеть на орла, за ногу привязанного к опоре навеса террасы.
– Ей-богу, ты велик, Шах-Буба! Мы еще никогда не видели, чтобы кто-нибудь поймал орла.
– Не я его поймал, – отвечал дядя Шах-Буба. – Это дело рук Хелефа.
– Хелеф поймал? – сомневались люди. – Такого не может быть!
– Если не верите мне, спросите у Кудрата.
– Да, это так, – подтверждал я.
– Тогда Хелефа надо представить к званию Героя.
– Сам он хочет орден Ленина, – смеялся дядя Шах-Буба.
– Да-а, шут шутом, но скромен!
– Как назвать орлом птицу, которую сумел поймать Хелеф? – насмехался еще кто-то.
Люди смеялись.
– Подкрался и ударил сзади, – сказал я.
На мои слова едва ли кто-нибудь обратил внимания. В глазах людей имя Хелефа роняло Цавдара со своей орлиной высоты. Если бы его поймал дядя Шах-Буба, бедняга не пал бы так низко.
Я думал: желание каждого человека – обрести вместо рук два крыла, оторваться от земли и свободно парить в небе, но человек так не может, ему это не дано. Он может летать лишь на чем-то, самим им созданном, но разве это можно считать свободным полетом? Нет, это совершенно другое, когда человек зависит от конструкции, которую он создал. Пусть он и испытывает чувство обретенной свободы и высоты, но его судьба при этом связана с конструкцией, в которой он находится, она же слепа, она не имеет души, и потому ей все равно, что может произойти с человеком. Вот почему человек, чувствуя свою зависимость, опасается ее… Иное дело – орел. Полет орла – это свободный полет, он летит, куда захочет, летит, сколько хочет. Он сам себе владыка, сам решает свою судьбу, и его жизнь в полете не зависит от чего бы то ни было… Вот почему люди завидуют орлам. Мне показалось, что они пришли во двор дяди Шах-Бубы, чтобы порадоваться унижению Цавдара, но никто не задумывался над тем, действительно ли это можно назвать унижением? Каждый пытался толкнуть его, ткнуть в него палкой, над ним насмехались. Дядя Шах-Буба одергивал их, но все равно и стар, и млад поступали по-своему.
Однако Цавдар оставался Цавдаром. Теперь, окончательно придя в себя, он, наверное, понимал ситуацию, в которую попал. Он, как мог, отвечал тем, кто толкал его, бросался на них, но короткая веревка, крепко удерживающая за ногу, отбрасывала его в сторону. И сломанное крыло Цавдара, подобно серому, прохудившемуся, рваному старенькому паласу расстилалось по земле, не подчиняясь ни телу орла, ни его мозгу. И Цавдар это понимал. Он медленно, бочком-бочком, отходил назад, словно говоря людям: «Ну хватит, достаточно вы меня помучили». Наверное, назад его тянула не веревка, привязанная к ноге, а боль в сломанном крыле. Но люди не думали о боли Цавдара. Они смотрели ему в глаза, и ничего в них не замечали. Люди не привыкли смотреть в глаза, орлам.
Дядя Шах-Буба послал меня за ветеринаром.
– Может быть, он чем-нибудь поможет Цавдару, – сказал он. Но ветеринар не пришел.
– Передай Шах-Бубе, что, если бы ему самому требовалась помощь, я бы пришел. А к обитателям небес я никакого отношения не имею, – ответил ветеринар.
А бывают ли специальные врачи, лечащие птиц, я не знал. Может быть, где-то они и были, но я точно знал, что у нас в селе такого нет. И я, вспомнив доктора Назима, пошел к нему. Хорошо, что он пришел. Хотя он не оказал никакой помощи, его посещение пошло на пользу Цавдару.
– Тут ничего особенного, – сказал доктор Назим дяде Шах-Бубе. – Это же орел! Обладает здоровьем, что твой бык. Крыло срастется само по себе. Только хорошо корми. – Это были его обычные диагноз и рецепт. Но Цавдару помогли другие слова доктора, обращенные к собравшимся: – Не трогайте, оставьте его в покое! Да вы посмотрите, как он держится, какая гордость светится в его глазах! И со сломанным крылом он остается орлом! Хоть немного уважайте это.
От слов доктора люди как будто пришли в себя. Теперь они стали кормить орла кусочками хлеба, зерном, маленькие дети бросали ему даже конфеты. Но подобное проявление щедрости Цавдару, наверное, казалось оскорбительным. Он ничего не ел. Он не привык есть привязанным, находясь в плену. Из толпы, неожиданно изменившейся, обернувшейся доброй и щедрой, никто и не подумал дать ему свободу. Люди оставались верны своей природе: на все живое, кто лишился свободы (в том числе и на самих себя), сначала они смотрят косо, даже радуясь, подвергают пленника унижениям и оскорбляют, а потом привыкают к его положению и даже начинают его жалеть. Точно так же отнеслись они и к Цавдару. Теперь они жалели Цавдара и из жалости оказывали ему щедрости. Это и чувствовал оскорбленный Цавдар и отказывался от подачек…
Через два дня к Цавдару, кроме детишек магала, никто уже не приходил. И только дядя Шах-Буба помнил о том, что ему надо дать свободу.
– Вижу, Цавдар, ты ничего не ешь, – разговаривал он с Цавдаром. – Я знаю, что желает твое сердце. Ты бы хотел свежего мяса… Ничего, и его ты получишь. Потерпи немного… С моих рук ты тоже не будешь есть? Ведь я тебе старый друг, кунак твой…
Дядя Шах-Буба обладал способностью видеть, что творится в сердце орла. Но никто не видел, какая тоска-кручина обуревает сердце его самого, какие несбывшиеся мысли и желания угнетают его… Если не считать моих дедушки и бабушки… И если не считать меня… Лишь один человек мог исполнить его желания – один-единственный сын Севзихан, живущий в одном из далеких городов России. Он хотел, чтобы сын насовсем, с семьей приехал в село, жил на земле предков и здесь продолжил свой род.
Севзихан после того, как по своему усмотрению, без благословения родителей, обзавелся семьей, приезжал только один раз – на похороны матери. Приезжал один, без семьи. Больше он у нас не показывался… Каждое лето, когда в село из городов приезжали наши односельчане вместе со своими маленькими детьми, дядя Шах-Буба маялся в ожидании, не зная, на кого излить свою любовь, предназначенную для внуков, которых он никогда не видел. Уж который год он берег бочонок вина, чтобы откупорить его по приезде сына и внуков…
1
Кутал – корзина без ручек с высокими краями.
2
Тач – похлебка, приготовленная на солоде.
3
Газер-паша – ящичек для хранения стаканов.
4
Рег – инструмент из дерева с небольшими и неострыми железными зубчиками, используемый для прибивания ковровых рядков.
5
Магал – квартал села.
6
Вах! – возглас удивления.
7
Ким – место, где в свободное от работы время собирается часть взрослого мужского населения.
8
Архаш – место пастьбы скота в окрестностях загона в горах.
9
Хар – специальная печка для выпечки хлеба.
10
Сабур – терпение, хладнокровие.
11
Кюсри – маленький стул.
12
Маншалла – выражение одобрения: молодец, не сглазить бы!
13
Шаламы – чарыки из сыромятной кожи.
14
Бутень – съедобный корнеплод.
15
Сират – по поверьям мусульман, мост, служащий для испытания верующих; праведники по нему проходят в рай, а грешники попадают в ад.
16
Шарвили – главный персонаж лезгинского эпоса.
17
Тавхана – гостиная.
18
Авчи Прим – охотник Прим, персонаж лезгинских народных сказок.
19
Нукеры – слуги, подручные.
20
Аманат – вещь, отданная на хранение, или живое существо, порученное кому-либо для присмотра.
21
Пир – святой. Пиром называется также могила святого.
22
Зиярат – место религиозного поклонения у мусульман.
23
Срединная река – так лезгины называют реку Самур.
24
Мугань – степь, которая служила зимними пастбищами для отар лезгинских овцеводов.
25
Замзам – источник в раю.
26
Шутку – женский головной убор, под который прячут волосы.
27
Хилеш – стеганая безрукавка.
28
Булушка – платье.