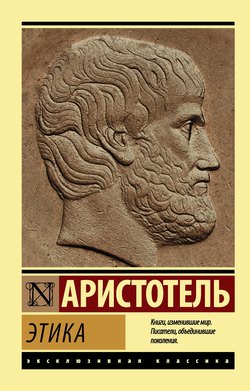Читать книгу Этика - Аристотель - Страница 4
Этика. К Никомаху
Книга III
[О свободе воли, § 1–8. О мужестве, § 9–12. Об умеренности (σωφφοσι’νη), § 13–15]
Оглавление§ 1. Имея в виду, что добродетель касается аффектов и действий и что произвольное похваляется и порицается, в то время как непроизвольному уделяется снисхождение, а иногда даже сожаление, имея в виду это, необходимо человеку, рассматривающему добродетель, определить понятия произвольного и непроизвольного; и законодателям это полезно ради почетных наград и наказаний.
Кажется, то непроизвольно, что совершается по насилию или незнанию. Принцип насильственного действия лежит вне действующего лица, и притом так, что действующее или страдающее лицо вовсе не причастно самому действию, например, если ветер или сильные люди перенесут кого-либо. Возникает сомнение – назвать ли произвольным или непроизвольным то действие, которое совершается из страха больших бедствий или ради чего-либо прекрасного, например, когда тиран, в руках которого наши родители и дети, прикажет совершить что-либо постыдное, исполнение чего спасет их, неисполнение же погубит. Нечто подобное случается и во время бури, когда выбрасывают имущество за борт. Говоря безусловно, ни один человек произвольно не выбросит своего имущества, но всякий благоразумный человек сделает это ради собственного спасения и спасения остальных. Итак, подобные действия имеют смешанный характер, но более похожи на произвольный; во время их совершения они подлежат выбору, но цель действия определена обстоятельствами [ϰατά τον ϰαιρον] [и не подлежит выбору], так что во время их осуществления их можно назвать и произвольными, и непроизвольными. Действующее лицо всегда действует произвольно, ибо принцип, приводящий в движение члены организма, в подобных действиях заключен в самом деле; а в тех случаях, когда принцип действия находится в самом лице, от него же зависит и выбор – действовать или нет. Итак, и подобные [смешанные] действия произвольны; но, рассматривая их безотносительно, придется, пожалуй, назвать их непроизвольными, ибо ведь никто сам по себе не выбрал бы ничего подобного. Иногда подобные действия хвалятся, например, если люди берут на себя нечто постыдное или сопряженное со страданием ради великого и прекрасного; в противном случае их порицают, ибо только дрянной человек переносит постыднейшее без какой-либо прекрасной или полезной цели. Иногда же подобные действия находят себе не похвалу, но снисхождение, например, в том случае, когда кто-либо поступает не так, как следовало бы – при обстоятельствах, превышающих силы человеческой природы, при которых никто бы не устоял. Но существуют такие вещи, которых никакая сила не должна заставить сделать, а скорее следует умереть, испытывая страшнейшие страдания: так например, смешно утверждать, что Алкмеон в трагедии Еврипида был принужден убить свою мать. Трудно иногда бывает определить, какое действие из двух возможных следует выбрать и какое зло из двух перенести, а еще труднее держаться того, что признано истинным. В большинстве случаев или человека ожидает страдание, или то, к чему его принуждают, постыдно, а похвала или порицание следует сообразно с тем, дозволит ли он себя принудить, или нет. Итак, какие действия должно назвать [вынужденными, βίαια] насильственными? Говоря безусловно – те, причина которых заключается во внешних обстоятельствах, когда действующее лицо непричастно к действию; те же, которые сами по себе непроизвольны, но в данное время и при данных обстоятельствах подлежат выбору и принцип которых находится в действующем лице, эти, будучи сами по себе непроизвольными, в данное время и при данных обстоятельствах произвольны. Они более подобны произвольным, ибо действия всегда имеют дело с частным, а это-то произвольно; но трудно сказать, что ему следует предпочесть, ибо частное всегда имеет множество различий. Если же кому-либо показалось, что и приятное, и прекрасное заключает в себе принуждение (ведь и они, будучи вне нас, принуждают нас), то в таком случае все придется назвать насильственным, ибо эти понятия определяют всю деятельность людей. Но люди, делающие что-либо под влиянием принуждения и непроизвольно, испытывают страдание; напротив, они испытывают наслаждение, если делают что-либо под влиянием приятного и прекрасного. Смешно обвинять внешние условия, а не себя самого в том, что поддался им, или приписывать себе прекрасные действия, а постыдные извинять приятностью их. Итак, кажется, что то действие вынуждено, принцип коего находится вне действующего лица и при коем человек, действующий по принуждению, непричастен самому действию.
§ 2. Что касается действий по неведению, то они в общей сложности не могут быть названы произвольными, но непроизвольными лишь тогда, когда они сопряжены со страданием и раскаянием, ибо тот, кто что-либо сделал пo неведению, но не раскаивается в своем действии, не действовал произвольно, так как не знал того, что делает, но и не непроизвольно, ибо он не чувствует горести; поэтому кажется, что человек, действующий по неведению и испытывающий впоследствии раскаяние, действует непроизвольно, а про того, который не испытывает раскаяния, мы для различия от первого скажем, что он не действовал произвольно; так как он отличается от первого, то лучше назвать его особым именем. Далее существует, кажется, различие действия по неведению от того, когда кто-либо действует не сознавая; так, пьяный или разгневанный, кажется, не действует по неведению, но все же по одному из указанных мотивов; он действует не зная, то есть не сознавая. Но и всякий дурной человек не знает, что должно делать и чего избегать, и в силу именно этой ошибки люди становятся несправедливыми и вообще дурными.
Понятием непроизвольного мы не хотим сказать того, что кто-либо вовсе не знает полезного, ибо ведь преднамеренное незнание не есть причина непроизвольного действия, а причина порочности, и ведь не незнание вообще (за подобное незнание людей порицают), а незнание частных обстоятельств, которых касается и в которых проявляется действие; этими частными обстоятельствами и объясняется сожаление и снисхождение. Тот, кто не знает одного из частных обстоятельств, поступает непроизвольно. Итак, может быть, недурно определить эти обстоятельства, каковы они и сколько их, кто именно действующее лицо, в чем состоит самое действие, ради какой цели и при каких условиях лицо действует. Иногда [полезно знать], чем совершает он свое действие, например каким инструментом, ради чего, например ради собственного спасения, и каким образом, например спокойно или в волнении. Все эти условия разве только одному сумасшедшему неизвестны. Ясно также, что и действующее лицо должно быть известно, ибо как может быть, чтобы кто-либо сам себя не знал? Может случиться, что кто-либо не знает того, что он делает, как например, говорят: «это сорвалось с языка», или: «они не знали, что об этом запрещено говорить» (как это случилось Эсхилу по отношению к мистериям), или как это случилось тому, кто извинялся тем, что хотел лишь показать оружие, а оно выстрелило. Может также случиться, что кто-либо примет своего сына за врага (как это случилось с Меропой), или заостренное копье примет за тупое, или камень примет за пемзу. Далее может случиться, что кто-либо для собственного спасения ударит противника и убьет его, или же, наконец, кто-либо, желая показать, как следует выпадать при фехтовании, поранит кого-либо. Так как неведение может касаться всех приведенных обстоятельств, при которых совершается действие, то непроизвольно действие того, кто не знает одного из подобных обстоятельств, и, как кажется, тем непроизвольнее, чем важнее обстоятельство [которого он не знает]: самые же важные обстоятельства касаются предмета и цели действия, однако для того, чтобы назвать какое-либо действие непроизвольным в силу неведения одного из таких обстоятельств, необходимо, чтобы за действием следовало страдание и раскаяние.
§ 3. Если непроизвольны те действия, которые совершаются по принуждению и по неведению, то произвольными, как кажется, следует назвать те, принцип коих находится в самом действующем лице, и которые совершаются, когда все обстоятельства, касающиеся какого-либо действия, известны действующему лицу. Кажется, что неверно называют непроизвольными действия, совершаемые под влиянием страсти или сильного стремления: во‐первых, потому, что в таком случае ни одно из животных, кроме человека, ни дети не имели бы произвольных действий; во‐вторых, разве ни одного нашего действия под влиянием страсти и стремления нельзя назвать произвольным? Или же прекрасные можно назвать произвольными, а постыдные непроизвольными? Но разве это не смешно? Ведь причина их одна и та же. Нелепо также считать произвольным то, к чему следует стремиться; а ведь наш долг возмущаться в известных случаях и стремиться к известным вещам, например к здоровью или науке. Сверх того, кажется, что непроизвольное сопряжено со страданием, а то, что соответствует нашему стремлению, сопряжено с наслаждением. Наконец, чем отличаются проступки, совершаемые под влиянием страсти, от совершаемых с размышлением? И тех и других следует избегать, и, как кажется, неразумные аффекты не менее свойственны природе человека. В страсти и стремлениях заключается источник человеческой деятельности. Итак, подобное определение непроизвольного нелепо.
§ 4. Определив понятие произвольного и непроизвольного, нам следует разобрать намерение, ибо оно по преимуществу связано с добродетелью, и по нему лучше судить о характере, чем по действиям. Намерение есть нечто произвольное, однако понятия эти не тождественны: объем понятия произвольного обширнее, ибо в произвольной деятельности участвуют и дети, и животные, но не в намерениях; внезапные действия мы называем произвольными, но не преднамеренными. Те, как кажется, ошибаются, которые называют намерение стремлением, или страстью, или волей, или известного рода представлением, ибо неразумные существа не имеют намерения, а имеют стремление и страсть, и невоздержанный действует под влиянием стремления, но не преднамеренно, в то время как воздержанный, напротив, действует преднамеренно, но не под влиянием стремления. Далее, стремления противодействуют намерению, а стремление не противодействует стремлению. Наконец, стремление касается наслаждения и страдания, намерение же не имеет дела ни со страданием, ни с наслаждением; еще менее намерение может быть названо страстью, ибо то, что совершается под влиянием страсти, менее всего кажется преднамеренным. Но и волей намерение не может быть названо, хоть оно и кажется родственным ей. Намерение никогда не имеет дела с невозможным, и если бы кто сказал, что он намерен сделать невозможное, то он показался бы дураком. Желание [воля] же может касаться невозможного, например бессмертия. Воля может далее касаться и того, что совершенно [4]не в нашей власти, например [мы можем желать], чтобы актер или атлет одержал победу; но ни у кого не является намерения относительно подобного, а лишь относительно того, что, как он думает, в его власти. Сверх того, воля имеет более в виду цель, намерение же – средства; так, мы хотим быть здоровыми, но намереваемся делать то, что нам даст здоровье; мы хотим блаженства, – так ведь это и говорится, однако язык не дозволяет сказать: мы намереваемся быть блаженными. Вообще говоря, кажется, что намерение имеет дело с тем, что в нашей власти (τά έφ’ φαϊν). Но и представлением (δοξσ) нельзя назвать намерение. Ведь кажется, что представление может простираться на все, как на вечное и невозможное, так и на то, что в нашей власти; представления различаются истинностью и ложностью, а не добром или злом, намерение же более подходит под эту последнюю категорию; но верно, никто вообще не скажет, что намерение тождественно с представлением; но оно не тождественно и с каким-либо одним определенным представлением; ибо наш характер зависит от того, на что направлены наши намерения, на хорошее или на дурное, а не зависит от представлений. Намерения наши говорят нам – добиваться ли нам чего-либо, или избегать, или нечто подобное, а представления – что такое предмет, кому и каким образом он полезен. Наши представления не могут определить, чего следует добиваться и чего избегать. Намерение хвалят, когда оно сообразуется с долгом и с тем, что правильно, представление – когда оно истинно. Наконец, мы намереваемся осуществить благо, которое нам хорошо известно, представления же мы образуем и относительно того, что нам не известно. К тому же кажется, что лучшие намерения и лучшие представления встречаются не у одних и тех же людей, а некоторые имеют обширный разум, но вследствие порочности характера выбирают не то, что должно. Все равно, предшествует ли представление намерению, или следует за ним, ибо не в этом вопрос, а в том, тождественно ли намерение с каким-нибудь одним представлением. Итак, какое намерение и каковы его свойства, если оно не подходит ни под одну из указанных категорий? Во всяком случае, намерение есть нечто произвольное, хотя не все, что произвольно, есть намерение. Может быть, оно есть нечто, что человек ранее взвешивал в своем уме (προβεβούλέυρενον), ибо ведь всякому намерению свойственны paзум и размышление; на это указывает и самое имя προάρεσις: оно есть нечто, что избирается преимущественно перед другими.
§ 5. Что касается размышления с целью выбора, делиберации, то возникает вопрос: относится ли оно до всего, или же есть нечто, не подлежащее делиберации? Должно заметить, что не то подлежит делиберации, о чем, может быть, стал бы делиберировать глупый или сумасшедший человек, но то, о чем делиберирует разумный человек: о вечном никто не делиберирует, как например, о строении мира или несоизмеримости диаметра и окружности; не делиберируют также и относительно того, что хотя и находится в движении, но таком, которое всегда однообразно, все равно, будет ли причина однообразия находиться в необходимости, или в природе, или в какой-либо иной причине, как например, в восходе и заходе солнца; не делиберируют также и о том, что совершается раз так, раз иначе, например, засуха и дождь; не делиберируют также и относительно того, что с[5]лучайно, например, находка клада. Даже не обо всех обстоятельствах человеческой жизни делиберируют, например, никто из Лакедемонян не станет делиберировать о том, какое государственное устройство лучше все же для скифов, ибо это и тому подобное не зависит от нас. Делиберируем же мы о том, совершение чего в нашей власти, и это-то и остается нам исследовать. Как кажется, существуют следующие причины: природа, и необходимость, и случай, и разум, и все то, что совершается человеком. Люди делиберируют о том, что может быть выполнено ими. Нет места делиберации в точных и совершенных науках; например, о буквах мы не спорим, как их следует писать; делиберируем же мы о том, что совершается нами, и не всегда одинаковым образом, например, о врачебном искусстве и о финансовом; и об искусстве управлять кораблем мы более делиберируем, чем о гимнастике, так как первые менее определенны. То же должно сказать и об остальных [науках и искусствах], но более об искусствах, чем о науках, так как мнения относительно первых более расходятся. Делиберация касается того, что часто случается [но не всегда одинаковым образом], но исход чего неясен, и что само по себе неопределенно. Если дело важно, то мы берем советников, не доверяя себе и достаточности собственного размышления. Делиберируем мы не о целях, а о средствах, ибо ведь врач не делиберирует о том, следует ли ему вылечить, или оратор – следует ли ему убедить, или государственный деятель – следует ли ему водворить порядок, и вообще никто из им подобных не делиберирует о цели, но, положив себе какую-либо цель, они смотрят, каким образом и какими средствами выполнить ее, и если средств оказывается несколько, то они смотрят, как достичь цели наилегчайшим и наилучшим образом; если же одно средство ведет к цели, то они размышляют, каким образом оно действует и как ее достигнуть, пока не дойдут до первой причины, которую исследователь находит последней, ибо делиберирующий человек, как видно из сказанного, исследует и разбирает свой предмет, как геометрическую задачу. Однако не всякое исследование в то же время и делиберация, например математическое; но всякая делиберация есть в то же время исследование, и то, что последнее в анализе, первое по генезису. Если при исследовании причин люди наталкиваются на невозможное, то они отказываются [от проекта], например, если необходимы деньги и их достать они не в состоянии; если же [средства] оказались возможными, то приступают к выполнению: возможны те средства, найти которые в нашей власти; то, что делается при посредстве наших друзей, в известном смысле есть то же, что совершено нами, ибо принцип действия находится в нас. Вопрос при этом может касаться или самих инструментов, или же употребления их, и точно так же по остальным категориям: чем? каким образом? кто действующее лицо? Оказывается, как мы сказали, что человек – принцип своих действий, и что делиберация касается действий, им совершаемых, и что действия [суть средства], предпринимаемые ради цели, отличной от них. Итак, предметом делиберации не может быть цель, но лишь средства к цели, а также не может быть им и частное и единичное, например, хлеб ли это, и испечен ли он, как следует: определяет это – ощущение. Если бы кто-либо вечно делиберировал, то он запутался бы в бесконечном ряде [εϊς άπειρον ήξει].
Итак, намерение и делиберация одно и то же, с той лишь разницей, что намерение – нечто уже определенное. Намерение – то, на что человек решился на основании делиберации, ибо всякий человек тогда прекращает исследование и приступает к действию, когда выполнение решения зависит от него; тогда принципом действия становится разум, правящий человеком. Ясно это и на древних государственных устройствах, упоминаемых Гомером, ибо в них цари возглашали народу лишь о том, что уже решено. Итак, если намерение имеет дело с делиберацией и со стремлениями к тому, что в нашей власти, то намерение можно определить так: оно есть стремление, касающееся того, что в нашей власти, и управляемое делиберацией. Решившись после делиберации, мы действуем по ее указаниям. В общих чертах сказано о намерении и о том, чего оно касается, и что оно относится лишь к средствам.
§ 6. Что касается воли, то уже сказано, что она имеет в виду цель; одним кажется, что эта цель – благо, другим – кажущееся благо. Выходит, по мнению тех, кто полагает благо целью воли, что тот человек, который неправильно выбирает, вовсе не хочет того, к чему он стремится (ибо если б он хотел этого, то оно должно бы быть благом, а в данном случае оно – зло). А по мнению людей, утверждающих, что предмет воли – кажущееся благо, выходит, что воля по своей природе вовсе не определена, а для каждого цель есть то, что ему кажется благом. Но одному благом кажется одно, другому другое, и может случиться, что противоречащее [одному и тому же человеку покажется благом]. Если подобное определение неудовлетворительно, то не следует ли признать, что, говоря безусловно и по истине, воля стремится к благу, но воля каждого отдельного человека – к кажущемуся благу, то есть воля нравственного человека стремится к истинной цели, воля порочного – к случайной, подобно тому, как для тела людей, находящихся в нормальном состоянии, то здорово, что поистине здорово, а для больных – другое; то же самое относится и к горькому, и к сладкому, и к теплому, и к тяжелому и т. д. Нравственный человек об этом судит верно, и то истинно в каждом отдельном случае, что ему кажется таковым, ибо каждый человек имеет свое собственное представление о прекрасном и приятном, и в том, может быть, и заключается величайшее преимущество нравственного человека, что он в каждом отдельном случае находит истину, будучи как бы мерилом и законом ее. Наслаждение же обманывает большинство людей, ибо оно, не будучи благом, кажется таковым; поэтому-то люди выбирают приятное, считая его благом, и избегают страдания, считая его злом.
§ 7. Итак, если воля имеет дело с целью, а делиберация и намерение – со средствами, то действия, касающиеся последних, можно назвать намеренными и произвольными. Деятельность добродетелей проявляется именно в этой сфере, следовательно, и добродетель в нашей власти, а точно так же и порочность, ибо мы властны действовать во всех тех случаях, в которых властны воздержаться от действия, и везде, где мы властны сказать «нет», там мы властны сказать и «да». Следовательно, если прекрасные действия в нашей власти, то и постыдные действия в нашей власти, и если в нашей власти воздержание в тех случаях, в которых оно прекрасно, то и действия в тех случаях, в которых они постыдны, в нашей власти. А если прекрасная и постыдная деятельность в нашей власти, а равно и воздержание, и если добродетель и порочность именно в этом и заключаются, то, значит, в нашей власти быть нравственными или порочными людьми. Что же касается изречения: «никто не порочен по доброй воле, и никто не блажен против воли», то оно частью ложно, частью истинно: действительно, никто не блажен против воли, но порочность произвольна, или нам пришлось бы противоречить только что сказанному и не признать человека принципом и родителем как своих действий, так и детей. Если же это справедливо и если мы не можем подвести [нашу деятельность] под иные принципы помимо того, что в нашей власти, то следовательно, и то, принципы чего в нашей власти, должно быть в нашей власти и произвольно. Это подтверждается как частной жизнью отдельных людей, так и деятельностью законодателей, ибо они наказывают и преследуют поступающих дурно, за исключением тех случаев, когда эти действуют под влиянием насилия или по сведению, в чем они неповинны, в то время как они [законодатели] награждают почестями поступающих прекрасно, для того чтобы одних вознаградить, а других устрашить, а никто не побуждает к тому, что не в нашей власти и непроизвольно, так как совершенно бесполезно убеждать человека не испытывать жара, или не испытывать холода, или не голодать, или вообще что-либо подобное, так как мы тем не менее будем испытывать это. И незнание наказуется в том случае, если окажется, что человек сам виновен в своем незнании, как например, на пьяных налагается двойное наказание, так как принцип действия – в нем: ведь в его власти было не напиться, а пьянство и есть причина незнания. Точно так же они [законодатели] наказывают тех, кто не знает какого-либо закона, который следует и не трудно знать. Подобным же образом они поступают и в других случаях, в которых незнание, кажется им, зависит от небрежности, так как во власти людей не быть в неведении, ибо небрежность в нашей власти. Но может быть [кто-либо возразит], что он по своему характеру не способен заботиться; но ведь люди сами виновны, что стали такими, живя распутно; сами виновны и в том, что они несправедливы или невоздержанны, так как одни проводили жизнь в преступлениях, другие в пьянстве и т. п. Ведь под влиянием деятельности, имеющей дело с частным, слагается известный характер человека. Это ясно и на тех, которые ревностно заняты каким-либо состязанием или работой, ибо они все время деятельны в одном направлении. Незнание того, что характер приобретается деятельностью относительно частных явлений, поистине достойно глупца. Нелепо также утверждать, что поступающий несправедливо не хочет быть несправедливым или что невоздержанный не хочет быть невоздержанным, и если кто не по незнанию совершает несправедливые дела, то он – несправедлив по доброй воле. Правда, что несправедливому недостаточно одной доброй воли, чтобы перестать быть несправедливым и стать праведным: ведь и больной не становится [в силу одной своей воли] здоровым, хотя может случиться, что он болен по собственной воле, в силу невоздержанной жизни и неповиновения врачам. Было некогда время, когда ему было возможно не болеть; теперь же, когда время пропущено, это более невозможно, точно так же как невозможно удержать брошенный камень, однако кинуть или бросить его было во власти человека: принцип действия находился в самом человеке. То же относится и к несправедливому и невоздержанному: сначала было в их власти не становиться таковыми, поэтому-то они произвольно такие, а не иные, а как скоро они сделались такими, то уже не в их власти перестать быть ими. И не только душевные пороки произвольны, но у некоторых людей даже и телесные, поэтому-то их и хулят; кто природой обезображен, того никто не хулит, а только тех, которые обезображены от недостатка телесных упражнений и небрежности; то же относится и к телесной слабости и искалечению: никто не станет бранить слепого от природы, или от болезни, или от удара, а станет жалеть его; но всякий станет хулить [ставшего слепым] от пьянства или иного вида невоздержанности. Итак, порицаются те телесные недостатки, которые в нашей власти; те же, которые не в нашей власти, – нет. Если это так, то, вероятно, и остальные порицаемые недостатки в нашей власти. Но, может быть, кто-либо скажет, что все стремятся к кажущемуся благу и что никто не властен в своих представлениях, а что каждый, смотря по качествам своего характера, стремится к тому, что ему кажется благом. Но если всякий в известном отношении виновник собственного характера, то он в известном отношении может быть назван и виновником своих представлений; если же это не так, то никто перед собственным сознанием не виновен в своих проступках, но поступает так вследствие незнания истинных целей, думая достичь подобным образом действий того, что лучше всего для него. Стремление же к истинной цели не подлежит личному выбору, а человеку должно родиться с этим стремлением, как со зрением, для того чтобы хорошо судить и выбрать истинное благо. Тот «благородный человек» (εύφυης), кто от природы имеет это качество в совершенстве, и такой человек будет владеть величайшим и прекраснейшим, чего нельзя ни получить от другого, ни научиться, но можно лишь иметь от природы; совершенное и истинное благородство и заключается, вероятно, в том, чтобы иметь эти хорошие и прекрасные качества от природы.
Если все это справедливо, то чем же добродетель произвольна более порока? И тому и другому, и добру и злу в одинаковой мере цель положена и определена природой или чем бы то ни было, и люди, как бы они ни поступали, имеют в виду все же эту цель. И если цель, какова бы она ни была, не является каждому от природы, а зависит хотя несколько и от самого человека, или если цель и определена природой, но все остальное нравственный человек делает произвольно, тогда добродетель произвольна, но, вероятно, и порок не менее первой произволен, так как дурной человек точно так же властен в средствах, которыми он действует, хотя бы он не был властен в цели. Итак, если добродетели, как признается всеми, произвольны (так как мы в известном отношении соучастники образования нашего характера и так как мы задаемся целями, сообразными нашему характеру), то и пороки следует признать произвольными, ибо о них можно сказать то же, что и о добродетелях.
§ 8. Итак, в общей сложности нами сказано о добродетелях, что они по родовому своему понятию – середина, что они суть приобретенные свойства души; далее указано, из чего они возникают и что они в той же сфере проявляются, из которой возникли; далее, что они в нашей власти и произвольны, и что они следуют указаниям истинного разума. Но степень произвольности действий и приобретенных свойств души не одна и та же, ибо действия с самого начала и до конца в нашей власти, так как мы всегда знаем частное [с чем имеет дело действие]; приобретенные же свойства души произвольны лишь сначала, и мы не замечаем в частностях постепенного сложения нашего характера, подобно тому, как это и в болезнях; душевные свойства потому произвольны, что от нас зависело воспользоваться ими так или иначе.
§ 9. Обращаясь к каждой отдельной добродетели, мы разъясним природу их, границы и образ их действия. Вместе с тем выяснится и число их. Мы начнем с мужества. Уже ранее было сказано, что мужество – середина страха и отважности; страшимся же мы очевидно того, что внушает страх, а это, говоря безотносительно, есть зло; поэтому-то и страх называют ожиданием зла. Мы страшимся всяких зол, например бесчестия, бедности, болезни, и страшимся не иметь друзей, страшимся смерти; но мужество не ко всему этому относится. Ведь есть вещи, которых следует бояться и страшась коих, человек поступает прекрасно, а не страшась – постыдно, например бесчестие: кто страшится его, тот человек хороший и стыдливый, кто же не страшится – бесстыдный. Правда, и такой называется некоторыми мужественным, но лишь метафорически, ибо он имеет нечто общее с мужественным, который в известном смысле тоже бесстрашен. Кажется, бедности не следует страшиться, и болезни тоже, и вообще не следует страшиться всего того, источник чего не есть нравственное зло и что не во власти самого человека. Итак, не того называют мужественным, кто не страшится перечисленных вещей; называют, правда, и подобного человека мужественным в силу известного сходства, ибо случается, что люди, трусливые в опасности, оказываются щедрыми и бодро переносят потерю денег. Тот еще не трус, кто боится поругания детей и жены, или зависти, или чего-либо подобного; точно так же не мужествен еще и тот, кто спокойно ожидает бичевания. Итак, в силу каких вещей, возбуждающих страх, человека называют мужественным? По отношению ли к наиболее страшному? Ведь никто лучше мужественного не перенесет страшное. Самое страшное – смерть, она – конец; кажется, что для умершего нет более ни блага, ни зла; кажется, однако, что не во всех случаях отношение к смерти определяет собой мужественного, например, на море или в болезнях. В каких же случаях? Не в самых ли прекрасных? А такие на войне, ибо здесь величайшая и в то же время прекраснейшая опасность. В пользу такого мнения свидетельствуют те почести, которые воздаются [воинам] как в республиках, так и монархами. Итак, в собственном значении слова, мужественным называется тот, кто безбоязненно идет навстречу прекрасной смерти и всем обстоятельствам, ведущим к непосредственной смерти, а такие встречаются чаще всего на войне. Конечно, мужественный и на море, и в болезнях бесстрашен, но не так, например, как моряки. Ибо первые в таких случаях отбрасывают всякую надежду на спасение и негодуют на подобную смерть, вторые [моряки] питают надежду на спасение вследствие своей опытности. Сверх того, первые привыкли выказывать мужество в тех случаях, в которых можно проявить силу и в которых прекрасно умереть. В указанных случаях ни то, ни другое невозможно.
§ 10. Страшное не для всех одно и то же; бывает страшное, превышающее силы человеческие: это последнее во всех разумных возбуждает ужас. А то, что страшно людям, отличается большей или меньшей степенью; то же самое следует сказать и о предметах, возбуждающих отвагу. Мужественный – непоколебим, насколько это возможно человеку; поэтому он страшится опасностей, но так страшится, как следует, как приказывает разум и ради прекрасной цели; в этом и заключается цель добродетели. Можно, однако, страшиться подобных вещей то в большей степени, то в меньшей; можно даже бояться того, что само по себе не страшно. Ошибки здесь возникают в силу того, что человек страшится того, чего не следует, или не так, как следует, или не тогда, когда следует, и в силу тому подобных причин. То же самое должно сказать и о том, что возбуждает отвагу. Итак, тот человек мужествен, который переносит то, что следует, и страшится того, чего следует страшиться, и ради той причины, ради которой следует, и в то время и таким способом, каким следует. Это же должно сказать и об отважном. Мужественный страдает и действует соразмерно и разумно. Цель всякой энергии соответствует приобретенному свойству души человека; поэтому мужественному кажется прекрасной храбрость, а ее осуществление составляет его цель. Ради прекрасного мужественный человек берет на себя и совершает дела, требующие храбрости. Человек, переступающий границы в бесстрашии, не имеет названия (мы уже ранее заметили, что многое не имеет названия), такой походил бы на беснующегося и бесчувственного, если б он не боялся ни землетрясения, ни бури, как это рассказывают про кельтов. Того же, кто переступает границы отважности, мы называем безумно отважным ϑρασύς); такой уподобляется хвастуну, и отвага его кажется напускной; он желает по отношению к опасностям слыть тем, чем храбрец является в действительности; он, где может, подражает храбрости: поэтому-то большинство из них отважны на словах и трусы на деле; они храбрятся только, а перед действительной опасностью не устоят. Человек, преступающий меру страха, называется трусом, ибо такому человеку свойственно бояться того, чего не следует и так, как не следует, и проч.; сверх того, он слишком мало самонадеян; это особенно проявляется тем, что он не знает границ печали. Трус – в некотором роде «неуверенный» человек, ибо он всегда боится; ему противоположен мужественный, ибо самоуверенному свойственно быть отважным. Итак, трус, отважный и мужественный человек имеют дело с теми же самыми предметами, но отношение их к ним различное. Двое из них переступают границы то в сторону излишка, то в сторону недостатка, в то время как третий держится середины и должного. Далее, отважные слишком поспешно и охотно бросаются в опасности, но не оказываются в них стойкими; мужественные, напротив, быстры в самих делах, а перед тем спокойны.
§ 11. Итак, мужество, как сказано, есть середина по отношению к тому, что возбуждает отважность и страх, и именно в тех случаях, о которых упомянуто. Мужество избирает середину и оказывается в ней стойким, потому что оно прекрасно, и потому что противоположное позорно. Мужественный человек не умирает, чтоб избежать бедности или несчастной любви, или иного чего-либо, сопряженного со страданием: это скорее дело труса. Изнеженный человек избегает трудностей, и идет он на смерть не потому, что это прекрасно, а потому, что желает избежать зла.
Итак, мужество есть нечто, подобное тому, что нами описано; понятие это употребляется еще в пяти значениях: во‐первых, в политическом. Политическое мужество более всего походит [на истинное мужество]. Кажется, что граждане потому выносят опасности, что закон полагает, с одной стороны, бесчестие и позор, с другой – почести. Поэтому-то те народы самые мужественные, у коих трусы считаются бесчестными, а храбрость пользуется почетом. Таковыми изображает людей и Гомер, как, например, Диомеда и Гектора: «ІІолидамант первый заклеймит меня позором», и Диомед [восклицает]: «Гектор некогда скажет, обращаясь к Троянцам: Диомед [от меня к кораблям убежал, устрашенный]».
Итак, этот вид мужества более всего походит на первый, описанный нами, так как его источник – добродетель; он возникает из чувства стыда и стремления к прекрасному (то есть почести) и отвращения к позору, как к дурному. К этому же виду можно отнести и [мужество] тех, которые действуют по принуждению начальников; но их мужество ниже по степени, так как они действуют под влиянием страха и избегают не того, что постыдно, а того, что причиняет страдание. Властители их принуждают; как например, Гектор [говорящий]: «Кого я увижу вдали от битвы укрывающегося, тому не избежать растерзания собаками». Так же поступают военачальники, которые бьют солдат, когда они отступают, и те, которые располагают солдат перед оврагом или перед чем-либо в этом роде; все они принуждают [к мужеству], а мужественным следует быть не по принуждению, а потому, что это прекрасно. Как кажется, и опытность в частностях есть своего рода мужество; поэтому-то Сократ полагал, что мужество состоит в знании; одни люди опытны в одном, другие – в другом, солдаты же опытны в делах войны; в войне многое внушает напрасный страх, и это отлично известно опытным солдатам, поэтому-то они кажутся мужественными тем, которые не знают этого. Далее они, особенно в силу своей опытности, умеют наносить ущерб и не терпеть его, так как они умеют пользоваться оружием и обладают таким вооружением, которое особенно удобно к нападению на других и к защите самого себя; итак, они находятся в положении вооруженного, сражающегося с невооруженным, или атлета, сражающегося с человеком, незнакомым с кулачным боем; ведь и в последнего рода состязаниях не те суть самые способные к сражению, которые наиболее мужественны, а те, которые наиболее сильны и имеют более крепкое тело. И наемные солдаты становятся трусами, когда опасность делается слишком великой и когда они уступают врагам численностью и вооружением. Они первые убегают, в то время как ополчение граждан остается на поле сражения и гибнет, как это случилось на Гермесовом поле. Гражданам бегство кажется постыдным, и они предпочитают смерть спасению бегством. Наемные же солдаты с самого начала лишь в том случае решаются подвергнуться опасности, когда знают, что они сильнее противников; заметив же противное, они убегают, страшась смерти более позора. Мужественный не таков.
Гнев также причисляют к мужеству; ведь и те кажутся мужественными, которые в гневе подобны диким зверям, кидающимся на ранивших их; к тому же мужественные гневливы (θυμοειδής], ибо гнев более всего заставляет подвергать себя опасностям; поэтому-то Гомер говорит (Ил. 16, 159): «Гнев дал ему силы»; (Ил. 15, 510) «возбудил в нем ненависть и гнев»; (Од. 24, 318) «и закипела в нем кровь». Все эти и им подобные выражения, кажется, указывают на возбуждение и проявление гнева. Но мужественные действуют ради прекрасного, и гнев им лишь помогает, животные же – под влиянием боли или под влиянием раны или страха, так как они не нападают на других, находясь в своих лесах и логовищах; но не свойственно мужеству, чтобы боль и гнев вызывали отпор опасности и непредвиденным ужасам, ибо в таком случае и голодающие ослы мужественны, так как они, несмотря на удары, не воздерживаются от пищи; да и прелюбодеи под влиянием страсти совершают много отважного. Но действия, в которых боль или гнев вызывают отпор опасности, нельзя назвать мужественными. Однако кажется, что мужество, причина коего заключается в гневе, самое естественное, и если оно сопряжено с намерением и целью, то оно, может быть, и есть истинное мужество. Ведь люди страдают, пока испытывают гнев, а месть доставляет им наслаждение; но кто борется из таких побуждений, тот может быть хорошим борцом, но не мужественным, так как не прекрасное есть причина его деятельности, как того требует разум, а страсть. Но нужно здесь признать известного рода подобие. Те, которые всегда полны надежд [εΰελπιδες], тоже не мужественны. Они отважны в опасностях в силу того, что часто побеждали и многих победили. Но похожи они на мужественных тем, что и те и другие отважны; однако мужественные полны отваги вследствие ранее указанных причин, а эти – в силу мысли о собственной силе; поэтому им кажется, что нечего бояться. Так же поступают и опьяневшие; они становятся легкомысленными, но если их ожидания не исполняются, они убегают. Напротив того, мужественному свойственно переносить то, что действительно страшно человеку или что кажется ему таковым, и свойственно переносить в силу того, что это прекрасно, а не перенести позорно. Поэтому-то, кажется, требуется больше мужества для того, чтобы быть безбоязненными и непоколебимыми во внезапных опасностях, чем в предвиденных, потому ли, что такое мужество есть в большей мере приобретенное душевное качество, или потому, что оно менее зависит от подготовки. В предвиденных опасностях человек может руководствоваться расчетом и разумом, во внезапных – лишь приобретенными душевными свойствами. Мужественными кажутся также люди, не знающие [о предстоящей опасности]; они немногим отличаются от легкомысленных, только они хуже последних, так как не имеют никакого достоинства, эти же имеют эго, потому-то они и выдерживают некоторое время, те же, которые обманываются [насчет опасности], убегают тотчас, как заметят, что дело обстоит иначе, чем они полагали: подобное случилось с Аргивянами, напавшими на Лакедемонян, думая, что имеют дело с Сикионийцами. Итак, теперь сказано о том, каковы мужественные люди и каковы те, которые кажутся мужественными.
§ 12. Хотя мужество имеет дело с отвагой и со страхом, однако не в одинаковой мере с тем и с другим, а более с возбуждающим страх, так как того надо считать более мужественным, кто непоколебим при подобных обстоятельствах, чем того, кто проявляет отвагу. Итак, нами сказано, что того называют мужественным, кто переносит страдания; поэтому-то мужество – тяжелая вещь, и поэтому оно похвально, ибо труднее вынести страдание, чем удержаться от удовольствий. И хотя цель мужества кажется приятной, однако приятность затмевается тем, что окружает цель, как это видно и из гимнастических состязаний, ибо цель кулачных бойцов, ради которой они борются, венок и почести, – приятны, однако получать удары больно, так как и их тела ведь из мяса, и неприятно, как вообще всякий труд; и так как тягостного и неприятного весьма много, цель же весьма незначительна, то это занятие кажется очень несладким. Подобное же можно сказать и о мужестве, и очевидно, смерть и раны причиняют мужественному страдания и переносятся им нехотя, выносит же он их потому, что это прекрасно, а противоположное постыдно. И чем кто-либо добродетельнее и в целом счастливее, тем ему больнее умирать, ибо ведь подобный человек более всего достоин жизни, и он-то сознательно лишается величайших благ. А это, конечно, больно. Но он не только не менее мужествен, а, может быть, и более, так как он предпочитает прекрасное на войне этим благам. Итак, осуществление добродетели не всегда бывает приятно, если не принимать в расчет цели. Но может быть, ничто не мешает солдатам не быть подобными совершенными людьми, а быть менее мужественными и не иметь никаких других добрых качеств, ибо такие люди готовы на всякие опасные предприятия и продают жизнь свою за малую цену. Но достаточно говорено о мужестве; не трудно будет по сказанному составить себе общее представление о нем.
§ 13. Рассмотрев мужество, мы будем говорить об умеренности, так как обе эти добродетели, кажется, принадлежат к неразумным частям души. Нами уже сказано, что умеренность – середина касательно наслаждений, она имеет менее отношения и притом не такое же к страданиям. Невоздержанность проявляется в той же самой сфере, в какой и умеренность. Теперь мы определим, с какого рода наслаждениями [имеет дело умеренность]. Следует различать телесные от душевных; к последним относятся честолюбие, любознательность; как честолюбец, так и любознательный наслаждаются тем, к чему стремятся, хотя не тело их испытывает наслаждение, а скорее рассудок. Стремящиеся к подобным наслаждениям не называются ни умеренными, ни невоздержанными; одинаковым образом они не называются таковыми в силу других, не телесных наслаждений. Любящих разговоры и рассказы и проводящих дни в болтовне о случившемся мы называем болтунами, а не невоздержанными; не называем мы так и тех, кто постоянно жалуется на денежные обстоятельства и на друзей. Итак, умеренность касается телесных наслаждений, однако и из них не всех, ибо ведь мы не называем ни умеренными, ни невоздержанными тех, которые наслаждаются зрением, например, цветами или формами или картинами, хотя, может быть, и для таких людей существует нормальное наслаждение, и избыточное, и недостаточное. То же самое следует сказать и о наслаждениях слуха: никто не назовет невоздержанными людей, слишком наслаждающихся мелодиями и театральными представлениями, и не называет умеренными тех, кто наслаждается этим в меру. Не называют так и любителей запахов, наслаждающихся благоуханием плодов, роз или курительных трав, а если и называют, то не по существу, а случайно (κατα συμβεβηκός), и скорее [называют так] тех, кто наслаждается благовонными мазями или кушаньями, а наслаждаются ими невоздержанные благодаря тому, что этим путем возникает в них воспоминание о предметах их страсти. Сверх того, можно заметить, что и другие наслаждаются запахом пищи, когда они голодны. Но вообще говоря, наслаждаться подобного рода вещами свойственно невоздержанному, ибо именно такой желает этих наслаждений. И другие животные не испытывают наслаждения от этих ощущений, или лишь случайно, ибо собаки не наслаждаются запахом зайцев, а их растерзанием, а запах помогает им лишь напасть на след; и лев удовлетворяется не мычанием быка, а тем, что пожирает его, хотя мычание дает ему знать, что бык близок, и может показаться, что лев рад этому; точно так же не вид или находка оленя или дикой козы радует его, а возможность получить пищу.
Итак, умеренность и невоздержанность касаются таких наслаждений, в которых участвуют и остальные животные, почему и самые наслаждения кажутся рабскими и животными. Сюда относятся ощущения осязания и вкуса. Но, кажется, на вкус мало или почти нисколько не следует обращать внимание. Дело вкуса – различение соков; так им пользуются те, которые пробуют вина и приготовляют кушанья; однако невоздержанные очень мало или вовсе не наслаждаются этими ощущениями, а удовольствием, которое всегда возникает из осязания при еде или при питье, а равно и при так называемой любви. Поэтому-то некий обжора желал иметь шею длиннее, чем у журавля, чтобы наслаждаться проглатыванием пищи. Итак, невоздержанность имеет дело с самым низким ощущением из всех; поэтому ее порицать справедливо, так как она нам свойственна, поскольку мы животные, а не поскольку мы люди. Наслаждаться этими ощущениями и любить их более всего – черта животного характера. Самые благородные из наслаждений, доставляемых осязанием, например, возникающие из обтирания и согревания в гимназиях, недоступны невоздержанному, так как осязание не всего тела, а лишь некоторых его частей приятно невоздержанному. Одни стремления кажутся общими всем людям, другие – индивидуальны и могут быть приобретаемы. Так, стремление к питанию естественно, ибо всякий, нуждающийся в пище, стремится к ней как в твердом, так и в жидком ее состоянии, иногда к той и другой вместе, и всякий молодой и крепкий человек «стремится», как говорит Гомер, «к жене»; но именно к той или другой стремится не всякий, и не всякий всегда к одной. Итак, это определенное стремление уже принадлежит нам индивидуально, хотя в нем есть, конечно, нечто естественное: одному нравится одно, другому другое, но есть вещи, которые всем нравятся более всех других. Естественные потребности редко вовлекают людей в ошибки, а если люди погрешают, то всегда в сторону излишка, ибо есть что попало и пить до опьянения значит перейти количественно известную границу. Естественная потребность имеет в виду уничтожить недостаток; потому обжорами называются те, которые наполняют желудок более, чем следует; рабские люди становятся такими. Многие люди погрешают в индивидуальных наслаждениях и часто погрешают. Любителями подобных наслаждений называют тех, которые наслаждаются тем, чем не следует, или с излишком, или так, как это делает толпа, или так как не следует; во всех этих случаях невоздержанные излишествуют. Они или наслаждаются тем, чем не следует, ибо оно постыдно, или тем, чем, может быть, и следует, но наслаждаются в большей мере, и так, как делает это толпа. Ясно, что невоздержанность есть излишек в подобных наслаждениях, что она должна быть порицаема. Что касается страданий, то здесь дело обстоит иначе, чем в мужестве, ибо здесь благоразумным называется переносящий их, а невоздержанным называется тот, кто страдает более, чем должно, когда он не испытывает удовольствий (причем самое наслаждение и причиняет ему страдание), а благоразумным – тот, кто не страдает от отсутствия наслаждений и кто в состоянии воздержаться от них.
§ 14. Итак, невоздержанный желает всякого рода наслаждений или по крайней мере большинства их; его стремления влекут его так, что он предпочитает эти наслаждения всему другому; поэтому-то он испытывает страдание, как в том случае, когда не достигает желаемого, так и во время самого желания, ибо всякая страсть сопряжена со страданием, хотя странно страдать ради наслаждения. Вряд ли встречаются такие люди, которые недостаточно наслаждаются и менее, чем следует, радуются. Такая бесчувственность не в природе человека; даже остальные животные различают пищу и одну едят охотно, а другую нет. Если кому-либо ничто неприятно и если он не различает одно от другого, то такой будет далек от образа человека. Подобное существо и не имеет имени, потому что вряд ли оно встретится. Умеренный придерживается середины относительно всего этого. Он не наслаждается тем, чем наслаждается по преимуществу невоздержанный, а скорее негодует на это; он не наслаждается тем, чем не следует, и вообще ничем подобным не наслаждается слишком, он не страдает и не желает наслаждений, когда их нет, или желает умеренно, не более, чем следует, ни тогда, когда не следует, и вообще в подобных случаях не делает ничего недолжного. Ко всему тому, что имеет отношение к здоровью и благосостоянию и в то же время приятно, он будет стремиться умеренно и как следует. [Он будет стремиться] и к остальным приятным вещам, если они не противоречат вышеуказанному, не нарушают красоты и не превышают его сил. Кто не обращает внимания на это, тот придает наслаждениям большую цену, чем они имеют; не таков умеренный человек; он следует истинному разуму.
§ 15. Кажется, что невоздержанность содержит в себе более произвольного, чем трусость; источник первой заключается в наслаждении, а второй – в страдании; к одному из них человек стремится, а другого избегает; к тому же от страдания изменяется и ухудшается природа человека, одержимого им, наслаждение же ничего подобного не делает, и потому оно более произвольно. Поэтому-то невоздержанность постыднее. Сверх того, легче привыкнуть противостоять наслаждению, ибо подобных состояний в человеческой жизни много, и привыкать к ним безопасно. Совсем противоположное следует сказать относительно предметов, возбуждающих ужас. Однако кажется, что не всякая трусость, проявляющаяся в отдельных случаях, в одинаковой мере произвольна, ибо сама трусость не сопряжена со страданием, а отдельные ее проявления возникают из страдания, как например, бросить оружие или совершить иное какое-либо постыдное действие; поэтому-то они и считаются насильственными. У невоздержанного, наоборот, отдельные действия произвольны, так как он их желает, стремится к ним. Невоздержанность же в целом менее произвольна, ибо никто не желает быть невоздержанным. Слово «невоздержанность» мы переносим и на прегрешения детей, ибо они имеют некоторое сходство с невоздержанностью. Которое из названий заимствовано, которое первоначально – это для нас в данном случае безразлично (ясно, что позднейшее заимствовано от первоначального). Но перенесение это не дурно, ибо стремление к дурному, быстро растущее, нуждается в обуздании, а таковы по преимуществу страсть и ребенок, ибо ведь дети живут под влиянием страстей, и стремление к приятному в них по преимуществу развито; если это стремление не будет легко повиноваться правящему началу, то оно значительно возрастет; стремление к приятному безгранично и влияет на безрассудного со всех сторон, а удовлетворение страсти только увеличивает прирожденное стремление, так что страсти, сделавшись сильными, уничтожают рассудок. Поэтому-то они должны быть умеренны и немногочисленны и не противиться разуму. Такое стремление мы называем послушным разуму и обузданным. Подобно тому, как дитя должно жить по указаниям воспитателя, так и страсти – по указаниям разума. Поэтому-то в умеренном человеке страсти должны согласоваться с разумом. Цель обоих – прекрасное; умеренный человек стремится к тому, к чему следует и как и когда следует стремиться, а этого и требует разум. Этого пусть будет достаточно относительно умеренности.
4
Это предложение не должно понимать в том смысле, что Аристотель считает бессмертие души невозможным. Он хочет лишь сказать, что бессмертие не зависит от нашего желания. – Примеч. перев.
5
Вουλη обозначает у Аристотеля взвешивание мотива, предшествующее действию; мы употребляем для краткости иностранное слово. – Примеч. перев.