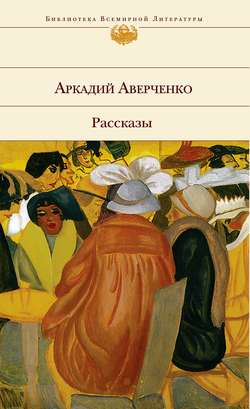Читать книгу Рассказы - Аркадий Аверченко - Страница 22
Хлопотливая нация
Рассказы
Отец
ОглавлениеСтоит мне только вспомнить об отце, как он представляется мне взбирающимся по лестнице, с оживленным озабоченным лицом и размашистыми движениями, сопровождаемый несколькими дюжими носильщиками, обремененными тяжелой ношей.
Это странное представление рождается в мозгу, вероятно, потому, что чаще всего мне приходилось видеть отца взбирающимся по лестнице, в сопровождении кряхтящих и ругающихся носильщиков.
Мой отец был удивительным человеком. Все в нем было какое-то оригинальное, не такое, как у других… Он знал несколько языков, но это были странные, ненужные никому другому языки: румынский, турецкий, болгарский, татарский. Ни французского, ни немецкого он не знал. Имел он голос, но когда пел, ничего нельзя было разобрать – такой это был густой, низкий голос. Слышалось какое-то удивительное громыхание и рокот, до того низкий, что казался он выходящим из-под его ног. Любил отец столярные работы – но тоже они были както ни к чему – делал он только деревянные пароходики. Возился над каждым пароходиком около года, делал его со всеми деталями, а когда кончал, то, удовлетворенный, говорил:
– Такую штуку можно продать не меньше чем за пятнадцать рублей!
– А матерьял стоил тридцать! – подхватывала мать.
– Молчи, Варя, – говорил отец. – Ты ничего не понимаешь…
– Конечно, – горько усмехаясь, возражала мать. – Ты много понимаешь…
Главным занятием отца была торговля. Но здесь он превосходил себя по странности и ненужности – с коммерческой точки зрения – тех операций, которые в магазине происходили.
Для отца не было лучшего удовольствия, как отпустить кому-нибудь товар в долг. Покупатель, задолжавший отцу, делался его лучшим другом… Отец зазывал его в лавку, поил чаем, играл с ним в шашки и бывал обижен на мать до глубины души, если она, узнав об этом, говорила:
– Лучше бы он деньги отдал, чем в шашки играть.
– Ты ничего не понимаешь, Варя, – деликатно возражал отец. – Он очень хороший человек. Две дочери в гимназии учатся. Сам на войне был. Ты бы послушала, как он о военных порядках рассказывает.
– Да нам-то что от этого! Мало ли кто был на войне – так всем и давать в долг?
– Ты ничего не понимаешь, Варя, – печально говорил отец и шел в сарай делать пароход.
Со мной у него были хорошие отношения, но характеры мы имели различные. Я не мог понять его увлечений, скептически относился к пароходам и, когда он подарил мне один пароход, думая привести этим в восторг, я хладнокровно, со скучающим видом потрогал какую-то деревянную штучку на носу крошечного судна и отошел.
– Ты ничего не понимаешь, Васька, – сказал, сконфузившись, отец.
Я любил книжки, а он купил мне полдюжины какихто голубей-трубачей. Почему я должен был восхищаться тем, что у них хвосты не плоские, а трубой, до сих пор считаю невыясненным. Мне приходилось вставать рано утром, давая этим голубям корм и воду, что вовсе не увлекало меня. Через три-четыре дня я привел в исполнение адский план – открыл дверцу голубиной будки, думая, что голуби сейчас же улетят. Но проклятые птицы вертели хвостами и мирно сидели на своем месте. Впрочем, открытая дверца принесла свою пользу: в ту же ночь кошка передушила всех трубачей, принеся мне облегчение, а отцу горе и тихие слезы.
Как все в отце было оригинально, так же была оригинальна и необычна его страсть – покупать редкие вещи. Требования, которые предъявлял он к этого рода операциям, были следующие: чтобы вещь приводила своим видом всех окружающих в удивление, чтобы она была монументальна и чтобы все думали, что вещь куплена за пятьсот рублей, когда за нее заплачено только тридцать.
* * *
Однажды на лестнице дома, где мы жили, послышалось топанье многочисленных ног, крики и кряхтенье. Мы выбежали на площадку лестницы и увидели отца, который вел за собою несколько носильщиков, обремененных большой, странного вида вещью.
– Что это такое? – с беспокойством спросила мать. Лучезарное лицо отца сияло гордостью и скрытой радостью человека, замыслившего прехорошенький сюрприз.
– Увидите, – дрожа от нетерпения, говорил он. – Сейчас поставим его.
Когда «его» поставили и носильщики, облагодетельствованные отцом, удалились, «он» оказался колоссальной величины умывальником с мраморной лопнувшей пополам доской и красным потрескавшимся деревом.
– Ну? – торжествующе обратился отец к окружающим. – Во сколько вы оцените эту штуку?
– Да для чего она? – спросила мать.
– Ты ничего не понимаешь, Варя. Алеша, скажи-ка ты – сколько, по-твоему, стоит сей умывальник?
Алеша – льстец, гипперболист и фальшивая низкопоклонная душонка – всплеснул измазанными чернилами руками и ненатурально воскликнул:
– Какая прелесть! Сколько стоит! Четыреста двадцать пять рублей!
– Ха-ха-ха! – торжествующе захохотал отец. – А ты, Варя, сколько скажешь?
Мать скептически покачала головой.
– Да что ж… рублей пятнадцать за него еще можно дать.
– Много ты понимаешь! Можете представить – весь этот мрамор, красное дерево и все – стоит по случаю всего двадцать пять рублей. Вот сейчас мы его попробуем! Марья! Воды.
В монументальный рукомойник налили ведро воды… Нажатая ногой педаль не вызвала из крана ни одной капли жидкости, но зато когда мы посмотрели вниз, ноги наши были окружены целым озером воды.
– Течет! – сказал отец. – Надо позвать слесаря. Марья! Сбегай.
Слесарь повозился с полчаса над умывальником, взял за это шесть рублей и, уходя, украл из передней шапку. Умывальник поселился у нас.
Когда отца не было дома, все с наслаждением умывались из маленького стенного рукомойника, но если это происходило при отце, он кричал, ругался, заставлял всех умываться из его покупки и говорил:
– Вы ничего не понимаете!
У всех было основание избегать большого умывальника. У него был ехидный отвратительный нрав и непостоянство в симпатиях. Иногда он обнаруживал собачью привязанность к сестре Лизе и давался умываться из него нормальным, обычным способом. Или дружился с Алешей, был предупредителен к нему – покорный, как ребенок, лил прозрачную струю на черные Алешины руки и не позволял себе непристойных выходок.
Со всеми же другими поступал так: стоило только нажать педаль, как из крана со свистом вылетала горизонтальная струя воды и попадала неосторожному человеку в живот или грудь; потом струя моментально опадала и, притаившись, ждала следующего нажатия педали. Человек нагибался и подставлял руки, надеясь поймать проклятую струю в том самом месте, куда она била. Но струя не дремала…
Увидя склоненные плечи, она взлетала фонтаном вверх, обрушивалась вниз, обливала голову и затылок доверчивого человека, моментально пропадала и, нацелившись на ноги, орошала их так щедро, что человек, побежденный умывальником, с проклятием отскакивал в сторону и убегал.
Иногда же умывальник вертел струей, как змея головой, поворачивал ее, кривлялся, и тогда нужно было бегать вокруг этой монументальной дряни, чтобы поймать руками ускользающую увертливую струю. Потом уже мы придумали делать на нее форменную облаву: становились вокруг, протягивали десяток рук, и загнанная струя, как ни изворачивалась, а кому-нибудь попадала…
* * *
Однажды на лестнице раздался знакомый топот и кряхтенье… Это отец, предводительствуя армией носильщиков, вел новую покупку.
То была странная процессия.
Впереди три человека тащили громадный четырехугольник с отверстием посередине, за ними двое несли странный точеный стержень, а сзади замыкали шествие еще два человека с каким-то подобием громадного глобуса и стеклянным матовым полушарием величиной с крышу небольшого сарайчика.
– Что это? – с тайным страхом спросила мать.
– Лампа, – весело отвечал отец.
– А я думала – тумба для афиш.
– Не правда ли, – подхватил отец, – прегромадная вещь. Я и торговался полчаса, пока мне не уступили.
Лампу установили рядом с умывальником. Она была ростом под потолок и вида самого странного, на редкость неудобного – тяжелая, некрасивая, похожая на какое-то чудовищное африканское растение.
– Ну, как думаешь, Алеша… Сколько она стоит?
– Три тысячи! – уверенно сказал Алеша.
– Ха-ха! А ты что скажешь, Варя? Мать, севши в уголку, беззвучно плакала.
С отца весь восторг сразу слетел, и он, обескураженный, подошел к матери, нагнулся и нежно поцеловал ее в голову.
– Эх, Варя! Ты ничего не понимаешь!.. Васька! Сколько, по-твоему, должна стоить такая лампа?
– Семь тысяч, – сказал я, обойдя вокруг лампы. – По крайней мере, я дал бы за нее столько, лишь бы ее отсюда убрали.
– Много ты понимаешь! – растерялся отец.
Лампа оказалась из одного семейства с умывальником. Керосин (четырнадцать фунтов), налитый в нее, потек, отравил воздух, а когда слесарь исправил ее (тот самый, который украл шапку), то лампа втянула в себя громадный черный фитиль и ни за что не хотела выпустить его. Вытащенный какими-то щипцами, фитиль загорелся, но так начадил, что соседи пришли спасать нас от пожара, предлагая бесплатные услуги по выносу вещей и тушению огня.
А громадная необъятная лампа горела маленьким микроскопическим огоньком, таким, какой теплится в лампадке у икон, тихо потрескивала и язвительно прищелкивала своим крохотным красным язычком.
Отец стоял перед ней в немом восторге.
Однажды на лестнице послышался такой же шум, грохот и крики.
– Что еще? – выскочила мать.
– Часы, – счастливо смеясь, сообщил отец.
Это было самое поразительное, самое неслыханное из всего купленного отцом.
По громадному циферблату стремительно носились две стрелки, не считаясь ни с временем, ни с усилиями людей, которые вздумали бы удержать их от этого. Внизу грозно раскачивался колоссальный маятник, делая размах аршина четыре, а впереди весь механизм хрипло и тяжело дышал, как загнанный носорог или полузадушенный подушкой человек…
Кто их сделал? Какому пьяному, ненормальному, воспаленному алкоголем мозгу явилась мысль соорудить этот безобразный неуклюжий аппарат, со всеми частями, болезненно, как в бреду, преувеличенными, с ходом без логики и с пьяным отвратительным дыханием внутри, дыханием их творца, который, может быть, околел уже где-нибудь под забором, истерзанный белой горячкой, изглоданный ревматизмом и подагрой.
Часы стали рядом с умывальником и лампой, перемигнулись и сразу поняли, как им вести себя в этом доме.
Маятник стремительно носился от стены к стене и все норовил сбить с ног нас, когда мы стремглав проскакивали у него сбоку… Механизм ворчал, кашлял и стонал, как умирающий, а стрелки резвились на циферблате, разбегаясь, сходясь и кружась в лихой вакхической пляске…
Отец вздумал подчинить нас времени, показываемому этими часами, но скоро убедился, что обедать придется ночью, спать в полдень и что нас через неделю исключат из училищ за появление на уроки в одиннадцать часов вечера.
Часы пригодились нам, как спортивный, невиданный доселе нигде аппарат… Мы брали трехлетнюю сестренку Олю, усаживали ее на колоссальный маятник, и она, уцепившись судорожно за стержень, носилась, трепещущая, испуганная, из стороны в сторону, возбуждая веселье окружающей молодежи.
Мать назвала эту комнату «Проклятой комнатой».
Целый день оттуда доносился удушливый запах керосина, журчали ручейки воды, вытекавшей из умывальника на пол, а по ночам нас будили и пугали страшные стоны, которые испускали часы, перемежая иногда эти стоны хриплым зловещим хохотом и ржаньем.
Однажды, когда мы вернулись из школы и хлынули толпой в нашу любимую комнату повеселиться около часов, мы отступили, изумленные, испуганные: комната была пуста, и только три крашеных четырехугольника на полу показывали те места, где стояли отцовы покупки.
– Что ты с ними сделала? – спросили мы мать.
– Продала.
– Много дали? – спросил молчавший доселе отец.
– Три рубля. Только не они дали, а я… Чтобы их унесли. Никто не хотел связываться с ними даром…
Отец опустил голову, и по пустой комнате гулко прошелся его подавленный шепот:
– Много ты понимаешь! Теперь он умер, мой отец.