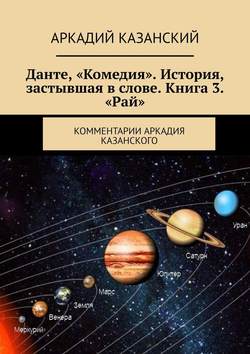Читать книгу Данте, «Комедия». История, застывшая в слове. Книга 3. «Рай». Комментарии Аркадия Казанского - Аркадий Казанский - Страница 7
La Commedia
di Dante Alighieri
Рай – Песня IV
Первое небо – Луна (продолжение). Объяснение с Пиккардой и Беатриче. Беатриче объясняет Данте устройство Рая.
Раскрытое Небо
Оглавление«Древние» планеты Солнечной Системы названы именами Олимпийских богов в соответствии с латинской традицией имён богов, впервые применённой Вергилием в «Энеиде». Таковы Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн. Для наименования Солнца и Луны, также имелись латинские имена, – Феб-Аполлон, Диана. В дальнейшем, открывая новые планеты, астрономы давали им имена по той же традиции, – Нептун, Плутон. Единственным исключением из этого ряда является Уран, наречённый на основании греческой традиции, как отец Крона (Сатурна). Почему не на основании латинской?
Посмотрев внимательно на генеалогию богов греческого пантеона, видим, – Уран (Небо) являлся сыном Геи (Земли), возникшей в ХАОСЕ. Понятие ХАОСА присутствует исключительно в греческой мифологии, в латинской отсутствует.
В этом кроется ответ на вопрос, но данный ответ поверхностен.
Латинским писателям, создающим вымышленные «древние» времена, вплоть до Сотворения Мира», ХАОС представлялся лишь неосвоенным полем истории, который можно было засеять чем угодно; новой Индией, Америкой, которую необходимо было колонизировать, хотя бы и виртуально. Ведь, если остановиться на пороге ХАОСА, – момента осознания человеком истории после создания письменности (кириллицы) пришлось бы признать, – люди и все рода с момента начала осознания времени, находятся в одинаковых правовых условиях, и у становящихся элит «Священной Римской империи германской нации» и христианской Церкви нет приоритета «многовековой власти» и «избранности Богом». Не зря Церковь и правящие кланы объединились в общем усилии по «удревнению» истории. Правители взяли Церковь под крыло, Церковь «освятила» права на власть «Помазанников Божьих». Общими усилиями институты власти и Церкви выработали основу для утверждения «многовековой» власти над миром людей, как светской, так и религиозной.
Именно по этой причине Вергилий, создающий основу для вымышленной 1200-летней истории «Древнего Рима», предшественнице возникшей на развалинах «Восточного Рима», после осады и взятия широким фронтом 27-ми держав Европы Константинополя в 1453 году, «Священной Римской империи германской нации» в «Энеиде», отодвигая «Троянскую Войну» в глубины ХАОСА на 1200 лет, лукаво обошёл вопрос об отце Сатурна, Уране, возникшем из ХАОСА вместе с Геей, открыв Небо избранным и обеспечив плацдарм для размещения на нём Библейской истории «Ветхого Завета». Да и «Новый Завет» Евангелисты Матфей и Лука вслед за ним пополнили списком «архонтов», доведённых ими до «Сотворения Мира». То, что при этом пришлось присвоить «Ветхозаветным Отцам», начиная с Адама, 1000-летние сроки жизни, никого из них не смущало. «Цель оправдывает средства» – девиз «Отцов и Учителей Церкви» и созданного ими «Ордена Иисуса», так называемых иезуитов.
Однако, с точки зрения Верховного Олимпийского бога Зевса (Юпитера) история его рода, да и всего человечества не простиралась в прошлое дальше его деда – Урана (Небо) и его бабки и прабабки одновременно – Геи (Земли), родившей Урана без мужа (первое известное нам непорочное зачатие), затем, со своим сыном Ураном, родившей второе поколение Титанов и Богов, среди которых был Крон (Сатурн) – отец Зевса.
Эти мифологические истории, простирающиеся вглубь ХАОСА, Беатриче назвала заблуждениями. А вы попробуйте вспомнить, – как звали ваших прадедов и чем они занимались в жизни. До какого поколения вы сможете дойти?
Бог Зевс отождествлён в [3], как Дмитрий (Илья) Донской (1350—1389 годы), изобретатель первой письменности (кириллицы), как Кирилл (Кир Илия). Именно письменность позволила закрепить названия планет, созвездий и звёзд, как и многого другого, и заложила начала истории, как области филологии. Но, в прошлое даже бог Зевс не мог заглянуть дальше своего деда, – память человеческая коротка. Латинская школа, поставив первым богом Сатурна, при котором на Земле был Золотой век, оторвала его от ХАОСА, не упоминая о его родителях, и, в «удревнении» истории дошла до «Сотворения Мира», – наивной схеме Миротворения, закрепив её в Библейском «Ветхом Завете».
Совершенно верно Беатриче назвала это: «детскими заблуждениями» человечества.
В другом твоём сомнении вреда
Гораздо меньше; с ним пребудешь здравым
И не собьёшься с моего следа. 66
Что наше правосудие неправым
Казаться может взору смертных, в том
Путь к Вере, а не к ересям лукавым. 69
Но так как человеческим умом
Глубины этой правды постижимы,
Твоё желанье утолю во всем. 72
Раз только там насилье, где теснимый
Насильнику не помогал ничуть,
То эти души им не извинимы; 75
Затем что волю силой не задуть;
Она, как пламя, борется упорно,
Хотя б его сто раз насильно гнуть. 78
А если в чём-либо она покорна,
То вторит силе; так и эти вот,
Хоть в Божий дом могли уйти повторно. 81
Другой вопрос поэта: «Есть ли грех на Пиккарде, если из монашек, давших обет девственности = невест Христовых, она, против своей воли, насилием „Имеющего Власть“, стала женой земного человека?» Беатриче утвердительно ответила на этот вопрос, – насилие можно признать только в том случае, если теснимый ничуть не помогал насильнику. Грех Пиккарды, – насильно выданная замуж, она покорилась своему состоянию, а не ушла повторно в монастырь.
Будь воля их тот целостный оплот,
Когда Лаврентий не встаёт с решетки
Или суровый Муций руку жжёт, – 84
Освободясь, они тот путь короткий,
Где их влекли, прошли бы сами вспять;
Но те примеры – редкие находки. 87
Беатриче привела два примера из истории, когда насилуемые не потворствовали насильнику:
Лаврентий – римский диакон, сожжённый на железной решетке, но не отрекшийся от Христа.
Муций Сцевола – римский юноша, сжёгший свою правую руку, когда ему не удалось убить этрусского царя Порсенну, осадившего Рим.
Сжигаемый на решётке, святой Лаврентий не отрёкся от Христа ни на одно мгновение, а Муций Сцевола добровольно сжёг свою руку на огне, чтобы подтвердить неизменность намерений убить царя Порсенну. Так и другие святые, лишь освободясь от насильников, волокущих их по ложному пути, проходили этот путь вспять, возвращаясь на путь истинный, становясь святыми мучениками, описанными в «Житиях Святых».
Отождествить вышеуказанных мучеников невозможно, можно только указать, – все «истории Рима» произошли после 1300 года, = границы ХАОСА, либо позже «Троянской Войны» 1453 года.
И, конечно, воображать то, что женщина того времени могла возражать «Имеющему Власть», – воспротивиться насилию, нет ни малейшего смысла.
Так, если точно речь мою понять,
Исчез вопрос, который, возникая,
Тебе и дальше мог бы докучать. 90
Но вот теснина предстаёт другая,
И здесь тебе вовеки одному
Не выбраться; падёшь, изнемогая. 93
Как я внушала, твоему уму,
Слова святого никогда не лживы:
От Первой Правды не уйти ему. 96
Слова Пиккарды, стало быть, правдивы,
Что дух Костанцы жаждал покрывал,
Моим же как бы противоречивы. 99
Но так как слова святого никогда не лживы, – Первой Правдой служат и слова Пиккарды, – дух Костанцы жаждал покрывал.
Понять это схоластическое утверждение крайне сложно. С одной стороны, Богородица, не познавшая мужа, оставшаяся Непорочной Девой, как бы не должна была жаждать покрывал, положенных замужней женщине. С другой стороны, дух Богородицы, зная её высокое предназначение – родить миру Спасителя, конечно же, жаждал покрывал: «Жены высокой жизни и деяний» и покрывал материнства.
Покрывало Богородицы нам прекрасно известно по преданию о: «Покрове Пресвятой Богородицы».
Это – то самое покрывало, которым покрывали голову замужние женщины, – повойник. Название этого головного убора происходит от слова «повивать» = пеленать младенца, сравним, – повивальная бабка или повитуха. Замужняя женщина тех времён жила постоянно в состоянии беременности и ожидания родов и этот, столь нужный ей в этом случае предмет всегда должен был быть под рукой. Где же ему было храниться, как не на самом высоком и чистом месте – на голове. Любая из окружающих женщин того времени могла родить в любое время, и любая другая тут же могла предложить ей свой повойник, чтобы спеленать (повить) младенца.
Ты знаешь, брат, сколь часто мир видал,
Что человек, пред чем-нибудь робея,
Свершает то, чего бы не желал; 102
Так Алкмеон, ослушаться не смея
Родителя, родную мать убил
И превратился, зла страшась, в злодея. 105
Здесь, как ты сам, надеюсь, рассудил,
Насилье слито с волей, и такого
Не извинить, кто этим прегрешил. 108
«Король, брат мой». Беатриче применила эту формулу в разговоре с поэтом, подчёркивая равенство их между собой.
Согласно фиванскому циклу мифологии, сын царя Фив, Эдипа и его матери – Иокасты, Полиник, ища себе союзников, чтобы отвоевать Фивы у своего брата Этеокла, подарил тщеславной Эрифиле – жене аргосского царя Амфиарая, ожерелье Гармонии, приносящее несчастие всем его обладательницам, и та указала ему, где прячется её муж, который скрывался, зная, – он лишится жизни, если отправится в этот поход. Когда Амфиарай погиб под Фивами, его сын Алкмеон, выполняя мщение, завещанное отцом, убил свою мать. Так, выполняя волю отца, он стал злодеем – убийцей матери. Здесь насилье было слито с волей – насилью способствовала уступчивая воля исполнителя, а этого уже извинить невозможно.
Прогневались богини-мстительницы Эриннии на Алкмеона и преследовали его всюду, где только не старался он скрыться. (Фиванский цикл. Алкмеон).
«Фиванский цикл» предшествовал: «Троянской Войне» = осаде и взятию Константинополя в 1453 году. После взятия Фив = Софии семью царями, Агамемнон = Магомет «II» Завоеватель (1432—1481 годы) в составе войск из 27-ми стран Европы, решил идти на Константинополь [3].
По сути, воля не желает злого,
Но с ним мирится, ибо ей страшней
Стать жертвою чего-либо иного. 111
Пиккapдa мыслит в повести своей
О чистой воле, той, что вне упрека;
Я – о другой; мы обе правы с ней». 114
Воля может не желать злого, но мириться с ним, боясь стать жертвой. Поэтому, когда Пиккарда говорит о чистой воле, она права, а когда Беатриче говорит о воле, идущей против насилия, она права также.
Таков был плеск священного потока,
Который от верховий правды шел;
Он обе жажды утолил глубоко. 117
«Небесная», – тогда я речь повёл:
«Любимая Вселюбящего, светит,
Живит теплом и влагой ваш глагол. 120
Таких глубин мой дух в себе не встретит,
Чтоб дар за дар воздать решился он;
Пусть Тот, кто зрящ и властен, вам ответит. 123
Речи любимой, идущие от самых верховий правды, утоляли жажду познания поэта о жизни и о религии. Он воздал хвалу Богородице, которая живит теплом и светом речь Беатриче. Он признался, – таких глубин духа не имел в себе, чтобы воздать даром за дар и говорил, – ей ответит только Господь, который зрящ и властен.
Я вижу, что вовек не утолён
Наш разум, если Правдой непреложной,
Вне коей правды нет, не озарён. 126
В ней он покоится, как зверь берложный,
Едва дойдя; и он всегда дойдёт, —
Иначе все стремления ничтожны. 129
От них у корня истины встаёт
Росток сомненья; так природа властно
С холма на холм ведёт нас до высот. 132
Вот что даёт мне смелость, манит страстно
Вас, госпожа, почтительно спросить
О том, что для меня ещё неясно. 135
Я знать хочу, возможно ль возместить
Разрыв обета новыми делами
И груз их на весы к вам положить». 138
Она такими дивными глазами
Огонь любви метнула на меня,
Что веки у меня поникли сами,
И я себя утратил, взор склоня. 142
Чтобы разрешить все сомнения, поэт спросил у Беатриче: «Можно ли возместить разрыв обета новыми делами?» и получил в ответ такой, полный любви, дивный взгляд, что виновато поник глазами перед любимой.
Да, несомненно, это великое произведение поэта, полное любви, посвящено императрице Российской Елизавете Петровне. Покинутая любимым, которому она дала обет верности, – Петром II, она, хотя и понимала, – этот разрыв насильно произведён над ними, тем не менее, дала и исполнила обет верности своему любимому. Залогом этому бессмертная «Комедия». Не верьте никаким борзописцам, описывающим якобы имевшиеся любовные интрижки Елизаветы с фаворитами, например, Алексеем Разумовским. Ничего этого нет и быть не могло. Все эти вымыслы пусть лягут тяжким грехом на души лжецов, типа Алексея Толстого и других, посмевших своим грязным пером осквернить святыню. Покров её незапятнанно чист, о чём свидетельствует её единственный возлюбленный, переживший её на долгие годы, гениальный поэт!
Практически Данте = Пётр II, всё время правления Елизаветы Петровны с 1743 по 1761 годы, находился в России, в Санкт-Петербурге, рядом с ней. Ей он преподнёс в 1757 году роскошное издание «Комедии» на итальянском языке, снабдив его собственноручной дарственной надписью:
«Избегая ненависти жестокого города,
ежечасно готовый к ударам судьбы,
этрусский поэт смиренно идёт к Вам,
о царственная донна, чтобы снискать милости.
Долго по нехоженым путям
он бродил по горячим пескам Стикса,
но ему не был закрыт и Вечного Добра
путь в небесах по благословенным тропам.
После долгого пути, наконец, ища
отдыха своим горестным и несчастным дням,
возлагает свою суровую лиру к Вашему Трону.
Пусть будет так, что, желая
вернуться к своему мэтру, он услышит
на другом языке звук Ваших похвал».
Жаль, – сегодня нельзя увидеть этого издания, чтобы сравнить его полноту с тем, которое находится перед нами. Нельзя также увидеть и издания 1764 года на немецком языке, преподнесённого поэтом в дар императрице Екатерине II. По свидетельству одного из последних исследователей творчества Данте, советского филолога Ильи Николаевича Голенищева-Кутузова (1904—1969 годы), оба эти издания были отправлены из России в «ссылку», в Париж, и проданы на аукционе. Как интересно было бы выяснить из первоисточника 1757 или 1764 года, – какие строки в нём ещё не были написаны!
Восстановление истинного смысла «Комедии» и личности Данте можно сделать и не располагая в качестве доказательств изданиями разных лет. Достаточно одного только бессмертного текста великой «Комедии». Но, воистину, было бы приятно, если изыскать возможность взглянуть на эти «древние» издания и подтвердить, либо опровергнуть какие-либо из сопоставлений.
Добавим соображение по поводу издания «Комедии» 1764 года на немецком языке. Пётр II = Данте, владеющий немецким языком, как своим первым родным, староитальянским, как вторым родным, сам переложил «Комедию» на немецкий язык, посвятив это издание Российской императрице Екатерине II Великой, немке по происхождению и по языку. Досконально изучив за долгие годы своей жизни русский язык, написав на нём много прекрасных стихотворений, он не решился переложить «Комедию» на него по неясным пока причинам (а, может быть, и переложил, но перевод нам пока недоступен).