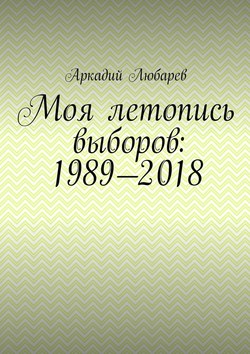Читать книгу Моя летопись выборов: 1989—2018 - Аркадий Любарев - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Автобиографические страницы книги
«Выборы в Москве: опыт двенадцати лет. 1989—2000»16
1995, выборы в Государственную Думу, Чертановский одномандатный округ
ОглавлениеФормирование избирательных комиссий
Как и в случае городской комиссии, половина состава окружных комиссий по выборам депутатов Государственной Думы (7 человек) формировалась городской Думой, а другая половина – Мэром Москвы. Понятно, что кандидатуры, которые должен был назначить Мэр, готовились префектурами. Но, как выяснилось, префектуры готовили кандидатуры и для той половины, которая назначается городской Думой.
Впрочем, Дума не обязательно шла на поводу у префектур. Так, в состав окружной комиссии Чертановского округа №204 Дума включила четырех человек, не предусмотренных префектурой, которые были выдвинуты ДВР, а также партией и движением «Демократическая Россия»: А. Ю. Бузина, В. Н. Завьялкину, А. Н. Касаткина и автора этой книги.
Четверо членов комиссии Чертановского округа (Ю. А. Змиевский, А. Е. Любарев, Р. Н. Стугирева и Э. Ф. Цветкова) работали ранее в Советской районной избирательной комиссии (из них трое, кроме Любарева, работали также в 1993 г. в комиссии Варшавского округа №192). Еще четверо (Бузин, Касаткин, Н. И. Кузнецов и М. Е. Суханов) были депутатами Советского райсовета. Среди членов комиссии были также Т. Е. Цуканова (сотрудник префектуры ЮАО) и А. С. Петухова (работавшая в 1993 г. секретарем комиссии Нагатинского округа №196). Председателем комиссии был избран Суханов, заместителем председателя – Цветкова, секретарем – Н. В. Петрова.
По закону территориальные комиссии должны были формироваться выборным органом местного самоуправления, а при его отсутствии – окружной избирательной комиссией. В Москве в это время не было выборных органов районного уровня, поэтому формировать территориальные комиссии пришлось окружным. Предвидя, что число кандидатов может оказаться большим, чем число мест в комиссиях, я заранее на заседании окружной комиссии предложил определить процедуру отбора кандидатов, но не был поддержан большинством коллег.
Как я и предвидел, на следующем заседании окружной комиссии, на котором должен был решаться вопрос о составе территориальных, возникли бурные дебаты. Представители районных Управ привезли протоколы выдвижений на нужное количество человек. Помимо этих, непосредственно в окружную комиссию поступили протоколы от «Демократической России» и ДВР. Ряд членов окружной комиссии откровенно говорили, что кандидатуры в состав территориальных комиссий должны подбирать супрефекты: с них, мол, потом можно будет спросить за срыв выборов, а какой спрос с членов избирательной комиссии?! Когда же ставился вопрос о том, что избирательные комиссии не должны быть зависимы от органов власти, то разговор поворачивался в другую сторону: районные Управы не подбирали кандидатов, а просто собирали протоколы, чтобы все вместе отвезти в окружную комиссию.
В результате под нашим давлением представители половины районных Управ согласились ввести в территориальные комиссии по одному представителю ДВР или «Демократической России». По другим районам окружная комиссия утвердила тот список, который предложили Управы.
Регистрация кандидатов
Избирательная комиссия Чертановского округа получила уведомления о выдвижении от трех десятков кандидатов. Однако подписные листы сдали лишь 14 из них.
У большинства кандидатов, представивших подписные листы, проблем с регистрацией не возникло. Разумеется, у всех какая-то часть подписей была «забракована», но оставшихся подписей им хватило, чтобы быть зарегистрированным. К подписным листам кандидата М. П. Карпенко, выдвинутого движением «Образование – будущее России», возникли претензии, поскольку они содержали избыточную информацию по сравнению с формой, приведенной в законе; тем не менее большинство членов комиссии признало эти листы изготовленными по форме.
Лишь у двух кандидатов в подписных листах была обнаружена «липа».
Первым подписные листы сдал председатель Центрального совета НПФ «Память» Д. Д. Васильев. Его листы проверялись особенно тщательно как из-за того, что он был первым, так и из-за его особой репутации. Была проведена выборочная проверка, и несколько избирателей, чьи данные стояли в подписных листах, заявили, что за Васильева не подписывались.
Тогдашнее законодательство не давало подробных указаний, как быть в таких случаях. Окружная комиссия руководствовалась Разъяснениями «О порядке работы избирательных комиссий с документами, представляемыми избирательными объединениями, избирательными блоками, кандидатами в депутаты для регистрации федеральных списков кандидатов, кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», утвержденных Центризбиркомом 3 октября 1995 г. В этих Разъяснениях было сказано, что «в случае сомнений в… достоверности подписей избирателей избирательная комиссия вправе… принять решение о направлении папок с подписными листами, вызывающими сомнения в достоверности данных, в органы дознания и следствия. В этом случае все направленные в эти органы подписные листы с подписями избирателей не учитываются при установлении избирательной комиссией количества подписей избирателей, собранных в поддержку… кандидата в депутаты».
Руководствуясь этими Разъяснениями, окружная комиссия приняла решение направить все подписные листы, собранные сборщиком, у которого была обнаружена «липа», в прокуратуру. Прокуратура довольно не скоро, но все же возбудила уголовное дело. Суд же над сборщиком состоялся уже после выборов.
Оставшихся подписей Васильеву не хватило для регистрации, и ему было отказано. Однако время у кандидата еще было, и он продолжил сбор подписей. В окружную комиссию было представлено дополнительное количество подписных листов. Вновь проверялись подписи. В этот раз явной «липы» обнаружено не было, но вызвали сомнения несколько листов, где дата внесения подписи была проставлена другими чернилами. В 1999 г. эти подписи без сомнений были бы «забракованы». А тогда после длительного обсуждения они были признаны действительными, после чего подписей оказалось достаточно для регистрации. Чем мы руководствовались? Могу сказать о себе: в первую очередь я исходил из того, что у нас не было оснований утверждать, что данные подписи не были проставлены избирателями или были проставлены в другой день; сомнения – это всего лишь сомнения, они не были ничем подтверждены. Но было на втором плане еще одно соображение: я считал, что будет полезно, если все (включая и самого Васильева) увидят, что лидер «Памяти» не пользуется поддержкой избирателей. А для этого нужно было дать ему возможность баллотироваться.
Другая история произошла с подписными листами кандидата от ЛДПР, эксперта Государственной Думы Л. А. Игошева. При проверке этих подписных листов первоначально мы обратили внимание на одно странное обстоятельство: на одном листе вначале идут 2—3 подписи жильцов одного дома, затем 2—3 подписи жильцов другого дома, затем опять подписи жильцов первого дома, а потом вновь подписи жильцов второго дома. Когда мы просмотрели все листы, то обнаружили, что листов, заполненных таким образом, ни много ни мало 147 (из 582). В большинстве случаев каждый лист заполнялся в течение одного дня. Более тщательный анализ показал, что большая часть избирателей, попавших в подписные листы, проживает всего в 11 домах. Например, нам удалось обнаружить 419 подписей жителей одного дома, распределенных по 60 листам. Результаты выборов 1991 и 1993 годов не позволяли делать предположения об особой популярности ЛДПР среди жителей именно этих домов.
В разных листах (в том числе заверенных разными сборщиками) были обнаружены строки, заполненные, по-видимому, одним и тем же почерком. Чаще всего один почерк соответствовал данным из одного дома. В ряде случаев возникало впечатление, что лица, заполнявшие листы, пытались разнообразить почерк.