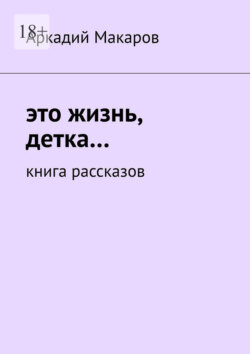Читать книгу Это жизнь, детка… Книга рассказов - Аркадий Макаров - Страница 7
Это жизнь, детка…
…И СЕЙ ДЕНЬ НЕ БЕЗ ЗАВТРА
Оглавление…А утром меня разбудил дятел. Он так споро колотился клювом о сучок стоящей перед окном сосны, что мне вначале подумалось: кому это пришло в голову в такую рань строчим на швейной машинке. Повернувшись на другой бок, я увидел, что швейная машинка системы «Зингер» как стояла, так и стоит в углу нетронутая. В последние тридцать лет за нее никто не садился. Это после того, как ушла от земной жизни незабвенная Евдокия Петровна, бабушка моей жены, любившая свою внучку, а заодно и меня нежным материнским чувством, заботливым и тревожным.
Швейная машинка, покрытая голубой скатеркой, напомнила мне родительский дом, далекий и призрачный, как утренняя звезда в тумане. Точно такая же машинка в руках моей матери обшивала и кормила нас, голодных и золотушных детей послевоенного времени…
Да, действительно, самое тяжелое в жизни – это молиться Богу и дохаживать родителей.
Оставив городскую квартиру, чистую и уютную, как золоченая шкатулка, мне пришлось перебираться в другую область, в старинное придонское село Конь-Колодезь – название-то какое! Село расположено вдоль магистральной дороги, соединяющей Кавказ и юг России с Москвой. Село длинное, как застежка-молния, по которой туда-сюда, не гася скорости, мчатся груженые фуры и тяжелые трейлеры со всякой всячиной.
Правда, недавно была открыта объездная дорога, но она платная, и машины по старой памяти нет-нет да проутюжат, притихшую было большую дорогу, распугивая обнаглевших кур и сытых вальяжных гусей.
Родители жены достигли той жизненной вершины, спуск с которой требует надежной опоры, чтобы не соскользнуть в пропасть.
В конце жизни всех нас ждет одно и то же, поэтому, подставляя плечо утомленному на долгом переходе, мы тем самым загодя готовим и себе защиту, в надежде, что и тебя кто-то поддержит на сыпучей каменной уклонистой дороге…
…А вчера была генеральная уборка. Изо всех щелей и закоулков дома наружу лезла лохматая неприглядность запустения.
Ненастному дню не к лицу цветные одежды. Поздняя осень всегда неряшлива, пока не облачится в белые одежды зимы. Старость снисходительна к окружающей обстановке. Не до того ей.
Когда жена скребла и чистила, на первых порах наводя более или менее сносный порядок, я, разбирая чердак от хлама, наткнулся на старое пыльное зеркало в деревянной самодельной оправе.
Зеркало было настолько старым, что мое отражение в нем не угадывалось. Амальгама местами осыпалась, оставляя мутные проталины. Смахнув рукавом слежавшуюся пыль времени, я обнажил сущность вещи, которая служила, по крайней мере, лет сто, равнодушно отпечатывая на своей глади мгновений образ заглянувшего в его глубины человека. Без его живого взгляда зеркало мертво. В нем ничего нет, космическая пустота. Всякое отражение отсутствует. Только глаз человека способен подарить зеркалу его глубину и наполненность.
Протирая зеркало, я заглянул в него и ужаснулся. Нежели это я?
Некрасивый морщинистый образ усталого человека испугал меня. Кривая усмешка передернула искаженные внутренними противоречиями губы. Я оглянулся назад, в паутинную завесу чердака, в надежде отыскать там образ отраженного в зеркале человека. Но за спиной у меня никого нет. Только большой и синий, как слива, паук шарахнулся куда-то за пазуху потемневшего от старости стропила, испуганный вибрацией паутины, задетой моим дыханием.
Позади меня никого нет. Значит, это действительно я! И печаль вошла в мое сердце и поселилась там.
«О, моя юность! О, моя свежесть!»
Я пристально стал рассматривать зеркало под разными углами, удивляясь его ветхости. Зеркало, по всей видимости, было изготовлено кустарным способом из простого оконного стекла, далеко не кондиционного: по всему полю были видны изъяны – потеки и наплывы, в одном месте белой оспиной застыл пузырек воздуха.
Конечно, коэффициент преломления в таком стекле был неоднороден и вносил в образ характерные дополнения, подчеркивая и утрируя его сущность. Так же, как человеческий глаз, в зависимости от состояния души, способен отмечать разные характеристики одного и того же предмета.
Иногда удачный шарж говорит больше, чем фотография.
Но я, кажется, отвлекся.
На сосне стучал дятел, и мелкие опилки, припорашивая хвою, осыпались на землю. Утро было свежим и чистым, как дыхание десятиклассницы в том далеком времени, куда нет возврата.
Положив мне ладони на плечи, она что-то говорила, говорила без передышки, а я все никак не мог вникнуть в смысл сказанного, все смотрел на вырез ее платья, стоял и глупо улыбался неизвестно чему. Святое время!
…А дятел все долбил и долбил свой сучок, добираясь до самой сердцевины, где какой-нибудь жучок скоблил челюстями неподатливое дерево, насыщаясь им, безразличный ко всему, что находится вне среды его обитания.
Прихватив трехлитровую банку, я отправился в дальний конец села за молоком, у ближних соседей все удои были рассчитаны заранее – кому сколько, а мне, как вновь прибывшему, надо было искать свою молочницу.
Говорят, утренний удой самый полезный, поэтому я и отправился спозаранку по дальнему адресу, который мне настоятельно рекомендовала теща.
Дорога шла через парк, насквозь пронизанный апрельским солнцем, молодым и здоровым после зимнего недомогания. Листва еще не проклюнулась, еще, как цыплята в скорлупе, притаившись, набирались жизненной силы кипельные соцветья черемухи, еще ветви акации, сухие и жилистые, стояли окоченевшие в беспамятстве от прошлых морозов, но уже еле уловимая зеленоватая дымка окутала на взгорье одинокую средь тополиной поросли белоствольную русскую красавицу. Подойдя поближе, я увидел, как с неглубокого надреза ее в мягкую прозрачную бутылку, какими теперь заполнена вся торговая сеть, светлыми каплями стекал березовый сок. Бутылка была всклень, а сок все продолжал и продолжал капать, обливая шероховатую чернь комля и стекая на мягкую подстилку из прошлогодней травы. В этой мокроте копошились черные точки очнувшихся крохотных мушек.
Еще утро только начинается, а они уже готовы, набражничались, как вон тот идущий мне навстречу нетвердой походкой местный забулдыга.
Было жалко пролитой драгоценной влаги, и я, отцепив бутылку, стал пить прохладный пресноватый напиток, процеживая уже отвалившихся и плавающих в бутыли, как сон, маленьких мурашек.
Человек, увидев у меня в руках бутылку, оживленно завернул в мою сторону.
Несмотря на сравнительно теплую погоду, дядька был одет в глубокие валенки с калошами, темную телогрейку неопределенного цвета и кроличью или кошачью, теперь уже не разобрать, потертую шапку.
Скорее всего, это был ночной сторож, поставленный неизвестно зачем и охраняющий неизвестно что – какую-нибудь рухлядь в сельской конторе.
Несколько раз, двинув сухим ржавым кадыком туда-сюда, он с нетерпением, переминаясь с ноги на ногу, смотрел на меня, выжидая, когда это я кончу пить и ему что-нибудь оставлю.
Я нарочно стал тянуть время. Человек, вытерев рукавом рот, решил остановить меня неожиданным разговором.
– Тоже вчера перебрал? – участливо спросил он.
– Да, было маленько! – чтобы его не разочаровывать, согласился я с тем, что и сам, как он, мучаюсь с похмела.
– Оставь щепотку!
Я протянул ему бутылку.
– Вот сколько пью – не могу без кружки! Может, стакан найдется? – Он заинтересованно заглянул в мою сумку, в которой пузатилась банка под молоко.
– Может, из банки будешь? – пошутил я.
– Ты б еще из ведра предложил.
– Ну, раз не можешь пить из горла, давай бутылку обратно, – подзадорил я его.
– Я щас! Я щас! – заговорил он быстро, прижимая запекшиеся губы к горлышку.
Закрыв глаза, он в блаженстве сделал несколько глотков, потом лицо его передернулось гримасой отвращения. Он откинул бутылку в кусты, сплюнул на землю и выматерился.
– Над человеком смеешься!
– Прости, отец, не понял?
– А чего тут понимать? Я думал, ты самогонкой лечишься втихаря от бабы, а это дрянь какая-то!
– Так это амброзия! Самая похмелка и есть.
– Какая такая абросимая? Век не слыхал. Американская, что ли?
– Не американская, а настоящая русская. Березовый сок это.
– А-а… – неопределенно протянул человек, неизвестно что стороживший и неизвестно где всю ночь гулявший, пропивая потихоньку всякую хозяйственную мелочь какой-нибудь микроскопической конторы. – Березовый сок пользительный, – в раздумье сказал он. – От поноса хорошо лечит. Ты, чей есть-то? – перевел он разговор на меня. – Вот вроде на лицо знакомый, а так не скажу чей.
– Да приезжай я! Не местный.
– Ах, ты, мать-перемать! То-то я гляжу – не наш вроде, не коневский. Коммерцией занимаешься? Слухай! На днях свинью валить буду. Мясо почем берешь? Оптом отдам. Живым весом. Мясо, как масло сливочное. Ты свиней скупать приехал? Давай ко мне! По рукам! – он протянул корявую, как наждачная шкурка, пятерню. – А, чего ты сразу не сказал? Ты бы спросил Калину. Меня все знают. Ты почем за килограмм дашь? Абдула, чечен, с Воронежа приезжает. Так он, паразит, четвертак дает.
– Чеченец? Из Воронежа? Не может быть!
– Так он вроде чурка. Армянин, наверное. Не-е, за четвертак не отдам. Давай по-божески, за тридцатник!
Я начал его убеждать, что я не перекупщик, что я приехал к Алексею Алексеевичу, тут я назвал фамилию моего тестя, помочь старому по дому, и вообще я здесь никого не знаю, а сейчас иду за молоком к Ямщичихе, говорят, что у нее молоко хорошее.
– Вот ты бес какой! – мужик ударил меня со всего размаха по плечу. – Так я гляжу, ну, вылитый Ликсей Ликсеич. Ох, мы с ним и вина попили, страсть! Бывало, сидим на огородах, а он мне моргает. Давай, говорит, Калина, еще добавим! Нырк в подвал, да и вытащит жбан. И мы с ним вповалку! Бывало, моя старуха нас от солнца, чтобы совсем не заморочило, в холодок оттащит, мы и спим, как два брата. Да, а молока лучше моего во всем Коне нет. Ей-богу! Дай закурить!
Я сказал, что вот уже месяц как не курю, хотя тоже здорово тянет. Никак не отвыкнешь.
Здесь надо отметить, что мой тесть никогда в жизни более ста граммов водки не пил, то ли из принципа, то ли еще по каким-то соображениям, и пьяным, тем более, никогда не был. Здесь Калина загнул.
Он пошарил, пошарил по карманам и вытащил помятую пачку «Примы».
– Хотел твоих отведать, пшеничных… Чего тебе вдаль порется? Пошли ко мне во двор! Моя старуха-баба тебя отоварит. Молоко – сметана! Лучше не ищи! Пошли! Я здесь рядом живу. Давай десятку! Ну, за пузырь, что в твоем сидоре лежит.
Я протянул ему десятирублевку за трехлитровую банку молока, хотя по селу, мне сказали, три литра стоят восемь рублей. Но далеко идти не хотелось, а здесь вот оно, рядом.
Калина обрадованно свернул с аллеи и сразу же направился к большому особняку красного кирпича – прямо над Доном, с хорошим забором из крученой сетки, с гаражом и надворными постройками, тоже кирпичными. Я еще удивился, что у моего нового знакомого такие богатые хоромы.
Перед этой усадьбой его затрапезный вид меня несколько озадачил. Может, он и не сторож никакой? Может, с ночной рыбалки возвращается? Хотя в руках никаких снастей не было.
Обрадованный, что не надо никуда тащиться по селу, я повернул вслед за мужиком.
Быстро нажав на кнопку звонка в калитке, он сразу же нырнул за изгородь.
«А, черт! Банку забыл отдать!» – подумал я, подходя к калитке.
Мужик неожиданно быстро вышел, держа перед собой в зажатом кулаке, как керосиновый фонарь, уже хорошо початую бутылку, заткнутую газетой.
Он вытер губы и протянул бутылку мне:
– На-кось! Пить первым будешь! Небось нутро дрожит?
Я недоуменно смотрел на него, ничего не понимая.
– Мужик, не пью я! Мне молока надо.
– А, больной, никак? – посмотрел он на меня уже повеселевшими глазами, но с участием. – Вольному – воля! Ну, как хошь! – мой знакомый с нарочитой обидой сунул бутылку в замасленный карман. – Пошли, коли так, за молоком.
Он завернул снова в парк. И мне ничего не оставалось делать, как идти за ним.
Молодая поросль, отогретая после морозов, стала гибкой, уже опутывала ноги, уже не пускала внутрь парка, вся обрызганная грачиными нашлепками, словно здесь, только что перед нами, прошли маляры.
Плутая меж кустов, исхлестанный ветками, я вышел вслед за мужиком к побеленному небесной побелкой небольшому, приземистому дому, вернее хате, настолько она была похожа на гоголевские малороссийские постройки. Одна половина избы сложена из местного известняка, губчатые куски которого, изъеденные эрозией, торчали кое-как из стеры, другая половина оштукатурена и побелена мелом с синькой, оттого и приобрела небесный цвет.
Но… над крышей этой хибары, прямо из трубы, зажав метелку промеж ног, устремившись всем корпусом вперед и выше, рвалась в утреннее небо апрельской чистоты Баба Яга.
Лишь только спутанные космы и прутья метлы, как пламя спаренных реактивных двигателей, были отброшены назад, создавая невиданную тягу. Аллегория в порыве!
Я так и присел от неожиданности. Поскрипывая ревматическими суставами, эта чертова баба шаркала горбатым носом, принюхиваясь, откуда дует ветер.
То бишь держала нос по ветру, у кого какой навар во щах.
Ловкий жестянщик так искусно смастерил этот своеобразный флюгер, что мне и впрямь почудилось, как старая ведьма, растянув в беззубой улыбке рот, так и подмигивает мне, так и подмигивает.
Калина, мой новый приятель, сразу направился к дому, забыв и про меня, и про мою посуду.
– Банку! Банку забыл! – крикнул я ему.
– А! – он, обернувшись, хлопнул себя ладонью по лбу, подхватил банку и скрылся в избе.
Через минуту там послышались какая-то возня и громыханье.
Взвизгнув, открылась избяная дверь и хлопнула по тощему заду моего участливого знакомого, клацнула запором и закрылась. Из форточки послышался бабий скандальный голос: «Ах, ты сука поганая! С алкашом молоко воровать из дома! Я те руки-то укорочу, дурак плешивый!»
Моя банка пузырем вылетела из форточки и, звякнув о камни, развалилась на куски. Мужик, опасливая петляя к забору, разводил руками, всем видом показывая, что вот, мол, дура баба, я-то ни при чем.
Отодвинув доску в заборе, он нырнул туда головой вперед, почему-то забыв вернуть мой червонец.
Что делать? За удовольствие надо платить!
Я еще раз взглянул на рвущуюся в космическую высь Бабу Ягу, на ее шмыгающий нос и, спрятав теперь уже пустой полиэтиленовый пакет в карман, простив моему затейливому знакомому деньги, повернул домой за другой посудой.
Самый ближний путь был берегом Дона, и я по молодой, свежей зелени, сбивая ногами росу, шел, любуясь широкой, просторной рекой: вынянчившей казацкую вольницу, верных российских сторожевых ратников, стяжавших замечательную славу русскому государству, не за страх, а за совесть служивших ему.
В сиреневом кусту, сбоку от меня, попытался покатать стеклянную горошину соловей, но звук получился какой-то низкий, хрипловатый, и птах тут же осекся, устыдившись своей неумелости.
Видно, рано еще было соловьиным свадьбам. Вот станут светлее и короче дни, с обоих концов подсвеченные зорями, попьет он родниковой воды под бережком, прополощет горло, прочистит его, да и сыпанет хрустальные окатыши по росной траве, и, улыбнувшись, качнет головой прохожий человек, вспоминая свои молодые ночи, свою соловьиную песню.
Широк и спокоен Дон. Вода не течет, вода остановилась, зардевшись от ласковых прикосновений апрельского солнца, она замирает, готовая отдаться его пробудившему силе, его мощи.
Под ногами захлюпало. Я посмотрел выше по берегу, там из-под ржавого колотого известняка, юля межу тугими стеблями прошлогоднего батыря, дурной травы, бурьяна, омывая корни согбенной ветлы, вилял светлый ручеек. Родник упругими толчками питал его, как молодая мать своего первенца.
Нельзя было пройти мимо и не напиться, не причаститься этой благодатью. Я, встав по-звериному на четвереньки, припал губами к этому творению природы. В прозрачном болотце, на дне которого хороводились и толклись мелкие камешки, иголки сухих травинок и крохотные песчинки, промытые светлой водой, копилась жизненная сила.
Родник… Родина… Родители.
Я бы пил еще больше, но ледяная влага студила зубы так, что пришлось оторваться от этой благодати, и, зачерпнув на прощание этой самой влаги, я плеснул себе в лицо, по-детски радостно фыркая.
Вчерашние растерянность и уныние от запущенности и не ухоженности дома, в котором мне предстояло жить, от глухоты окружающего пространства, от предстоящих неизбежных печалей отпали от моего сердца, рассыпались и растворились в этой ключевой воде. Она струилась у моих ног в неотвратимом стремлении соединиться с вольной русской рекой, чтобы потом стать океанской влагой, горькой, как слеза, и, распавшись на неуловимые молекулы, взлететь к небесам, под самое солнце и снова пролиться дождем на землю. И, пройдя сквозь ее толпу, напитаться животворными соками, чтобы потом снова пульсирующими толчками выплеснуться уже в другом времени и у других ног. Великое коловращение вселенской материи, породившей и эту вербу, и село на горе, и меня самого. Да что я?! Маленькая соринка в океане жизни!
Поднявшись вверх по узенькой вихлястой тропке, я вышел на широкую деревенскую улицу с чистенькими домами, беленными все той же подсиненной известью, отчего стены высвечивали лунной голубизной.
Рядом, за старым разлапистым вязом, бесстыдно разинув с проломленными фрамугами окна, с облупившейся местами штукатуркой на отсыревших стенах, как напоминание о пронесшейся в недавнем времени перестроечной разрухе, задевшей своим бесчувственным крылом не только индустриальные города, но также и деревни, как-то неуклюже, углом выпирало большое строение. Бывшее здание совхозной конторы, отданное властями беженцам из братских союзных республик, разваливалось на глазах. Как говорится, без хозяина и товар – сирота.
Оторванный вороватой и неумелой рукой железный лист с крыши, зацепившись за единственный гвоздь, перебитым крылом свисал, обнажая темные ребра обрешетника. Потихоньку без должного пригляда двухэтажка времен развитого социализма оседает и рушится как само то время, в котором оно было построено.
Безхозность без лишней волокиты дала возможность временного прибежища разношерстному люду, где вместе с русскими беженцами в согласии и мире проживают также представители и других национальностей, не нашедшие общего языка и приюта в других краях.
За черемуховым кустом с уже проклюнувшимися почками, но еще по-осеннему прозрачным, в горестной, согбенной позе, выражающей крайнюю покорность, сидел, прижавшись боком к облупленной стене этого двухэтажного барака, пожилой худощавый цыган с реденькой всклокоченной бородкой и плакал, размазывая по-детски грязным кулаком слезы на впалой щеке.
Он, может, и не цыган вовсе, а так, неизвестных кровей бродяжка, но резкий крикливый выговор с обилием протяжных звуков, на котором говорил с ним молодой, плечистый «чавелла» в красной шелковой рубахе с широкими рукавами и в голубом бархатном жилете, говорили о принадлежности плачущего мужичонка к этому вольному народу.
Молодой рубил воздух ладонью, что-то строго и убежденно выговаривая своему соплеменнику.
И красная рубаха, и голубой жилет, и длинные волосы цвета вороньего крыла, и курчавая, в крупных кольцах, рисованная ассирийская борода, отливающая чернью, делали его похожим на киношного лубочного героя из оперы «Алеко».
Его жалкий соплеменник только хлюпал носом и повторял какую-то односложную фразу, словно в чем-то оправдываясь.
Молодой красавец присел рядом на корточки и по-родственному положил ему на плечо руку, на пальцах которой хищно светились широкие кольца желтого металла, после чего мужичок перестал всхлипывать и успокоился.
По всему было видно, что молодой занимает несравненно высокую ступень в племенной иерархии.
Расправив плечи, цыган в огненной рубахе поднялся и, не оборачиваясь, с высоко поднятой головой шагнул за изгородь.
Каково же было мое удивление, когда из-за угла двухэтажки, этого жалкого строения, нетерпеливо подергивая атласной кожей, коротко похохатывая, шагнул навстречу своему живописному хозяину такой же масти и стати жеребец.
Тряхнув гривой, он понес «рома» вдоль березовой аллеи навстречу солнцу.
Только шелковая красная рубаха, прихваченная голубым бархатным жилетом, да хромовые, зеркального блеска сапоги, да цокающий селезенкой конь.
Я закрыл глаза и снова открыл их, пораженный увиденным. Может, и не было вовсе того цыгана и его огненной рубахи, схваченной голубым бархатом, его вороного коня и того несчастного, что так горестно плакал, вытирая слезы грязной ладонью.
В наше вороватое время настоящего цыгана чаще можно увидеть в элегантном «Мерседесе», чем верхом, путь даже на очень хорошей лошади. Да и откуда он взялся, такой породистый и уверенный в себе красавец?
Огненная рубаха, голубой жилет, ассирийская борода.
Березовая аллея была пуста. Я оглянулся на барак, и там, где только что плакал жалкий представитель удачливого племени, сидела растрепанная столетняя ворона и долбила клювом землю, выбирая из скудной песчаной почвы какие-то полуразложившиеся остатки.
Выслушав неудовольствие жены по поводу исчезнувшей дефицитной на селе посуды и небольших, но все-таки денег, я, теперь уже деревенским порядком, пошел по другому, но тоже верному адресу.
– У Косачевой Клавдии молоко – ну прям как дыня! Сахар, да и только! – расхваливала теща, вспомнив еще одну молочницу.
– Ну, раз как дыня, тогда что ж… Тогда пойду к Клавдии, – согласился я с доводами знающего человека.
На деревенской улице надо было здоровкаться со встречным народом. Именно «здоровкаться». – «Здорово! Как живешь? Как выходит?» – «Здорово, здорово! Выходит хорошо. Вот входит плохо». – Ну и так далее.
Солнце уже полезло в гору и стало заметно припекать. Я расстегнул куртку. Люди шли по своим колхозно-совхозным делам, и мне «здоровкаться» приходилось то и дело. Молодые недоуменно на меня поглядывали, а пожилые вежливо здравствовались, одобрительно провожая взглядом. «К кому же приехал такой уважительный и хороший человек?»
Клавдия в загородке из тонких жердин доила корову. Чтобы не отвлекать хозяйку разговорами, я остановился, из-под далека наблюдая за ее действиями.
Молоко серебряными струнами резонировало в жестяном ведре, пело о травяном лете, о жарком полдне с гудящим тяжелым шмелем, который, ввинчиваясь в знойное марево, рвет его, открывая доступ нагретому воздуху, о первом покосе и ливне в конце дня, когда распаренное сено издает удивительный запах настоя, говорящего о целебной силе земли.
Клавдия, еще вполне не старая женщина лет шестидесяти, молодо привстала с корточек, поправила платок на голове и, легко подхватив оцинкованное ведро, налитое почти, что всклень белопенным парным молоком, почувствовала на себе мой взгляд, оглянулась.
– Здравствуйте, Клавдия Ивановна! – назвал я первопопавшее нам ум отчество, чтобы не быть невежливым.
– Не Ивановна, а Николаевна! – она коротко взглянула на меня, сразу определив, кто я и зачем пришел.
– А я слышала, Ликсеич говорил, что к нему дочь на догляд приехала. Ты ему кто же будешь? Зять, что ли?
– Зять, который любит взять! – пошутил я не к месту.
– Не скажи. Он вроде тебя хвалил. Пойдем в избу, я тебе парного налью, утреннего.
Изба у Клавдии Николаевны маленькая, чистенькая. Подзоры на иконах кружевные, наверное, еще прошлых, молодых времен. Половички один к одному, цветными дорожками устелили крашеный не коричневой, как обычно, а голубой краской пол.
– На-ка, попей! – она подала мне только что нацеженную большую алюминиевую кружку молока. Отказываться было бесполезно, да и обидеть можно, и я с удовольствием выпил теплое, еще пахнущее коровьим дыханием молоко. Банка была тоже налита по самую крышку. Клавдия Николаевна подождала немного, пока осядет пена, и долила до самого верха.
Я протянул деньги.
– Ишь чего удумал, гостечек ранний! Господь с тобой! За почин деньги не берут. Вот если твоей жене по вкусу придется, тогда что ж, тогда другое дело. Деньги, они всем нужны. Коль постоянно будешь брать молоко, тогда и расчет будем вести. А это так. На пробу.
Она открыла стоящий в углу холодильник и достала оттуда маленькую, из-под майонеза, баночку и протянула мне.
Я отрицательно мотнул головой.
– А это сметанка. Тоже на пробу. Коли понравится, можете у меня и сметанку брать. Бог пошлет, мы с тобой сладимся, – видя мой вопросительный взгляд, сказала женщина. – Бери! Повезло Ликсеичу! Какая б дочь, бросив работу, из города да в деревню приехала. К навозу да слезам старческим. Дай вам Бог здоровья! Всем бы детей таких. А то вон они, что нынче разрабатывают! Привет своим передавай!
– Спасибо! Передам, передам. Будьте здоровы!
Клавдия Николаевна проводила меня до самой калитки.
Молоко со сметаной пришлись всем семейным по вкусу.
– Надо б и творожка принести на пробу! – вставила в одобрительный и оживленный разговор теща.
Что ж, и творожка можно, были б деньги…
После завтрака «Ликсеич», мой ухватистый и неугомонный тесть, определил работу на много дней вперед.
– Подумаешь, писатель! Шолохов нашелся! От земли надо кормиться, от земли. Видишь, правительство какое! Вот на воре. Деньги все перетаскают, на что ты тогда питаться будешь? А за стол все любят садиться. Картошка будет – жив останешься! Сегодня огород пойдем копать. Да сначала ты землю куряком посыпь, куряком. У меня вон в сарайке два мешка стоят. Хорош куряк – чистый фосфат. А его еще года за два припас. Ты копай, я рядом буду. Подскажу, коли что.
Мои доводы о том, что я как-нибудь и сам без догляда сумею перелопатить землю, на него не подействовали.
– Ты, главное, куряк пороши, как хлеб солишь. А то я знаю вас – все абы да как-нибудь. С наскока. А ты сначала куряком участок припороши и копай. Я тебе подскажу. Да кто ж так лопату держит? Ты землю вороши, вороши легонько. А ты раз – и глыба! Руками разламывай! Руками! – по-молодому топтался и кружился возле меня «Лексеич», меряя концом бадика, как щупом, глубину вскопа.
Я мысленно давно уже послал его далеко-далеко, к началу его времен, и продолжал копать огород так, как считал нужным. В самом деле, не расчесывать же старческие зудящие прихоти!
Он, видя, что я все делаю по-своему, обидчиво махнул рукой и ушел в дом досматривать очередной латиноамериканский сериал.
Копать – дело нехитрое, но сил отнимает много, хотя почва в этих местах песчаная и сыпучая. Несколько раз, нагнувшись и разломив пять-шесть ломтей еще влажной после нынешних обильных снегов земли, я бросил это занятие и продолжал работать только лопатой, пластая серовато-пепельную, несмотря на обилие весеннего с прошлых лет перегноя, землю.
– Молочай дергай!
Я глянул себе под ноги. Ни молочая, ни других каких-нибудь трав не было. Какой молочай в середине апреля!
– Не заваливай молочай-то! Дергай!
Жалко, что сериалы такие короткие! Человека, особенно пожилого, надо обязательно чем-нибудь занимать, чтобы у него не было времени и соблазна поучать других. А то черт-те знает, что услышишь!
«Ликсеич», для верности надев очки, внимательно рассматривал мою работу, критически покачивая головой:
– Землю не ковыряй так глубоко, ты ее легонько перетряхивай. Вся сила у земли наверху, а ты куряки зарываешь. Куряк, он картошку питает, а у молочая корни жилистые, глубокие. Ты сор кормишь. Картошка, она же до назема не дотянется, у нее корни сверху, вот сверху и питай!
Чтобы сдержаться и не перейти на грубость, я воткнул лопату в грядку и пошел в дом с намерением предупредить жену, – пусть она отца чем-нибудь, кроме огорода, заинтересует.
– Ну прям слова нельзя сказать! Сразу горячатся!
Выглянув из окна, мы с женой увидели, как «Лексеич», прислонив бадик к ограде, пытается что-то ковырять в моей наработке.
Только после нескольких уговоров, убеждая, что обед на столе стынет и уже почти остыл, «Лексеич», уронив лопату, с недовольным видом направился к дому, что-то про себя бурча, а я тем временем снова вернулся на огород с горячим желанием побыстрее закончить дело.
Погода установилась, и через недельку-полторы можно начинать сажать картошку, которая по всем мыслимым и немыслимым правилам агротехники уже зеленела короткими упругими ростками на открытой солнцу веранде.
– Бьем-колотим, гребем-торопим! – передо мной, слегка покачиваясь взад-вперед, всем своим видом показывая, как он хорошо выпил и теперь рад моей с ним встрече, стоял сосед Саша Дмитриенко, бывший московский страж порядка, за что-то крупно погоревший на службе и в одночасье лишившийся всех столичных благ, причитающихся милиционеру, привилегий, а заодно и жены, и дома. Сюда, в родное село, он вернулся уже после смерти родителей – избу за бесценок продавать не хотелось, да и жить где-то надо было.
Милицейская служба отучила его от каждодневного упорного труда и приучила к дармовому вину. Теперь работать в совхозе за мизер он, как бывший городской житель, не захотел, резонно рассудив, что мешок-другой зерна или комбикорма для немногочисленной живности ему и так, за бутылку самогона (а надо признаться, самогон у него был – самый дерунец, на чем он его только настаивал?), доставят с полным на то удовольствием, а свободу и вольное время ни за что не купишь.
На какие деньги он жил – неизвестно, но дружбу по старой памяти водил с районной милицией, которая у него часто останавливалась за полночь, и тогда далеко разносились девичьи повизгивания и короткие смешки с беззлобным матерком.
В летнее время Саша еще промышлял с Дона рыбой, и я, в надежде с ним хорошо побраконьерничать, привез с собой из Тамбова замысловатую финскую сеть и теперь с нетерпением ждал времени, когда вода поутихнет, прогреется и можно будет раскинуть темной ночкой по Дону капроновую паутинку.
Видя мой заинтересованный разговор с праздным соседом, сзади подошел обеспокоенный «Лексеич».
– А-а, дедуля! Здорово будешь! Запряг зятя. Наваливай да тащи, что подадут – не взыщи! Отдай деду лопату! – это ко мне. – Пойдем вино пить!
Дмитриенко был на хорошем пару. Пил он каждый день, и хорошо пил. В холщовой сумке у него уже тяжело позвякивала посуда. Чего-чего, а самогонки в селе можно достать в каждом доме. Коль своя кончилась, у соседа одолжиться можно.
– Вот пивка купил, – качнулся в мою сторону Саша. – Айда Бичевскую слушать!
Надо сказать, что с Дмитриенко я сошелся еще давно на почве антисоветских песен, которые он привез из столицы в больших черных дисках под его еще ламповую радиолу.
Тогда мы с ним для затравки выпивали бутылку-другую самогона, которые я приносил с собой, он ставил пластинку на фетровый диск, – чаще это была несравненная Жанна Бичевская со своими белогвардейскими песнями, – и Саша, обхватив белесую, выгоревшую на солнце голову руками, покачивался в такт музыке и горько плакал о загубленных душах любивших русскую землю и православную веру больше, нежели свою жизнь.
– Пойдем поплачем!
Я стал объяснять Саше, что вот уже полгода как не пью, да и ему не советую пить в середине дня.
Видя настроение соседа и опасаясь, что сегодня огород не будет вскопан, в разговор вмешался «Лексеич»:
– Не, зятек зарок дал не пить! Пригласил бы ты его раньше, он бы за тобой до Воронежа ускакал. А теперь не пьет.
Опасаясь, как бы Дмитриенко не перешел на личность, что с ним часто случалось, тесть стал расхваливать его умение к винному делу.
– Ты вот пьешь – и ничего! Пьешь – и ходишь, с людьми разговариваешь по-хорошему. А он, – «Лексеич» тряс бадиком в мою сторону, как школьный учитель на нерадивого ученика указкой, – пить не умеет. Как напьется, так сразу или спать завалится, или начнет чай хлестать. Одну заварку дует. Выпьет и снова заваривает. Я, говорит, себя в чувство привожу. Ты вот, с умом пьешь, а он весь ум пропивал.
Мы, посмеиваясь, перемигнулись с Дмитриенко.
Насчет чего-чего, а ум я никогда не пропивал. Крепкий, свежезаваренный чай после хорошей выпивки, конечно, употреблял, что было моему тестю непонятно: зачем чай снова заваривать, когда еще со вчерашнего вечера заварен целый чайник…
Саше Дмитриенко то ли понравились речи «Лексеича», то ли ему не хотелось идти в избу одному, поставил сумку к ногам моего тестя —
«Сторожи, дед!» – подхватил у забора лопату и пошел молотить землю так, что я едва поспевал за ним.
«Лексеич» хотел что-то возразить, но, вероятно, раздумал и, сердито стуча бадиком, пошел снова к дому.
У Саши в избе порядок. Половички еще материны, лоскутные. В углу стоит печь-голландка: с одного бока плита для хозяйства, с другой стороны камин для души и удовольствия. Напротив, со стороны камина, новая двуспальная кровать, застеленная плюшевым, в экзотических ярких цветах одеялом-накидкой – последняя реликвия семейной жизни. Было видно, что эта кровать давно не использовалась по назначению. Сам Саша спал на небольшом складном диванчике, вместо матраца служило ватное одеяло в продольную стежку, как на телогрейке, в головах вместо подушки лежал еще с милицейских счастливых времен форменный темно-синий бушлат в скатку.
Наверное, Саша встал с этой постели недавно и то только для того, чтобы достать выпивку, действительно, что он, алкоголик, что ли, – пить в одиночку?
Саша из тумбочки вытащил свой долгоиграющий заветный диск и включил радиолу.
Из двух расположенных по углам вместо икон динамиков хлынула знаменитая скорбная песня о белых офицерах, гонимых со своей земли красными ордами:
Четвертые сутки пылают станицы.
Набухла дождями донская трава.
Не падайте духом, поручик Голицын,
Корнет Оболенский, налейте вина.
Саша не пьет. Выжидательно смотрит на меня. Не улыбается. Вот, мол, смотри, что негодяи с защитниками Отечества и русской веры сделали! А при словах «И в комнатах наших сидят комиссары, и девушек наших ведут в номера» горько мотает русой головой, наливает полстакана самогонки, резко откидывается, вливает в себя содержимое, опять горько качает головой, ловко, двумя пальцами, подхватывает в трехлитровой банке огурец собственного посола и медленно всасывает его сердцевину, растворившуюся от рассола – самый смак для выпивающего.
Саша сидит, как истинный участник тех далеких трагических событий. Сейчас он князь Оболенский, попавший в окружение большевистских банд. Он будет отстреливаться до последнего патрона. До самого смертного часа.
Саша наливает еще стакан, предлагает мне, затем безнадежно машет рукой и выпивает сам.
Горючего осталось мало. Боеприпасы кончаются. Кругом залегли комиссары.
Ах, русское солнце! Великое солнце.
Корабль «Император» застыл, как стрела.
Поручик Голицын, а может, вернемся?
Зачем нам, поручик, чужая страна?
Саша обхватывает голову руками, и первая, самая светлая слеза на его белесых, выгоревших ресницах.
Он держит голову руками и тихо стонет, но уже над другой песней о земляках-казаках.
– Сволочи! Всех порублю! Всех!
Мне тоже почему-то захотелось выпить за русскую былую славу, за оплот Российского государства, за казачьи засеки, секреты и заставы. «Россия лежит на черпаке казацкого седла».
Я наливаю себе вонючий, пахнущий дурнотой перегон и тоже выпиваю, подхватив, как и Саша Дмитриенко, небольшой одутловатый огурец, и высасываю его сердцевину. Нет! Надо идти домой, в семью. Так здесь не мудрено и спиться. Саша берет меня за плечи. Снова трясет головой. Божится к праздникам починить лодку и уплыть к… (он говорит самую распространенную русскую фразу и валится на диван).
А дома меня ждала радость. Привезли поросенка. «Хапает и хвостик в завиток», – значит, зимой мясо будет…
Вечер теплый, ровный, обещает долгое лето, выманивает меня на улицу. Жена приказывает, чтобы долго никуда не ходил, вот она уложил родителей спать, и мы пойдем к старой сосне на Дон посумерничать. Посмотреть, как, успокаиваясь, засыпает вода, не сразу, исподволь. В сладкой дремоте она нет-нет, да и всплеснет, опомнившись, широким, как новая лопата, лещом или, вспомнив что-то веселенькое, прыснет в рукав серебристой верховкой…
А Саша Дмитриенко все никак не наладит лодку, и мои снасти пылятся, еще ни разу не видевшие воды.
Стою, навалившись грудью на палисадник, и наблюдаю сказочный тихий закон над Доном. Темно-красная занавеска от земли до неба еле держится на одном гвозде, сверкающая шляпка которого так и впилась в нерукотворный атлас – звезда вечерняя. Смотрю умиротворенный в долгожданном одиночестве, философствую про себя. Хорошо!
Вдруг из призаборного куста шарахнулся в мою сторону неопределенного вида человек.
– Ах ты сволочь! – это ко мне. – Ты зачем Колюню напоил? Брата моего. Из-за тебя он в Ельце в отсидке рюхается. Он, Колюня, как выпьет – звереет. Горячий! Особо если недопил. Его надо сразу с ног валить. К утру очухается и человек человеком! А так – бес рогатый. Маманю чуть топором не зарубил. Она весь огород стоптала. Козел! – потом опять ко мне. – Дай десятку!
Я в растерянности не мог выговорить ни слова. Ни вчера, ни на прошлой неделе я никого не поил, да и сам уже забыл, когда пил.
Передо мной стоял малый лет тридцати. Несмотря на вечернюю прохладу, в майке с узкими, как на бабьей рубахе, плечиками. Карманы оттопырены. Что-то там уже плескалось. Растрепанный его вид говорил, что парень решительно возбужден.
– Не знаю я никакого Колюни! Сашу Дмитриенко знаю. Калину – знаю. А Колюню – нет, не знаю. Еще не успел познакомиться, а теперь вряд ли познакомимся. А ты все – Колюня да Колюня! Не поил я никого!
– Во, точно! Я же тебе говорил, что ты не Серега Митрофанов! Так я гляжу, вроде это не ты. А так – вылитый Митрофан! Мы с Колюней близнецы. Только я старше его, а он, гад, меня не слушает! Я первый родился. На три часа раньше. Пусть он, сука, в Ельце колотится. Маманю чуть не зарубил. Весь огород вытоптали! Я вот и приехал с Урала маму проведать. Она в Хлевном в больничке лежит. Говорят, поправляется! – он, как противотанковую гранату, вытащил из широкой штанины уже початую, судя по всплеску, и хорошо початую, бутылку. По всей видимости, самогон.
– Давай за знакомство! Я угощаю! А завтра и ты меня опохмелишь. Давай! На! – он вытащил зубами бумажную пробку и протянул бутылку мне.
В другое время я, может быть, и помог бы разделить с ним печаль по Колюне, но не теперь. Странно, но я перестал любить состояние опьянения, оно стыло вызывать у меня чувство отвращения и, конечно, после длительного воздержания не хотелось бы вот так нырять в темную воду.
Я отрицательно покачал головой, возвращая бутылку странному незнакомцу.
Он с искренним удивлением взглянул на меня:
– Ты что? Правда, не будешь?
– Нет, не буду! – сказал я, как можно суше и короче, чтобы отвязаться от неожиданного благодетеля.
– В перстнях… С печатками, – сказал он с обидой. – Крутой, что ли? Дай четвертак!
– Крутой. Круче бараньих яиц. Сотню тебе не разменять? А мелких у меня не водится, – сказал я, намереваясь идти в дом.
– А-а… Так и сказал бы. А я тебя с Митрофаном спутал, – сразу протрезвев, подался по своей извилистой дороге говорливый незнакомец, Колюнин брат.
А закат все висел и висел, тяжелея понизу темной бахромой. Сверкающий гвоздь все так же торчал в темнеющей синеве теперь уже ночного неба, только блеск его стал еще чище, еще блистательней. Венера в полной фазе.
Вот и кончился еще один день и еще один вечер моей деревенской, хлопотной жизни.