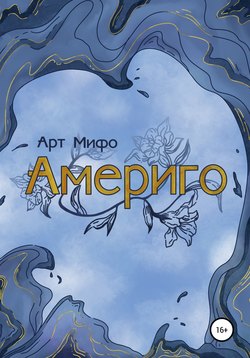Читать книгу Америго - Арт Мифо - Страница 3
Смелость
Глава 2
ОглавлениеФрау Левски подошла к нему около семи часов.
– Ах, ты уже не спишь! – без особенного удивления пробормотала она и вернулась к духовому шкафу. Рональд еще похрапывал, теперь без помех растягиваясь на матраце.
Обстановка апартамента № … была небогата и не располагала ни к чему праздному. У левой от Уильяма стены рядком теснились платяной шкаф с резным орнаментом на дверях, зеленый диванчик и комод для хранения белья и других важных вещей (на комоде – бронзовые статуэтки Создателей, совсем не такие красочные, как в Школе). Двуспальная кровать у правой стены каждое утро облачалась в покрывало с вышитым изображением великолепного прибрежного сада. Кроватка Уильяма стояла у единственного окна, которое выходило на запад. Из окна было видно высокую сплошную ограду, разграничивающую палубы, и сверкающие крыши на той стороне. Два деревянных стула простаивали себе возле родительской кровати, но шли в дело в том случае, если утренних гостей было двое или даже трое. В пустом углу между спальными местами висели две примыкающие друг к другу полки – с книгами для Уильяма и герра и фрау Левски. Как раз под этими полками мальчик обычно усаживался ради чтения. Напротив его кроватки, по правую руку от входной двери, стоял старый кухонный сервант, а рядом с ним – плитка, мойка и маленький холодильник. Скатерть на столе была украшена скучным зеленым узором.
Уильям приподнялся на кровати и глянул на стол. Там уже появилась голубая картонная коробочка в соблазнительную белую клетку – мама все-таки побывала в кондитерской накануне. Это было здорово – значило, что она больше не сердится! Но потом он вспомнил о жадных пальцах захаживающих к ним Господ и сразу же сник.
Он решил еще чуть-чуть подумать о Парке перед завтраком и был очень озадачен, когда вместо девочки по имени Элли к нему возвратился кислый запах страшного существа, которому они едва не попались той ночью в лапы. Тогда он отметил, что дурных мыслей оно теперь не вызывало, только странный интерес – у Уильяма ведь была игрушечная фигурка островного тигра, который скалил свою пасть прямо так, как должен был скалить тот зверь. И вот Уильяму захотелось выяснить, действительно ли он издает такой запах, – тигр жил совсем рядом, под его кроватью.
Он вылез из-под цветистого одеяльца, стал на четвереньки и потянулся за ящиком с игрушками.
– Уильям, ты же давно ходишь в Школу, – заметила фрау Левски, возясь с длинноносой туркой.
Мальчик высунул голову из-за нависшего одеяльца и уставился на нее. Она почувствовала это и обернулась, вытирая забрызганные руки о зеленый передник.
– Тебе уже не нужны игрушки, – сказала она, улыбаясь очень миролюбиво; она понимала, что теперь можно быть с ним помягче. – И твои глупые книжки уже ничему не научат…
И снова опустила руки в мойку; тонко зашипела водяная струя и задребезжала посуда.
– Уильям! Тебе ведь скоро семь! – добавила она все же осуждающим тоном.
– И что с того? – внезапно возразил ей мальчик.
– Как это что! – Фрау Левски так удивилась, что выронила блюдце, и оно брякнулось в мойку одновременно с ее возгласом, превратив его в устрашающий вскрик. Уильям вздрогнул. – Ты становишься взрослым, а значит, должен быть серьезным и слушать своего учителя, а развлекать себя бестолковыми детскими россказнями взрослому мальчику вредно! Спроси отца – вон он начитался, теперь храпит, бездельник, забыл, что у нас к восьми будут гости!
– Подымаюсь сейчас… – послышалось бурчание с большой кровати.
– Но, мама, что ты говоришь! – пришел черед удивляться Уильяму. – Ты же сама их читала, разве нет?
– Только до пяти лет! – гордо отозвалась мать. – Или около того – уже не вспомнить… А потом я училась шитью! Что за нелепость – никому не нужно было объяснять мне, что вредно, а что полезно, вот ни-ко-му! А ты… Мальчишка.
Она расчувствовалась.
– Я всегда думала, что буду шить одежду… Красивые платья из шелка и льна! Сколько одежек я пошила еще девчонкой! Правда, они даже на куклах не смотрелись, кроить я так и не выучилась… Что и говорить, завидую фрау Дайс!
Уильям под шумок опять нырнул в подкроватную прохладу, нащупал гладкую кромку и дернул на себя. Ящик грузно пополз на свет, бороздя шероховатые доски; гулкий, малоприятный звук раздался по всей комнате. О мастерстве фрау Дайс матери пришлось забыть.
– Уильям! – возмущенно прикрикнула она, но голос ее тотчас же стал очень тонким и жалобным. – Рональд!..
Отец сел на кровати и, чтобы проснуться, похлопал себя по грубым, покрытым колкими черными точками щекам.
– Делай, что мать велела, – сказал он равнодушным басом. – Оставь этот ящик, а не то я тебе его на голову надену.
* * *
Около четверти девятого в дверь постучались.
– Создатели мои, творцы! – взволнованно зашептала фрау Левски. – Это, должно быть, пришел Господин! Но отчего так поздно?
Она устремилась ко входу. Рональд спокойно занял привычное место за столом. Стук повторился. Уильям, который благополучно стрескал уже порцию овощного пюре, забрался на кровать и начал усиленно думать о всяких приятных вещах, потому что гостей он не любил.
– О, я уже иду! Открываю! – воскликнула фрау Левски.
А за дверью стоял строгий голубой костюм. В нем, понятно, находился еще и человек, но человек был худой, как карандаш, и костюм висел на нем, как на вешалке; кроме того, физиономия была ужасно юная и непредставительная, с едва проскочившими жидкими усиками, так что фрау Левски узнала именно костюм.
– Зайдите, – растерянно пробормотала она. – Господин…
Она ждала, что он вежливо объявит свою фамилию, но он вместо этого сделал два резких и широких шага внутрь, даже не пошаркав туфлями о половик, и очутился у стола. Фрау Левски последовала за ним.
– Вы присядете вот здесь, – мягко объяснила она и выдвинула стул с противоположного конца стола, чтобы гость сел спиной к окну и детской кровати; она знала, что Уильям будет ей за это благодарен.
– Ничего подобного, – возразил тот. – Я очень тороплюсь и поэтому сяду ближе к двери.
И он бесцеремонно захватил место, которое хозяйка отвела для себя; та пожала плечами и отошла к плите. Небритое лицо Рональда на миг исказилось от негодования, но он с легкостью его выправил. Ему было не впервой, хотя манеры властителей обычно его так не сердили. Гость тем временем завладел крохотной серебряной ложечкой, предназначенной для поедания пирога, и звякнул ей о чашку, наполненную вкусным кофе.
– Ваш кофе похож на сквозняк, которых в этом прекрасном доме уже более чем достаточно, – неодобрительно заметил он. – Вас не предупредили, что я появлюсь в восемь-пятнадцать?
– У ваших друзей принято переступать мой порог ровно в восемь часов, – с непоколебимым почтением ответила ему фрау Левски. – Все было готово к восьми.
Господин покачал головой и ткнул ногтем в картонный верх клетчатой голубой коробочки, тот распахнулся, обнаруживая желто-бурую плитку фаджа. Он недоверчиво ковырнул ее, затем взялся за десертный нож, неумело покромсал плитку, выскреб уголок и отправил его в рот. Стоило ему прикусить, и его лицо сделалось не просто непредставительным, а прямо-таки злым и сплющенным, как у обиженного ребенка. Еще забавней стали смотреться его усики! Рональд сумел опять сдержаться – теперь от усмешки.
– У меня с этой стороны челюсти неисправен коренной зуб, – с достоинством, насколько того могло хватить в сплющенном лице, пояснил молодой человек.
– Сломался? – участливо спросила подоспевшая фрау Левски. Она опустила поднос с пирогом посередине стола и села напротив гостя.
– Неисправен! – раздраженно повторил Господин. – Скорее предоставьте мне новый кофейный напиток, соответствующий температурным требованиям.
Мадлен вздохнула и пошла опять к плите, чтобы подогреть турку. Когда гость вдоволь поковырялся в зубах острым держалом серебряной ложечки и глотнул обжигающего кофе, он вдруг улыбнулся и перестал выражаться злыми бумажными словами. И даже приступил к пирогу.
– Полюбился мне ваш лимонный джем! – весело сказал он минуту спустя, чувствуя, видимо, огорчение хозяйки «сквозняком». – Вы и вправду мастер, как мне говорили!
– Смею думать, тканье у меня выходит лучше, – скромно ответила фрау. – Если бы только я умела кроить…
– Не принижайтесь, милая фрау Левски, – еще польстил ей молодой властитель, соизволив наконец к ней обратиться, и тут же все испортил: – Весьма вероятно, с кройкой вы бы справлялись не хуже, чем с пирогами!
На сей раз он вовсе не думал ее оскорблять, да и Рональд поначалу принял комплимент как положено, но вот выражение лица хозяйки теперь больше любой вещи в апартаменте напоминало о том самом сквозняке. Она разом проглотила то, что оставалось от ее куска, поднялась и швырнула блюдце в мойку. Увидев это, ее муж насупился и решил-таки перейти в наступление.
– Нельзя ли узнать, когда вы окончили Школу? – осведомился он почти без страха в тоне.
– В минувшем году, – охотно признался юный Господин. – Но учитель верил в мои способности, а Глава моего Отдела поощряет меня как возможно – не сочтите за хвастовство…
– Знаете ли, мне не нравятся эти ваши усы, – перебил его угрюмый Рональд. На эти слова даже фрау Левски обернулась с перекошенным от испуга лицом. Муж не обратил на нее внимания, хотя она возбужденно кивала на бронзовые фигурки на комоде, так что блюдце в ее руках расплескивало воду на зеленую стену. Молодой человек, впрочем, тоже на нее не смотрел, он улыбался Рональду.
– Знаете ли, мне не нравится ваша небритая физиономия, – снисходительно ответил он. – А кроме этого, от вас отвратно несет вчерашним размышлением. Но ведь вы понимаете, в чем разница между нами? Я – ваш Господин, законописец. Я же могу издать закон, чтобы вам сокращали месячное жалованье за неблагополучный вид на службе. Общество нашего Корабля наверняка осудит вас, а я слышал, что это не очень приятно. И, скажите, разве захотите вы в таком случае оспаривать решение Господина, достойного наместника Создателей на Корабле?
– Вы издадите закон? – насмешливо отозвался герр Левски. – Думаете, мы, рабочие, не понимаем распорядок ваших трудов? Я, между прочим, читаю «Корабельный Предвестник» и знаю, что издать закон может только властитель первого ранга и для того необходимо одобрение самого Главы палубы на Собрании!
– Я не говорил, что это случится прямо завтра, – хитро сказал юноша. – Но вам еще стоит поискать такого, кто стремился бы к Цели усерднее моего, а где усердие, там и высокий ранг. Вероятно, я и сам однажды буду Главой палубы и приведу наш Корабль на остров – отчего нет?
Рональд опасно захрипел, но не стал ничего говорить вслух. Тут деликатно, три раза, стукнули в дверь.
– Рассыльный! – ахнула хозяйка. – И он чего-то припозднился. Рональд, я сама заберу!
– Весьма благодарен тебе, Мадлен, – пробурчал тот, наблюдая, как Господин за обе щеки уплетает кусок воздушного пирога.
– …Распишитесь за прием, – послышался голос рассыльного.
Скоро на столе появились, ликующе звеня, три небольшие, объемом в полчетверти литра, склянки. На каждой была наклейка с мелкими надписями, и с виду сосуды казались неотличимыми друг от друга. Несмотря на это, фрау Левски без колебаний выбрала одну из склянок и вынула пробку.
– Тебе чего неймется? – удивился Рональд, забыв о несносном поедателе пирогов. Господин, услыхав этот вопрос, поднял голову, прекратил жевать и на мгновение даже сконфузился. Хозяйка накапывала в стаканчик не что иное, как благоразумие, которое в таких случаях было полезно для успокоения.
– Герр Левски, – торжественно сказал молодой человек, прожевав свой конфуз вместе с остатками бисквита, – ваша супруга очень рассудительна и по-настоящему привержена Заветам. Следуйте ее примеру, прошу вас! А мне пора уходить. Как вам уже известно, я сегодня страшно тороплюсь.
Фрау Левски едва кончила наполнять стаканчики для домашних, как он уже захлопнул за собой дверь.
Герр Левски запустил пальцы в голубую коробочку, а жена перенесла все порции на стол и хотела выговорить ему за безрассудное поведение, но взгляд ее застыл на серебряной десертной ложечке, которой Господин пытался выковырять неудачно выбранное лакомство из своих властительских зубов. И ей подумалось на миг, – только на миг! – что гость все же заслужил эти нападки: в конце концов, ложечка была одним из ее любимых сувениров.
– Неплохо бы сводить его к парикмахеру, – заметил Рональд, указывая на мальчика, о котором все позабыли. – Что-то он слишком оброс.
– Мама! – вскричал Уильям со слезами в голосе. Только-только он обрадовался быстрому исчезновению строгого голубого костюма!
– В самом деле! – чуть не в восторге подхватила фрау Левски. – Завтра как раз воскресенье, устроим обед, а потом сходим к фрау Барбойц!
«Да чего же это с ней такое?» – в отчаянии думал мальчик.
Но вдруг он просиял.
– А как же Парк, мама? – нашелся он, уверенный в том, что мать не пойдет против Школы. (И Элли! Тогда завтра он опять будет с Элли!)
– Ну, – задумчиво произнесла фрау Левски, – никто не мешает мне еще поговорить с учителем, а почему бы уж ему не отпустить тебя на воскресный обед с твоими мамой и папой? А если и он недоволен твоей праздной шевелюрой, в чем я не сомневаюсь, то я честно предупрежу его, что ты немного задержишься. И нечего тут возражать, мы еще не забыли, что ты выкинул с этим Парком! А теперь выпей свою порцию. Я пока вычищу твой пиджачок.
Уильяму оставалось только надеяться, что до завтра она закружится со своей службой и сливовым джемом для воскресного пирога и все равно отведет его в Школу, – а он сумеет скрыться в Лесу на весь день и отдалить невыносимую стрижку хотя бы на неделю.
* * *
Учитель не оставил без внимания пятничную просьбу фрау Левски – он и впрямь согласился пожертвовать отдыхом на уютном холсте ради того, чтобы маленький пассажир понял свою вину и вовремя избавился от праздных искушений Парка.
– Я говорю с тобой как с другом и прошу тебя, мальчик, помни, зачем милосердные Создатели дали тебе увидеть это чудесное место!..
Уильям уже не особенно верил ему. Элли, которая не высовывалась из Леса, никак не могла прознать об учителе, но сам учитель наверняка о ней знал и обманывал его, Уильяма, и других детей! А как можно было верить тому, кто говорил, как злодей, неправду?
«А вдруг Элли – это такое же Благо, как и цветы? Ведь тогда получается, что учитель правильно не говорит о ней, – с тревогой подумал он, сидя, как прежде, у воды – в окружении гладких камней, на прилипчивом песчаном настиле. – Завтра спрошу у нее, можно ли забрать ее с собой».
Без Элли этот день тянулся, как вязкие конфеты, которые Уильяму преподносили в дни Праздника Америго. Конфеты все же никогда не были скучными и почти никогда горькими и неаппетитными (во всяком случае, если после праздников не приходилось сдавать его на растерзание зубному доктору; тогда-то он никак не мог думать о конфетах без горечи). Ему очень хотелось рассказать кому-нибудь о принцессе – но он понимал, что рассказывать некому. Герр и фрау Левски решат, что он ее выдумал, учитель снова накажет его, а уж остальные дети просто поднимут его на смех. Теперь его слушали только воды во рву, безмолвные камни и песок.
Учитель в это время сидел на своей подстилке, прислонившись к широкому стану одного из деревьев. Он давно погрузился бы в блаженный сон, но ему мешала жалкая и почти неподвижная фигурка невдалеке. Он вздыхал, качал головой и нашептывал что-то в воздух, обращаясь так, по-видимому, к самим Создателям.
* * *
Все привело к тому, что появлению фрау Левски Уильям обрадовался куда больше обычного.
Родители подходили вереницей прямо к воротам Парка, и по низкому гулу их голосов ученики догадывались об их приближении еще на берегу. Заслышав этот гул первым, Уильям вскочил на ноги и бросился к лестнице. Учитель намеревался прочесть ему короткое заключительное наставление, однако наставлять было некогда – он должен был пройтись по вверенной ему окраине Парка и созвать детей. Ворота он открывал загодя, и Уильям проворно взбежал на палубу. Фрау Левски жестом велела ему догонять ее на 1-й Северной, чтобы они не искали друг друга в стремительно растущей толпе на маленькой площади.
Она встретила его такими словами:
– Сейчас зайдем к фрау Бергер, а дома я возьмусь за джем. Пошли!
С вами наверняка бывало, чтобы все вокруг оборачивалось против вас, вопреки всякой логике, дважды кряду. И Уильям, поначалу обрадовавшись, тут же пожалел о том, что этот день закончится именно так, а не как-нибудь иначе.
Мать нередко заходила по вечерам и воскресеньям в цветочный салон «Розалинда» (названный по имени фрау Бергер). На палубах в большом количестве водились искусственные цветы; эти цветы, как символы Благ острова, украшали заведения, учреждения и некоторые дома и апартаменты. Фрау Бергер продавала такие цветы Господам и собственникам за достойную цену. Фрау Левски никогда не покупала у нее цветов, только любовалась на них, из почтения к хозяйке… А Уильям и вовсе не мог понять, зачем нужно брать его в этот салон. Фрау Левски постоянно жаловалась цветочнице и рассказывала ей что-то, а потом опять жаловалась, и жаловалась в ходе рассказов, и рассказывала в ходе жалоб. Обе они повторяли одни и те же слова: «труд», «законы», «пресса», «кораблеоны», «доктора», «положение», «благополучие», а еще забавное слово «ратуша», похожее на какую-нибудь мохнатую зверюшку из Леса. В эти разговоры Уильям не вмешивался, и женщины совсем не замечали его рядом с собой. Конечно, если не считать приветствия от фрау Бергер: «Ах, так это Уильям, малыш! Так здорово подрос – вам так не кажется, милая фрау Левски?» Розалинда Бергер любила вставлять в самые разные места отрывистое и колкое слово «так», и это понуждало его думать о ткацком станке, с которым мать проводила шесть дней в неделю.
Прогулке же он был, пожалуй, немного рад. Чтобы попасть в салон фрау Бергер, им следовало дойти от дома до противоположного конца 3-й Западной, затем пересечь большую центральную площадь. На этой площади располагалось внушительное здание с высокой четырехугольной башней, имеющей замысловатые очертания; вокруг него обитали яркие искусственные цветы на фигурных клумбах. Из клумб явно складывались какие-то символические узоры, но различить их могли только те, кто наблюдал с подходящей точки – из окон верхнего этажа или с обсервации на башне. Между их изгибами непрестанно маневрировали занятые люди в голубых костюмах, и там даже чаще, чем в других местах, слышалось слово «ратуша». За площадью, если Уильям и фрау Левски шли напрямик, им сразу открывался Восток палубы, и если они выбирали нужную, 4-ю, улицу, то оказывались среди несравнимо спокойных рядов опрятных магазинчиков, салонов и ателье, где можно было заказать дорогие льняные брюки, приобрести новый портфель или несессер или сделать фотографию. На этой улице находилась и парикмахерская фрау Барбойц, и, когда они приближались к горящей красным светом необычной вывеске (в фамилии Барбойц буквы «б» и «о» – кольца огромных ножниц, у той же буквы «б» вместо верхнего элемента – красный гребень в форме полудуги), Уильям начинал заметно подрагивать. Мать при виде этого кляла себя вечными муками в Океане за то, что не заставила его натянуть лишний слой одежды, даже если погода стояла безветренная и вообще – весенняя. Теперь бояться было нечего – вывеска не горела, парикмахерский салон был закрыт и не мог привлечь внимание фрау Левски. А вот электрическое сияние, излучаемое с купольного потолка салона «Розалинда», не гасло до глубокой ночи, и оттого с улицы казалось, что за витриной сохраняется солнечный день.
На сей раз они добирались до площади по длинной 1-й Северной улице, серой, неприветливо глазеющей на них с высоты плоских крыш. Возле этих апартаментариев никого еще нельзя было найти, разве что горстку реставраторов, озабоченных службой, или электротехников с динамическими фонарями. Не было тут и стариков – те выходили на мостовую после девяти, когда включались большие уличные фонари.
Центральная площадь и в сумерках жила деятельной спешкой; правда, здесь фонари включали раньше, так что Уильям и фрау Левски не столкнулись ни с кем из Господ. Впрочем, эти Господа суетились на площади так часто, что легко увиливали бы от столкновений и с завязанными глазами. 4-я Восточная улица, наоборот, пустовала. Только одна собственница разминулась с ними, стуча каблуками и отчего-то кутаясь при такой погоде в длинное пунцовое пальто. Уильям ее не заметил – они проходили в это время мимо закрытого салона фрау Барбойц, и он следил за тем, чтобы буквам-ножницам на вывеске не вздумалось загореться в неподходящий момент.
Немного спустя с правой стороны улицы вспыхнул другой, гораздо более яркий свет; салон «Розалинда» имел стеклянный фасад. Внутри было еще ярче, нестерпимо ярко; Уильям повертел головой. Из-за зеркальных перегородок, установленных по всему салону, мальчику мерещилось, что салонов сразу несколько и все они непостижимым образом складываются друг в друга – словно цветные фигурки, вырезанные на страницах тех книг, которые он рассматривал очень-очень давно, когда ему было три года или и того меньше. Книги приносили удовольствие, но от теперешнего зрелища его стало слегка подташнивать. Из-за зеркал появилась женщина в броском пурпуровом плаще и с золотыми завитками вокруг лица, и тогда он уже совсем пригнулся к полу и как-то болезненно мыкнул.
– Уильям! – вскрикнула мать и решительно, обеими руками, его разогнула. – Фрау Бергер, не найдется ли у вас воды?
– Разумеется, так! – странно улыбаясь, кивнула цветочница и отправилась в подсобное помещение. Уильям покашливал и сглатывал воздух, наполненный смесью парфюмерных запахов. Фрау Левски беспомощно оглядывалась по сторонам до тех пор, пока хозяйка не появилась опять и не поднесла им стаканчик с водой.
– Создатели, творцы! Благодарю вас, – обрадованно сказала Мадлен. – Как ваши продажи?
– Сейчас умеренно. К августу будет спрос и благополучие. А ваш сынок так вытянулся, прямо-таки эремурус!
Уильям поперхнулся.
– Ваши цветы не капризничают, – проворчала мать. – Вода ему, глядите, не нравится.
– Так что же тут удивительного! – заступилась женщина в завитках. – Как же ему не бояться воды? Всех нас, взрослых даже, Океан так страшит, так страшит! Что требовать от ребенка?
Фрау Левски опять согласилась с подругой, и они сменили тему. Мальчик смотрел на паркет, расписанный благовидными узорами – длинными, причудливо изогнутыми стеблями в спиральных отростках и лепестками разных оттенков красного, – и пытался забыть об обеих фрау так же, как они забывали о нем, но выходило это с трудом. Взрослые вообще гораздо лучше умели забывать всякие разности, даже очень важные – отец, например, еще с января обещал купить ему сувенирную фигурку волшебника Криониса, но так и не купил, хотя Уильям все время помогал ему вспомнить, столько перечитывая при нем свою книгу. И – как ужасно! – почему нельзя было теперь забыть о том, что утром ему запретили читать и играть?! Прощай, сувенирная фигурка! Ужасные, какие ужасные мысли! Но они смогли отвлечь его от болтливых женщин. А вот откуда брался такой яркий свет на потолке? Отец говорил ему, что в дома проводится электричество, которое можно держать в особом разъеме или выключателе. Когда оно понадобится пассажиру, чтобы разогреть чайник с водой или для чего-то в этом духе, оно всегда бывает под рукой. Уильям спрашивал, что это такое и почему его так называют. Отец смеялся и отвечал, что не знает сам, но про это, кажется, написано в умных научных книгах, которыми мудрые Создатели одарили жителей Корабля много-много лет назад. Уильям еще хотел спросить о том, как и откуда оно берется – но получил, едва заикнувшись, шутливую оплеуху. Боль была, однако, вовсе не шуточная, и он даже стал хуже слышать отца, который, ухмыляясь, говорил что-то о праздном любопытстве.
Он задумался, и все вокруг начало меняться в лице. Свет уже не раздражал его – он витал в солнечной и чистой вышине Парка Америго; не было места монотонным женским голосам, они уступили сумбурным птичьим трелям, а зеркала теперь создавали своими отражениями густоту неизведанного Леса. Так прошло долгое время; но наконец фрау Левски умолкла и обернулась на секунду, справиться о его состоянии; пришлось подумать и о ней. Грустно! Он хотел принести ей радость, и как она отвергла ее! Бедные ирисы, живы ли они? А ведь это можно выяснить прямо сейчас!
– Фрау Бергер, а где настоящие цветы? – неожиданно громко и смело спросил мальчик, и разговор застыл.
– Простите уж его, фрау Бергер, – опомнившись, сказала мать нетвердым голосом. – Ведет себя прямо как несмышленый… а ведь уже почти семь лет!
– Что вы так, милая фрау Левски, – примирительно ответила ей цветочница. – Вы лучше радуйтесь! Семь лет – так не семнадцать. Когда справляете?
– Да как же! – отмахнулась Мадлен. – Сразу после праздников! Верно ведь, с восьмого числа соблюдать?
– Так, – кивнула фрау Бергер. – Но вы все равно спроситесь! Или так невозможно?
– А благофактура встанет! Это вашим цветам хоть бы что, а у нас…
– Ну так вечером стол накройте. Тем более что ваши пироги, я так слышала – мечта любого мальчишки! Так, Уильям?
Тот уже отошел в сторонку и, повернувшись спиной, делал вид, что изучает большущую вазу с гелиотропами и ничего не слышит.
– Без того огорчаюсь в конце дня, а тут еще и ребенок, – пожаловалась фрау Левски.
– Так не огорчайтесь! – весело откликнулась цветочница. – Так вы не хотите приобрести искусственный цветок? Ваш мальчуган, между прочим, уже абутилоном увлекся. Прелестное, так сказать, растение!..
– Как же, это ведь праздность, это не принято… Вы забываете о моем положении.
– А мне говорили так, что рассматривают закон, чтобы все должны были иметь хотя бы одно такое растение, – поделилась фрау Бергер. – Вы знаете, как они толкуют предписания: сегодня так, завтра эдак. Сегодня сбивает с пути, завтра наставляет и поощряет к труду.
– Ну, пока еще рассмотрят, мы с вами в облака пойдем, – ответила Мадлен.
– Вероятно, так, – пожала плечами фрау Бергер. – Но ко мне вы все-таки заходите!
– Зайдем, еще зайдем! – улыбнулась фрау Левски и направилась к широким створкам стеклянной двери. Уильям, кинув еще озлобленный взгляд на цветочницу в завитках, последовал за матерью.
Фрау Левски не стала его ругать, и это было благоразумно: ей предстояла долгая готовка, а пироги из волнений получались недостаточно воздушными, уж ей это хорошо было известно. Уильям и без того очень опечалился, но, к счастью, тошнота не давала больше себя знать.
* * *
3-я Западная улица погрузилась бы уже во мрак, если бы не зажглись ряды одинаковых фонарей, похожих на леденцы из кондитерской. Людей на мостовой видно не было, они занимались всякими делами за горящими окнами. Уильям подбегал к стенам апартаментариев и старался подпрыгнуть как можно выше, чтобы подсмотреть хотя бы в нижние окна. Ему было интересно: все ли проводят вечернее время, как его родители, за беспокойными разговорами? Фрау Левски с недовольной миной сворачивала за ним, брала его за плечо и возвращала на дорогу, указанную с обеих сторон учтивыми фонарями. Свет проследовал с ними до самого конца улицы, а потом взлетел над темной оградой и унесся к рабочим постройкам соседней палубы, к большим полукруглым, как в Школе, окнам, и слился с удаленным рокотом механизмов.
В апартаментарии № … не горело ни одно окно.
Фрау Левски в изумлении приостановилась, и Уильям, почуяв свободу, быстро добрался до окон первого этажа. Некоторые из них были распахнуты, и он слышал разговоры, но разобрать, о чем говорили, было трудно. Несколько сбитая с толку, фрау Левски двинулась к парадному, и только уже внутри хватилась сына и громко позвала его. Уильям опасливо шагнул в темный проем, и тотчас его нащупала внимательная рука матери.
В глазах у обоих стояли желтоватые пятна от фонарей; фрау Левски опиралась на старые перила («в доме живет реставратор, а дом того гляди обрушится») и вела мальчика за собой. В каком-то пролете лестницы он попал тупым башмаком в ступеньку и наверняка разбил бы себе нос, но мать вовремя выставила руку, сама рискуя свалиться. Все же они благополучно достигли нужной двери – крайней правой на четвертом этаже, с круглой деревянной табличкой – как на всех дверях в парадном. Номер на табличке можно было различить, привыкнув к темноте.
Последней надеждой фрау Левски был крохотный, почти незаметный и днем, выключатель в стене на площадке. Но без электричества от него не было никакой пользы, в чем они и убедились.
Зеленая дверь с табличкой оказалась незапертой и вела, как и дверь парадного, в кромешную тьму.
– Ну что за сюрприз! – всплеснула руками фрау Левски.
Свет крайних фонарей как-то ухитрялся проникать через окно с улицы; благодаря ему в фигуре, распростертой на большой кровати, угадывался отец. Тот рухнул на кровать, не избавившись даже от рабочей куртки, а шляпу зачем-то надвинул на лицо – будто от такого света нужно было защищаться. Недолго думая фрау Левски крадучись подобралась к изголовью и аккуратно спихнула шляпу. Тут же она попятилась, чуть не сшибив Уильяма: шляпа была измазана какой-то липкой смесью – как раз в том месте, где она ее ткнула.
Рональд, конечно, только притворялся спящим. Он привык в это время ужинать и теперь, несмотря на обстоятельства, ждал. Когда стало ясно, что жена и приемный сын вернулись, он перекатился на бок и потянул руку к спинке ближайшего стула.
– К соседям заходил, знают? – услыхал он жалобный голос фрау Левски.
– Знают, что света нет. Что случилось, никому неведомо.
– Совсем неведомо? – спросила жена.
– Проводку, может, менять будут…
– А мы никого не видели.
– Зайдут еще, – неуверенно сказал Рональд.
– Вот оно, значит, как, – вздохнула жена. – А твоя шляпа? Надо же, такая старая, это даже в потемках заметно, а я не обращала внимания. Верно сказал Господин – у тебя неблагополучный вид! Пора на новую откладывать. И надо бы сперва костюм посмотреть для парада, стыдно выходить в одном и том же который год, – проворчала она, тщетно пытаясь разглядеть, чем именно запачкался кончик пальца.
– Пустяки, – сказал Рональд. – Что мне эта шляпа? На парад я в ней все равно не выхожу. Да еще поглядеть надо, может, надфилем поскребу, как подсохнет…
– Совсем испортишь, – ответила жена. – На тебя там целая смена смотрит, а ты будто из подвала вылез.
Рональд уселся на стул и стал шарить по столу в поисках острого предмета. Напрасно – все приборы были убраны в ящичек серванта.
– Что там с проводкой? Когда включат?
– Кого, проводку? – рассеянно пробормотал Рональд.
– Да нет же, электричество! Что с проводкой?
– Испортилась, известное дело. Что же с ней должно быть.
– Да ведь недавно меняли? – опять рассердилась Мадлен.
– Везде меняли! И в соседних домах меняли. Закон, что ли, новый такой.
Фрау Левски сама изнеможенно опустилась на стул.
– Да, – сказала она, – сколько теперь еще лет до этого острова?..
Рональд фыркнул и замолчал ненадолго.
– А ужинать есть? – спросил он затем вкрадчиво.
Мадлен покачала головой.
– Было кое-чего, – отозвалась она. – Только я теперь ничего не сготовлю. Кто в бакалею пойдет? Я устала.
– И мне нездоровится, – поделился Рональд. – Терпение-то осталось?
Мадлен, хотя этого не было видно, напряглась.
– Нам питаться нужно. Какое терпение?
– Какое… спасительное, вот какое. – После этих слов Рональд пробрался к серванту и начал там шуметь, выдвигая ящики. Звякнула склянка.
– Разобьешь, и будем мы втроем два куска доедать, – невесело сказала фрау Левски (поднос с пирогом она со стола не убирала). Отец тем временем поднес находку к окну, которое по-прежнему изливало на детскую кровать мерклый, болезненный свет.
– Оно, – заключил он. – Где стаканы?
– Я сама, – выхватила у него склянку удивительно тихо подоспевшая мать. – Уильяму поменьше, ему дадим пирога. Ребенок растет все-таки.
Уильям подумал, что, несмотря на забывчивость и равнодушие, быть взрослым, наверно, не так уж плохо – если им ничего не стоит отказаться от такой вкусной вещи даже в отсутствие гостей. Пока отец и мать делили между собой содержимое склянки (там, где это было возможно – на подоконнике), он с удовольствием вгрызался в сухую бисквитную корку и смаковал подсахаренную лимонную массу. Когда родители вернулись за стол, мать покапала оставшимся терпением на другой ломтик.
– Теперь как раз помягче будет, – уже радостно заметила она.
– Угу, – ответил ей полный рот. Мадлен ласково взъерошила приемному сыну волосы, смутилась, потом украдкой, под столом, потерла друг о друга ладони. «Завтра в умывальную», – строго наказала она самой себе и взялась за стаканчик, то же самое сделал Рональд. Отец и мать быстро выпили свои порции терпения.
Уильям схватил повлажневший кусок пирога и отправил его в рот целиком, но поторопился и начал прямо по-взрослому, с досадой, кряхтеть над скатертью. Фрау Левски засмеялась и стала хлопать его по спине, все крепче и крепче, и так увлеченно, словно приняла порцию усердия. Наконец он был вынужден сплюнуть немного бисквита обратно на поднос, чтобы мать оставила его в покое и только улыбалась.
Рональду ее радость не передалась. Он пристально смотрел на мрачно-зеленую стену и молчал. Вырвался жутковатый вздох.
– Заработался ты, – посочувствовала жена. – Когда смена?
– Завтра – в шесть-тридцать, – сквозь зубы ответил Рональд. – Но к обеду пустят, не волнуйся. Ох!
– Ложись, как раз хорошо успеешь выспаться, и боль уйдет.
– Ну уж нет! – возразил Рональд. – Я в уборную, – мучительно пояснил он и засобирался.
– Возьми тогда вылей ведро, – сказала она. – Не будет же всю ночь стоять.
* * *
Утром включили электричество. Фрау Левски быстро удалилась, а Уильям, который тоже проснулся рано и следил за ней полуприкрытыми глазами, вздохнул и свесил ноги с кровати. Он догадывался, куда она ушла, и от негодования начал болтать ногами взад-вперед, ударился пяткой о тяжелый деревянный ящик под кроватью и огорчился еще больше. Отец не должен был вернуться до обеда, но вот мама могла прийти в любую минуту, и притрагиваться к игрушкам он не смел. «Я возьму их в другой раз», – так решил он и поразмыслил, стоит ли теперь самовольно удирать из дому. Потом он как-нибудь объяснится, но если мама пошла в Школу… Учитель мог и в самом деле запретить ему приходить в Парк, в его угрозах не было никакого обмана. Ничего иного, как ждать и надеяться, Уильяму не оставалось. Он начал разглядывать домашнюю обстановку, стараясь на что-нибудь отвлечься.
С короткой цепочки на потолке – в углу над книжными полками – свисали часы. Обыкновенные часы, то есть небольшой диск с цифрами за голубым стеклом. Часовая и минутная стрелки двигали крохотные голубые кораблики на своих наконечниках вокруг яркого зеленого острова в центре циферблата.
Часы были новые – прежние разбил отец в одно из февральских воскресений, запустив под потолок какой-то свой инструмент. Почему он так сделал, Уильям не понял – перед тем отец спокойно сидел за столом и говорил, как всегда по воскресеньям, несколько дольше, изъясняясь мудреными словами из газеты или откуда-то еще.
Часы иногда покачивались, если в апартамент кто-нибудь заходил уверенными шагами.
Часы показывали половину восьмого. Изнывая от ожидания, Уильям снова лег на кровать.
Тишина и неизвестность угнетали его; если бы сейчас явился гость, то своей мерзкой повадкой и важничаньем непременно возвратил бы мальчику все милые воспоминания. Но по воскресеньям властители не приходили, и теперь, как он ни старался, в голове крутились одни страхи.
Минуло около пятнадцати минут, и он, не вытерпев, вскочил. Поволок запасной стул в пустой угол, залез и глянул внутрь родительской полки.
Для взрослых пассажиров была создана отдельная серия книг. Волшебников и других чудесных существ в них, по правде сказать, не было. Были такие же люди, и они не исследовали лесов и пустынь и не бросали вызов злодеям. Вместо этого они решали разногласия между собой и доставляли друг другу всякие неприятности, после чего стремились к сплочению и благоразумию и в конце концов добирались и до высших Благ. Кроме того, действие иногда происходило не на самом острове, а все еще на Корабле, – так, наверное, равнодушному взрослому легче было представить себя на месте персонажа, – и тогда судьба принуждала героев пройти какое-либо испытание. Книг было довольно много, больше, чем на полке Уильяма, хотя родители почти никогда ими не занимались. Мальчик поводил пальцем над корешками, и ему одновременно захотелось кашлянуть и задержать дыхание. Вечером мама достанет все книги, повозится с ними – с каждой по очереди, – и там уже будет приятно пахнуть влажной бумагой.
Он еще поскреб ногтем один из переплетов, решив, что из этого может получиться любопытный звук, потом слез со стула. Он, конечно, пробовал читать эти книги – никто ему не запрещал. Но истории были сложны, скучны, чересчур длинны и к тому же совершенно ничем не запоминались.
Кораблик на минутной стрелке достиг вершины.
Уильям облокотился на подоконник и стал смотреть на вымощенные улицы и крыши, сияющие утренним румянцем. Отыскал глазами мамину благофактуру на 1-й Западной, потом открыл створку.
Нежный холодок окропил лицо. Уильям просунул голову и плечи наружу, уже без страха, и прислушался к улицам, свободным от людской суеты. Потянул воздух ноздрями и услышал мерный рокот соседней палубы Аглиция. Благофактуры вели нескончаемую работу, не затихали они и по воскресеньям, хотя, как ему казалось, шумели совсем не так назойливо, как обычно.
Что-то приглушенно застучало. Уильям решил, что это все благофактуры, и вылез еще дальше, оторвав одну ногу от кровати. Стукнуло вновь и вновь, и мальчику даже почудилось, что стучит где-то под другой ногой. Он мельком глянул на часы наверху и ужаснулся. Часы робко раскачивались на цепочке. Стучали в дверь, и стучали упрямо, с нетерпением топчась перед самым апартаментом.
Кто это мог быть? Господин? Рассыльный? У мамы ведь есть ключи!
«Меня здесь нет, я сплю», – ринулась мысль, и он захлопнул окно, затем живо спрыгнул на кровать.
Страхи завалились обратно под одеяло.
Стук смолк. Зазвучали голоса – мужской, неокрепший, и женский, виноватый. Жалобно лязгнул замок. Фрау Левски, продолжая рассыпаться в извинениях, отворила дверь. Мальчик накрылся с головой.
– …Конечно, зайдите.
Она поставила на пол тяжелую корзину, издала сдержанный стон, чтобы не смущать рассыльного, и повернулась к его бумаге. Потом уже на столе очутились звенящие склянки. Уильям осторожно выглянул.
Получив бумагу с подписью, рассыльный пожелал хозяйке благого воскресенья и ушел. Фрау Левски глубоко вдохнула.
– Уильям! Я знаю, ты не спишь! – строго сказала она, отгибая уголок цветистого одеяла. – Поднимайся, будешь помогать мне.
«Как это – помогать?» – в панике подумал Уильям и вынырнул сам.
– Мама, я ведь иду в Шко…
Она снисходительно смотрела на него и ждала, чтобы он договорил. Но договаривать не имело смысла. Все уже было ясно! Никакого Парка… Уильям зажмурился и проглотил едкие слезы.
Фрау Левски усмехнулась, с азартом подхватила корзинку и – раз! – ссыпала все сливы в мойку.
– Помой и перебери ягоды, как я тебя учила, а я пока переоденусь. И ты тоже оденься, сейчас же! – велела она и распахнула двери шкафа. Уильям нехотя встал и напялил зеленые штанишки, которые на ночь вешали на спинку одного из стульев возле кровати. Тут только он вспомнил про другой стул, которого там теперь не было. Затаив дыхание, он прокрался в угол и потащил стул обратно. Забрюзжали половицы, но мать, к счастью, рылась где-то в недрах шкафа и не услышала. Затем он сообразил подвинуть стул к серванту. Вскарабкался на него, поджал ноги, сунулся в мойку и дернул за блестящий рычажок – показалась хилая струйка воды.
Для пирога джема нужно было немного, но фрау Левски готовила его с запасом. Варка затягивалась: плита нагревалась долго и при этом неважно. Джем варился в небольших мисках, из которых внушительную часть незаметно съедала сама фрау, проверяя его готовность и вкус. «Сахару много!» – восклицала она, и Уильям, если не был в ту секунду поглощен своими делами, подскакивал на месте.
* * *
– Я пришел, – раздался басовитый голос.
– Так, мы тут что-то придумали, – деловито заговорила фрау Левски и заглянула в холодильный шкафчик.
Герр Левски отбросил зеленую куртку и лениво пошел к ней.
– Стряпней занимаетесь? – сказал он, заглядывая ей через плечо. – Ну-ну. А размышление взяла? – задал он мимоходный вопрос. (Эту склянку продавали в лавке провизора.)
– Пускай тебе жалованье вначале повысят, потом будешь размышления свои водить, – огрызнулась вдруг фрау Левски.
– У меня скоро получка! – вознегодовал отец. – Могла бы и взять, большое какое дело! Воскресенье, у всех радость, а я должен о костюмах парадных думать?
– Одна у тебя радость, бездельник, – ответила на это Мадлен.
Она схватила склянку, которая стояла под рукой, и взялась за пробку. Пробка не поддалась. Пальцы, вымазанные сливовой массой, упрямо соскальзывали. Она скрипнула зубами.
– Ты с утра забыла принять? Как же? – уже несколько смущенно спросил Рональд. Фрау Левски ему не ответила, и тогда он вырвал у нее склянку.
– В этом ты силен, ничего не скажешь, – заметила она.
Рональд промолчал, откупорил склянку и вернул ей ее благоразумие. Она глотнула прямо из горлышка и после этого стала накрывать на стол. Пирог уже давно стоял на подоконнике, не портя никому аппетит.
* * *
С обедом справились скоро, и герр Левски блаженно прикрыл глаза.
– Говорят, на острове живут большие и маленькие создания, пригодные в пищу, и мы сможем ловить их себе сколько угодно! – мечтательно пробормотал он. – Как же все-таки недостает размышления, а, Мадлен?
– Тебе вечно недостает, – проворчала жена. – Лучше бы о ребенке думал. Вот переймет он твои склонности, и будете вместе празднословить и стамесками швыряться. А питаться одними размышлениями.
– То была кельма, – добродушно поправил ее муж. – И не ворчи так. Ты же приняла…
– Приняла, – кивнула фрау Левски. – А то бы задала тебе, бездельник, жару.
– Не ворчи, – повторил Рональд. – Давайте лучше пирог пробовать.
Фрау Левски, укоризненно на него покосившись, – чтобы не высокомерничал, – сгребла тарелки и отложила их в мойку.
Пирог оказался неописуемо вкусным, как и всегда, – но Уильяму было не до него. Какое ему могло быть удовольствие, когда неизбежность, лживо улыбаясь, заглядывала ему в рот и спрашивала вместо мамы – нравится ли ему пирог, и сдавливала его внутренности, зажигая между делом вывеску с ножницами? Ножницы злорадно щелкали и не спеша, как сытый паук, спускались с вывески к его голове, чтобы отхватить ее последним щелчком. Трудно сказать, отчего Уильям так не любил стричься – вероятно, хотел быть похожим на героя с красивой книжной иллюстрации? Но он и в зеркале-то видел себя редко, и не всего целиком (зеркало хранилось в сумке у матери, совсем небольшое; в нем она что-то рассматривала на своем лице)… Когда отец наказывал его, запрещая заниматься интересными делами или что-нибудь отбирая, наказание оставалось в силе недолгое, почти незначительное время. Уильям знал, что скоро получит все назад, и ждать было куда легче. Но волосы отрастали целую вечность! Он как-то пожаловался на это матери, та рассмеялась и сказала, что вечными могут быть только радость на острове или муки в синем Океане! Напрасно он пытался объяснить. «Ну и зачем тебе быть похожим на метелку? – трепала его по затылку мать. – А стриженому тебе мы купим голубую коробочку. Хочешь голубую коробочку? Ту самую». Уильям отвечал, что будет готов на такую жертву разве только ради волшебника Криониса. Мама не соглашалась купить фигурку якобы из-за ее дороговизны. Но ведь в сувенирном магазине «Фон Айнст» голубовато-белая фигурка из удивительного светящегося материала продавалась по цене всего-то четырех коробочек фаджа! Уильям едва не каждый день пересчитывал. Стрижек случилось уже куда больше четырех, но мальчик по-прежнему оставался ни с чем – мама умела находить себе оправдание, пусть оно порой выглядело точь-в-точь как угрозы отца.
– Чего ты все со своими капризами, а? – упрекнула его фрау Левски, еще будучи не в лучшем расположении духа. Странное дело – хотя родители не знали, что такое вечность на Корабле, они не могли жить без вечного недовольства в апартаменте. Обычно сердился герр Левски – к этому все привыкли, но когда отец был доволен, что-нибудь непременно досаждало матери.
– И Господ тут нет, никто тебя не тяпнет за руку! Бери-бери! – нервно продолжала она. Уильям втиснул в себя кусочек, только бы она не смотрела на него так пристально. Что же все-таки произошло с ней после того разговора с учителем? Он не понимал. – И помнишь, куда мы должны сходить? Доешь – и надевай пиджачок, вон он лежит на кровати. У фрау Барбойц короткий день, не успеем, придется в салон для рабочих идти. Сделают из тебя щетку, которой у отца на службе пыль из трещин метут. Так, Рональд?
Отец безразлично сопел, откинувшись на спинку стула.
– И ты собирайся, – приказала ему мать. – Так или не так?
– Конечно, – очнулся герр Левски. – Верно. Разумеется. Надо стричься.
Мальчик молчал и думал о Парке Америго.
* * *
Салон фрау Барбойц обслуживал по большей части собственников и Господ, потому был занят по-настоящему только на протяжении будних дней. В воскресенье, когда почтенные пассажиры отправлялись благопристойно отдыхать – к борту, в Кораблеатр или в богатый дом на званый обед, – салон принимал такие семьи, как Левски, которые в течение двух-трех месяцев откладывали на лучший, самый благополучный уход за волосами. Вообще-то рабочее население Корабля не слишком интересовали прически – то есть не так, как питание, размышление, одежда, украшения или сувениры. Но как бы там ни было, фрау Левски считала худшей праздностью в своем доме неблагоприличный внешний вид приемного сына и готова была отказывать себе в чем угодно – лишь бы он хоть время от времени выглядел достойным высших Благ и вечной радости.
Высокий красный потолок салона был украшен замечательными люстрами – белые фигуры творцов подпирали его мощными руками; ноги у каждой фигуры оканчивались матово-голубым плафоном, а к тому был прикреплен голубой обруч с подвесками из прозрачно-голубого хрустального стекла. Свет люстр отражался в красном мраморном полу, как в зеркальной глади воды, отчего салон казался значительно более просторным. Вдоль красной стены слева стояли в ряд обыкновенные зеркала – изящные полированные трюмо красного дерева – и красные вращающиеся кресла.
Фрау Барбойц, круглая немолодая женщина в красном халате, сидела возле трех других фрау – собственниц и Госпожи – на длинном красном диванчике у противоположной стены. Волосы у этих фрау спускались на плечи золотыми спиралями, и от них разило дорогим лосьоном. Поодаль, на особом кресле, устроился неопределенного возраста Господин – с большущим металлическим колпаком вместо головы, видно было только бритый подбородок и равнодушно сжатые губы. В зеркальном полу подрагивали подошвы его дорогих туфель с блестящими голубыми пряжками.
При виде Уильяма и его родителей круглая парикмахерша мигом освободилась от общества завитых посетительниц и услужливо повернула одно из кресел.
– Вот и вы, мой угрюмый завсегдатай! – любезно поприветствовала она мальчика. Завитые женщины, словно по команде, уставились на него, оценивающе склонив головы. Мужчина в колпаке небрежно сложил руки, покачал, закинув ногу на ногу, остроносой туфлей.
– Осторожнее, тут ступенька, вы помните? – добавила внимательная фрау Барбойц, когда Рональд уже занес ногу. Жена машинально его придержала.
– А ваши служительницы где же? – спросила она, забирая у сына пиджак.
– Как видите, посещаемость у нас все утро невысокая! – объяснила со смешком фрау Барбойц. – Я их отправила по домам. Мы тоже, как закончу с вами, пойдем в Кораблеатр. Пристойный отдых никому еще не мешал, видят Создатели!
– Верно, – кивнула Мадлен и присела на край диванчика. Три женщины доброжелательно глянули на нее.
– Сегодня же дают новое представление. Премьера! Это почти что Праздник! Кстати, насчет будущих праздников. Белинда собралась замуж, вы только подумайте!
– Ей давно пора, – подала голос одна из женщин, и ее золотые спирали задрожали в согласии. – Я все удивлялась, как возможно такое – тридцать пять лет, и все на одной высокой мысли! Без мужа, без детей…
– Без детей теперь точно, – подхватила другая.
– Верно, верно, – воодушевленно повторила фрау Левски, и тут они впятером пустились в такое живое обсуждение этого обыденного, казалось (хотя и запоздалого), решения, что Уильям и Рональд постарались углубиться каждый в свои мысли.
Хозяйка салона, увы, отвлеклась ненадолго.
– Уильям, что же вы стоите? Вот ваше кресло и чудное зеркало, полюбуйтесь пока на себя, неухоженного растрепу, и запомните, каким вы были раньше! А я приготовлю ножницы.
– Вот, я ему говорила, фрау Барбойц, растрепа! – умилилась мать.
Мальчик посмотрел на это красное кресло, затем на бубнящие завитки. Диванчик с женщинами находился чересчур к нему близко. Только в дальнем кресле, напротив которого молча сидел мужчина в колпаке, можно было бы кое-как отстраниться от взглядов присутствующих.
– Не хочу садиться здесь! – заявил он, набравшись храбрости. Женщины покачали головами, теперь неслаженно. Фрау Левски даже вскочила на ноги, но парикмахерша так громко и добродушно рассмеялась, что мать не стала ничего говорить и опустилась на место.
– Желание моего посетителя для меня – тот же закон, что и желание Господина! – воскликнула хозяйка и наклонилась к опешившему мальчику. – Где бы вам хотелось стричься, юный герр Левски?
– Вон, – робко махнул тот, почему-то в сторону колпака. Мужчина, словно почувствовав это, качнул туфлей и даже нервно сглотнул.
– Вы, вероятно, имеете в виду кресло напротив господина Финке? – догадалась фрау Барбойц. – Ну пойдемте! Что же, вы хорошенько запомнили свою внешность? Я вас не буду очень задерживать, вы же не фрау в годах. С вами не придется возиться, правда же, Уильям?
– Да у вас тут нет никого, можете хоть до завтрашнего утра его ощипывать, главное, чтобы человек наружу вышел, – донесся голос со стороны только что отвергнутого Уильямом кресла. Отец уже понемногу становился прежним; фрау Барбойц улыбнулась, однако, и ему.
– Вам, герр Левски, тоже сделалось необходимым постричься?
– Ну уж нет, – ответил Рональд, проводя рукой по затылку. – Я своему дому не враг. Бесцельных трат у нас хватает.
Фрау Левски бросала гневные взгляды то вправо, то влево, не зная, кого из домашних следует пристыдить в первую очередь.
– Что ж, мне, вероятно, даже повезло, – пошутила парикмахерша, выдвигая ящички изящного трюмо. – Волосы у вас жесткие, трудные, и соорудить из них толковую укладку, кажется, непросто. Это у вас с рождения или в «Тримменплац» предлагают новые услуги, каких нет у меня? Поделитесь!
Рональд фыркнул и закинул ногу на ногу. «Наверно, на него теперь тоже наденут эту пробку», – отчего-то подумал Уильям.
– И не судите уж так о тратах, были бы они вашими или нет, – добавила она, с предвкушением клацнув ножницами (несчастный мальчик затрепетал от этого в кресле). – Неужели вам безразличен ваш внешний вид? Неужели вы не хотите выглядеть благополучно?
– Не имею еще таких благ, чтоб волосы завивать кренделями, – парировал Рональд. Женщины возмущенно переглянулись. – Что до моей внешности, то мне и одного указчика хватило. Пускай сперва издадут закон и выпишут бумагу, а после делают со мной и моими доходами, что им вздумается.
– Да ты сам подрываешь их этим… размышлением, – вмешалась фрау Левски. Между мужем и женой завязалась наконец перебранка – с упоминанием не к месту и не ко времени и Создателей, и неба, и земли, и чудовищных глубин Океана. Между тем на плечи Уильяма опустилась огромная, резко отдающая не то стиральным средством, не то каким-то особым парфюмом накидка. Он увидел в отражении яркий рисунок острова: покосившиеся деревья, смятые в складках кусты и внушительно вздымающаяся у берега волна. Фрау Барбойц немедля укротила мятежные воды ребром ладони и повернулась к спорщикам.
– Не обижайтесь, но, по моему мнению, употреблять размышление – значит проявлять праздномыслие, – сказала она мягко и с достоинством, обращаясь к Рональду. – Разве Цель недостаточно привлекает вас? Разве великолепие Америго не трогает ваше сердце всякий раз, когда его наполняет праздная злоба?
– Мое сердце уже съедено, фрау Барбойц, – по-простому объяснил тот. – Обстоятельства меня скоро доконают. А Цель… что с нее взять? Я только размышлять о ней могу, обсудить – с женой только, сын еще мал… И вы меня отговариваете от этого. Пока я здесь, я – рабочий и нуждаюсь в предписанном отдыхе, а если его нет, мне и радости для сердца не видно.
– Вы, герр Левски, и без того на редкость умный человек. Но вас и впрямь снедает праздность, хотя и не так опасно, как ей позволяют некоторые. Вам лишь следует образумить свой ум, и все у вас и вашей семьи будет замечательно!
– Да, Рональд у меня способный умом, – тут же подтвердила фрау Левски, – только работает, наверное, мало, вот у него весь ум и не выходит в труд. Отсюда все эти размышления… И сын наш такой же. Семь лет почти, а, вы не поверите, каждый день требует всякие сказочные фигурки! Ну ничего страшного, на него-то еще есть надежда!
Рональд просто схватился за свои трудные жесткие волосы и больше ничего не говорил. Женщины в золотых спиралях продолжали переглядываться, обмениваясь ухмылками. Фрау Барбойц между тем натянула на руки тугие красные перчатки (они коварно щелкнули на ее запястьях) и не спеша приступила к делу. Посыпался обрезок челки, потом крупные клочки волос начали скатываться с макушки, свисать со лба, оседать на носу. Уильям зажмурил глаза.
– И с боков ему уберите, покороче! – громко забеспокоилась фрау Левски. – С боков!
– Пожалуй, пожалуй, – кивнула сама себе парикмахерша и взялась за виски, с необычайной для ее сложения ловкостью суетясь с ножницами, гребнем и щеточкой вокруг мальчика.
Уильям открыл глаза. Он видел в зеркале, как постепенно оголяются его щеки, и понимал, что вот уже скоро лицо опять превратится в уродливый, одутловатый треугольник, и мерзко вытянется над повязанной накидкой шея, и тогда он будет похож только на книжных злодеев!.. Глаза наполнились слезами, и он заморгал так часто, как мог, и подцепил, наверное, ресницей волос, потому что в одном глазу вдруг стало жутко чесаться. Он снова зажмурился, высунул руку из-под накидки, неосторожно провел пальцем и наткнулся на лезвие ножниц.
– Юноша! – впервые по-настоящему возмутилась фрау Барбойц. – Как же вы так! Я вам пальчик отхвачу и заметить не успею!
– Мама, я хочу в Парк… Мама, отпусти меня в Парк!.. – отчаянно прошептал Уильям, продолжая теребить веко.
– Чего это вы, юноша, шепчете? – жеманно осведомилась фрау Барбойц. – Ну же, не щиплите ваш глазик! Что у вас там?
Уильям дал выкатиться нескольким слезным каплям.
– Ну а это что за нелепость? – удивилась парикмахерша, теперь тоже шепотом. – Налипнут вам волосы на щечки, будет неприятно. Прекратите сейчас же.
– Мама, пусти меня в Па-арк! – во весь голос заревел Уильям, яростно натирая кулачком то один, то другой глаз. – Мама, пожалуйста!
Фрау Левски выглядела сконфуженной; она вновь не знала, к кому обратиться виноватыми глазами – к женщинам ли, которые все посмеивались между собой, к мужу, беспокоить которого было совсем неуместно… А Уильям плакал и звал ее, и вот она опять с тяжестью внутри думала о том, как трудно будет воспитать в этом крошечном человеке настоящее благоразумие и терпение.
Уильям вырвался из объятий красного кресла, едва не расцарапав затылок о ножницы, недоуменно замершие в воздухе, и вместе с накидкой ринулся к выходу. Фрау Левски ахнула три раза подряд, женщины на красном диванчике засмеялись звонче, почти уже хохотали, злодейки; и даже равнодушные губы под колпаком вынуждены были расплыться в улыбке. Рональд поднял голову. «Ступенька, юноша, ступенька!» – воскликнула за спиной хозяйка салона, но поздно. Уильям растянулся у порога и завопил еще громче: он серьезно ушиб колено. Тут женщины на диванчике недовольно сморщили лица, но у него не хватило сил долго вопить, и он просто тихонько захныкал, теперь на руках у обомлевшей приемной матери, не могущей проронить ни слова – от ужаса и стыда. Женщины, напротив, поспешно возобновили свою беседу.
– Я ведь не рассказывала вам, как обратилась к миссис Саттл из Аглиции? – сказала с негодованием Госпожа. – По вашему совету! И как она обошлась с моими чудесными локонами? Безобразие, ни ума, ни таланта – о чем только люди говорят?
– Обратитесь к ее служителю Роннингему, – предложила ей одна из собственниц. – Вот чьи усилия и талант ценятся! И не глядите, что он сам безволосый, это у него от папочки, они все в роду плешивые!