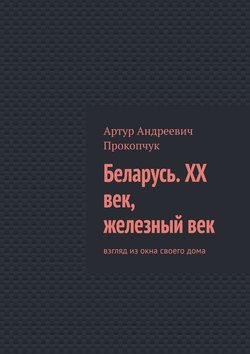Читать книгу Беларусь. XX век, железный век. Взгляд из окна своего дома - Артур Андреевич Прокопчук, Артур Прокопчук - Страница 5
Итоги Первой Мировой
ОглавлениеПокончив, в прямом смысле слова, с правительством Беларуской Народной Республики (почти все члены первого правительства БНР были репрессированы, расстреляны), окончательно, уже во второй раз, Россия присоединила земли другого народа к своим собственным, но под другим соусом. Завершился новый виток истории расширения Российского государства. Тем не менее, новая, на этот раз Советская власть ослабила административные вожжи управления культурным процессом на территории некогда самостоятельного государства. На несколько лет наступила «золотая пора» для развития «литвинской», теперь уже окончательно беларуской (этот термин усиленно насаждался в течение ста лет) самобытности – литературы, искусства, театра, кино. Ревнители теории трех братских народов неукоснительно называли край «Белоруссией». Им так было понятней. Советам на время стало недосуг – на всех «братских республик» не хватало ни сил, ни «красных профессоров», так назывались специалисты, ускоренными методами подготовленные для преподавания в высших школах Советской Республики теоретической экономики, исторического материализма, развития общественных форм, новейшей истории и советского строительства. Старая дореволюционная профессура или была отстранена от преподавания или изгнана за пределы новой империи, как это было в двадцатые годы, что в советской истории освещается под так называемыми «философскими пароходами». Списки «Антисоветской интеллигенции», намеченной ГПУ для высылки заграницу обсуждались на заседаниях Политбюро РКП (б), утверждались и подписывались руководителями правительства РСФСР.
Как ни пародоксально, именно в эти годы, в новой республике в начале 20-х, сложились наиболее благоприятные условия для развития национальной беларуской культуры. В республике проводилась политика беларусизации. Начали работать беларуские школы, был образован Институт Беларуской культуры. На его основе в 1929 году была создана Академия наук Беларуси. Но Москва скоро спохватилась, «не долго музыка играла», и с начала 1930-х годов поступательный процесс роста беларуской культуры был прерван, поскольку возобладал жёсткий идеологический контроль, были репрессированы многие деятели беларуской культуры и науки, настало время абсолютной русификации всей жизни республики.
Русификация Беларуси приняла в начале форму борьбы с «нацдемовщиной» (национал-демократией), а потом естественным образом перешла в «Большой террор», как назвали западные историографы вакханалию борьбы за власть Сталина и его окружения, начавшуюся в конце 20-х годов. Об этом времени можно прочитать в кратком очерке Сергея Крапивина с характерным названием – «Юрка Листапад – последний непуганый беларус» [9].
Борьба советских чекистов с «нацдемовщиной» в Беларуси порождала в головах у этих людей такие химеры, как «листопадовщина», «прищеповщина» и далее, по списку, и по имени всех впоследствии репрессированных беларуских литераторов. В такой же, примерно, последовательности исчезали все писатели, поэты и другие яркие представители народа.
Из очерка С. Крапивина приведу краткий отрывок для иллюстрации атмосферы того времени:
«„листопадовщина“, а также „прищеповщина“ и тому подобная „нацдемовщина“, – это когда трое и более человек собираются вместе и начинают общаться по-беларуски. А если к тому же один из них является специалистом в беларуской истории или филологии, то стопроцентно готово дело – контрреволюционная организация».
В предвоенные, советские годы, беларуский язык фактически перестал быть государственным языком и под предлогом узаконенного «двуязычия» республики был вытеснен из всех сфер общественной жизни. Ну, а после войны денационализация Беларуси пошла полным ходом и за два послевоенных десятилетия не было подготовлено ни одного учителя беларуского языка, проходила плановая ликвидация школьной сети с беларуским языком обучения.
За беларуское слово на протяжении всего ХIХ столетия Россия наказывала моих родичей, моих предков. За беларуский язык в 20-е годы двадцатого века «Советы» не только судили моих бабушек и дедушек, обвиняя в национализме… Казалось бы, время борьбы с национальными кадрами, борьбы сталинизма с национализмом, время «кровавого террора», уже давно позабыто, более полстолетия прошло. Но вот, чтобы в новой стране, в новом независимом государстве, в Республике Беларусь, в ХХI-ом веке, за беларуский язык убили, как это произошло недавно с одним из представителей многочисленного клана родственных мне Довнаров, такого уже давно не было (газета «Наша Нiва» за №45 (643) от 2 декабря 2009 года).
Согласно спискам жертв, опубликованным в книге Леонида Морякова «Ахвяры i карникi» [39] этот Довнар стал 31-м в «победном» мартирологе власти. Мало найдется других фамилий, которых с таким тупым упорством истребляла новая власть. Почему Довнары – трудно объяснить. Не было среди них политических деятелей, оппозиционеров или даже крупных исторических фигур. Может, только Довнар-Запольский дотягивает до энциклопедических страниц. Я подозреваю, что одной из причин очередного преступления над одним из Довнаров стало то, что этот Довнар разносил газеты, издаваемые на беларуском языке. Беларуский язык, как и в те далекие годы тотальной русификации, а позже и советизации края, остается до сих пор символом оппозиции новой, насквозь советизированной и русифицированной власти.
Беларусь, ее земли, города, ее народ (литвины, русы, или, как их называют сегодня, беларусы, не суть важно), были основой и главной составляющей частью Великого Княжества Литовского (ВКЛ) с момента его возникновения (ХIII век) до многоходовой аннексии ее земель Московским царством, а потом Российской империей, поделившей в несколько приемов-разделов федеративное государство «Речь Посполиту» (Общее дело, общая республика, польск. язык) с Австро-Венгрией и Пруссией. Третий раздел привел к окончательной ликвидации независимого конфедеративного государства, ПЕРВОГО КОНФЕДЕРАТИВНОГО государства в Европе, в составе которого находились беларуские земли, что произошло в 1795 году. На территорию Великого княжества литовского зашли русские войска.
В результате этих разделов в начале ХIХ-го века народы современной Республики Беларусь и Литовской республики попали в полную зависимость от Российской империи со всем ее административным аппаратом. Мировая война и две революции мало изменили это положение тягчайшего подчинения нескольких стран новой российской власти, Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, РСФСР.
Бесконечное перекраивание границ новых государств «старшим братом» уже через поколение приняло формы борьбы за историческое наследие ВКЛ. РСФСР, а позже Союз Советских Социалистических Республик (СССР с 1922 года), став преемником Российской империи, дважды за два десятилетия (1917—1939 г.г.) перекроил, вместе с Германией, карту Европы, «воссоединил» земли и народы Западной Беларуси и Украины, прирезал к ним Прибалтику, фактически присоединил к новой империи еще пять народов со своими землями.
Древняя Литва стала предметом спора двух новых государственных образований. Усугубило этот сложный вопрос безответственная передача Сталиным в 1939 году бывшей столицы ВКЛ Вильни вместе с Виленским краем из состава Беларуси (тогда БССР) в Литву.
Рамки моих исторических мемуаров не позволяют углубиться в эту проблематику, поэтому всех заинтересовавшихся переадресую не к трудам беларуских историков, а, чтобы не выглядеть слишком пристрастным, к недавно изданной монографии американского специалиста Тимоти Снайдера (Timothy Snyder. The Reconstruction of Nations. Poland, Ukraine, Lithuania, Belarus. 1569—1999. Yale University, 2003), где затронутой теме посвящена целая глава – «Споры за литовско-беларуское Отечество». Рецензенты уже высказывали мнение, что у книги есть все шансы стать настоящим научным бестселлером и основательно пошатнуть позиции официальной литовской и русской историографии в современном западном дискурсе.
Однако, по порядку шагов истории.
Двукратное провозглашение советской республики, сначала в форме Литовско-Беларуской ССР («ЛитБел», 27.02.1919), а через год, как Советская Социалистическая Республика Беларусь (ССРБ 31.07.1920), давали надежду на спокойное сосуществование всех этнических групп в многонациональной республике. Не должно было бы, так многим казалось, измениться что-либо существенно и после вступления в «союзное государство» (1922 год), уже в виде БССР, ведь была принята конституция с «правом на самоопределение, вплоть…". К тому же, главный символ республики – герб, был окончательно утвержден «в центре» и просуществовал до 1937 года, а «Пролетарии всех стран…» на ленточках герба обвивали колосья ржи и дубовые листья на четырех официальных языках республики: беларуском, русском, польском и идишь.
Герб Республики Беларусь 1922 года
Однако у новых, советских руководителей были свои специалисты – создатели и руководители «Института красной профессуры», где трёхлетнее обучение всем наукам, считалось достаточным для «советского профессора».
Первый руководитель новой республики, председатель ЦИК, Мясникьян (Мясников), расчистил пути для московской партократии, и «доказал», что «белорусы не являются самостоятельной нацией, поэтому принцип самоопределения им не подходит».
А позже «красные специалисты» по истории и лингвистике, успешно продолжили, дополнили и претворили в жизнь эту партийную установку, спущенную сверху.
Письмо – донос в ЦК ВКП (б) Сталину «О белорусском языке, литературе и писателях» закрыл «в центре» сразу все вопросы о Беларуси и подготовил почву для нового этапа истребления интеллигенции республики. Приведу лишь несколько строк из этого малограмотного, но подправленного «красными профессорами», документа за подписью Секретаря ЦК КП (б) Белоруссии – Пономаренко, от 21.XI.38:
– «Враги народа, пробравшиеся в свое время к партийному и советскому руководству Белоруссии… … Союз „советских“ писателей Белоруссии, идейно возглавляемый десятком профашистских писателей (в том числе известные Янка Купала и Якуб Колас)…» и т. д.
После чтения этой омерзительной кляузы мне уже не надо было искать другие документы, подтверждающие рассказы моей мамы. Отец был дружен с Янкой Купала, лечил его, когда он находился под домашним арестом, ездил с ним когда-то на охоту, и знал многое… О других национальностях (евреях, татарах) уже и не было речи, продержалась в прореженном виде до начала новой войны лишь «польская автономия имени Дзержинского», где проживала основная часть нашего рода, наши бабушки и дедушки со стороны мамы – Довнары, Валахановичи и Павловичи. Что с ними стало в «самой свободной в мире стране», желающие могут узнать из очерка «Охота на Донаров», размещенного в «Самиздате» [Прокопчук Артур, Самиздат].
Очень скоро, на практике, населению края пришлось столкнуться с адептами русской, советской, партийной точки зрения на беларусов, и не прошло нескольких лет со дня «добровольного вхождения» в СССР, как вся советская власть в республике оказалась в руках «выдвиженцев» из Москвы. «Дело Мясникянца» продолжили «товарищи из центра», «проявившие» себя в других регионах Советской страны, как например, Гамарник, из Дальневосточного крайкома партии или Гикало, понаторевший в партийных чистках в Узбекистане и Азербайджане. Как они ни старались услужить Москве, «сталинскому ЦК», все они не пережили 38-ой год, когда для «укрепления национальных кадров» Лаврентий Берия направил в БССР своего ближайшего друга, тёзку и собутыльника, Лаврентия Цанава, подкрепив это назначение новым секретарём ЦК Беларуси – Пономаренко.
Берия – этот мрачный демон НКВД-НКГБ-МГБ, практически завершил «советизацию» и «русификацию» Беларуси, закрыл, так называемый, «кадровый вопрос», по крайней мере, в правительстве БССР и других ведомствах республики.
Ленин, как в воду глядел, что национальные меньшинства не защитит даже конституционная формула «выхода из союза (СССР) и самоопределение, вплоть до отделения», что он сформулировал в качестве установки по национальной политике для большевистских советских практиков национального вопроса, вроде Сталина. Но каких масштабов достигнет «борьба за чистоту рядов партии», даже он не мог себе вообразить, какие «насильники» оседлают в конце концов правительство молодой республики.
Ленин писал: «При таких условиях очень естественно, что „свобода выхода из союза“, которой мы оправдываем себя, окажется пустой бумажкой, неспособной защитить российских инородцев от нашествия того истинно русского человека, великоросса-шовиниста, в сущности, подлеца и насильника, каким является типичный русский бюрократ» (В. И. Ленин К вопросу о национальностях или об «автономизации» 30—31 декабря 1922 г. http://library.maoism.ru/Lenin/Lenin-autonomisation.htm).
Наша семья, хотя состояла в то время целиком из беларусов, как уже упоминалось, жила в районе «Ляховка». Не берусь утверждать, какие там тогда жили «ляхи», что и до сих пор у нас означает «поляки», но уж «Кальвария» или «Татарские огороды» дожили до советского времени, до дней моего детства. В 40-е годы через них мы ходили купаться на городское озеро, и всегда, почему-то с опаской, пробегали мимо разрушенной мечети. Мама часто навещала тётю Риту (Матусевич) на Сторожёвке и на перекопанном трактором кладбище, примкнувшем к «Кальварии», как-то споткнулась на вывороченную могильную плиту с надписью «Валаханович Севастьян» – это было местом упокоения моего прадеда.
Соседняя с нашей улицей, «Нямига» с синагогой, была местом плотного проживания минской еврейской диаспоры, с которой мы соседствовали и всегда тесно общались. А до революции дед туда приезжал купить «колониальный товар», например, ананас. Поляков или католиков-беларусов было прежде, до войны, очень много, но тут постаралась советская власть, а точнее её органы НКВД. Минских же евреев почти поголовно уничтожили во время войны 41—45 года немецкие оккупанты.
Необходимо привести несколько справок, чтобы стало понятно, как решался новой советской властью «национальный вопрос», например, связанный с поляками, веками проживавшими на этих землях.
В июне 1937 года, Политбюро ЦК ВКП (б) утвердило документ, который, как «Приказ», подписал нарком внутренних дел Н. И. Ежов. Приказ N00485 имел, казалось бы, узкую нацеленность – «О полной ликвидации… личного состава польской агентурной разведки, действующей в СССР». Но, как у нас принято, приказ «на местах» был прочитан по-своему и привел к массовому уничтожению поляков, в основном крестьян и беженцев-коммунистов из Польши. Согласно донесению НКВД от 10 июля 1938 года, число лиц польской национальности, арестованных на основании этого приказа, составило 134 519 человек. Из них 71,3 тысячи человек были давние жители УССР и БССР. От 40% до 50% арестованных людей большевики казнили (т.е. от 50 до 67 тысяч человек), остальных отправили в концлагеря или выслали в Казахстан [22].
«Польскую автономию имени Дзержинского», которая ещё какое-то время держалась в республике, уже можно было и не расформировывать, так как к 1940-ому году почти все поляки и беларусы-католики или разбежались или были репрессированы. После войны, в 50-е годы, остаткам уцелевших поляков и некоторым беларусам-католикам «разрешили» выехать в Польшу.
Город Гродно окончательно «советизировался», что означало практически его полное опустение, город превратился в памятник исторического прошлого. Исчезла целая ветвь беларуской католической конфессии, неотъемлемая часть общей беларуской культуры.
Чтобы не мозолить глаза новой власти со старыми сослуживцами, быстро перекрасившимися под алые цвета советских стягов, мой дед, Александр Павлович, ушел с железной дороги, сменил профессию, закончил, как тогда было модно, какие-то ускоренные курсы, и стал городским санитарным врачом. Маму, как «социально чуждую», в институт не приняли, пришлось ей отработать в «Минском статуправлении» техником-статистиком, чтобы получить какой-то, необходимый тогда, стаж для демонстрации лояльного отношения к новой власти. Одновременно мама немного поучилась в музыкальном техникуме, у неё были разные наклонности и способности.
Бабушка Саша с утра до вечера сидела за швейной машиной «Зингер», «обшивала» семью, а зимой с санками выходила к железнодорожным путям товарной станции, где можно было найти дровишек для домашней «кафельной» печки. Эшелоны шли мимо дома на восток и на запад. Семья лишь только приспособились к новой власти и её экономическим реформам, как наступила очередная разруха – голод 29—30 года.
За несколько лет до этого Павловичи выдали замуж свою старшую дочь Анну, мою любимую тётю Нюру, за Георгия Яротто, эстонца, работающего, как почти все наши родственники-мужчины, на Варшавской или Либава-Роменской, точно не знаю, железной дороге. Жорж успешно делал «советскую» карьеру и его направили учиться в Москву, но в Минск он долго не возвращался, несмотря на то, что появилась на свет его дочь Майя. А тут наступил год «великого перелома» (1929), а за ним и «великий голод» – результат этой переломной «коллективизации».
Эти годы хорошо известны по многочисленным публикациям, воспоминаниям, свидетельствам очевидцев. Скажу только, что «дом на Дзержинской» стоял вблизи вокзала в Минске, а еще одна моя родственница, по другой линии, в то время жила у киевского вокзала в Москве, так что насмотрелись они такого, что потом уже не вздрагивали при показе советской кинохроникии о немецких лагерях смерти.
Не буду вдаваться в подробности семейного жизнеописания, только вспомню один эпизод, непосредственно связанный с хроникой нашей семьи. А заодно станут более ясными образы беларуских женщин, женщин нашей фамилии, облик моей светлой и сердобольной бабушки, которая никогда не могла пройти мимо чужого несчастья и горя.
Бабушка Саша не только «обшивала» семью, кормила и обстирывала детей и уже появившихся внуков (точнее, первую внучку, мою двоюродную сестру Майю). Она еще и «хранила очаг», в прямом смысле слова, то есть «добывала» дрова и топила в зимнее время изразцовую печь, которая оказалось довольно прожорливой. Дрова в те зимы были большим дефицитом в Минске, может не таким, как в Москве (помните у Маяковского – «больше всех дорогих даров я помню морковь драгоценную эту и пол-полена березовых дров»). Эти «драгоценные» поленья, зимой, на санках, бабушка привозила с железнодорожной станции, где знакомые по району соседи-кочегары иногда сбрасывали ей несколько чурочек с паровозов. Там же, в очередной свой поход за дровами, с санками, бабушка наткнулась на сброшенного, как поленья, с поезда, в беспамятстве (наверное, думали – тиф), лежащего на снегу человека. Рядом, со смерзшимися от соплей носами, скулили двое мальчишек. Бабушка с их помощью взвалила уже закоченевшего человека на санки и привезла его домой. Дома он «оттаял» и оказался немцем, Пецольдом Георгием Эмилиевичем, преподавателем немецкого языка из Республики Немцев Поволжья, из той республики, которой мы до сих пор обязаны «сарептской» горчицей. Там от голода уже умирали тысячи жителей, скончалась и его супруга, и Георгий Эмилиевич собрал своих мальчиков, получил какое-то разрешение и двинулся на историческую родину, в Дрезден, откуда были родом все Пецольды. В дороге он заболел, потерял на пути к Минску сознание и опомнился уже в жарко натопленной (дрова-то все-таки достали) комнате, где его натерли, разогрели, влили что-то живительное в рот и уложили в чистую постель. Дети Пецольда «старого», как его будут в дальнейшем называть в нашем доме, в отличие от Пецольдов «малых», Макса и Эмиля, так и остались под покровительством бабушки.
Позже Георгий Эмилиевич Пецольд стал преподавателем немецкого языка, профессором Института беларуской культуры (Инбелкульт), преобразованного в Беларускую Академию Наук. Даже получил квартиру в первом, выстроенном для профессуры, доме объединения «Камунар-Асветнiк». Георгий Яротто так из Москвы и не вернулся и через некоторое время тетя Нюра (Анна Нестеровна) вышла замуж за Макса Георгиевича Пецольда, так у нас появилась и немецкая фамилия, принесшая потом много горя всей семье.
Поляки и немцы особенно раздражали советскую власть. Почти все Пецольды были подвергнуты репрессиям уже в 30-е годы, Георгий Пецольд («старый») после трёхлетнего тюремного заключения был расстрелян в 1941 году в Пятигорске вместе со второй женой, Александрой Августовной, которая тоже была преподавателем немецкого языка. Их имена занесены в «Книгу памяти жертв коммунистического террора» по Ставропольскому краю, они пополнили списки миллионов репрессированных по всей стране.
Макса Георгиевича Пецольда «забрали» в 1941 году из Орши, где он работал главным хирургом городской больницы, но расстрелять из-за быстрого наступления немцев не успели, их вывезли в Саратов. Так ему удалось выжить и позже, после этапирования в Карлаг (Джезказган), прожить 16 лет в лагерях и еще один год на свободе после массового, «Хрущевского» освобождения из лагерей в 1956 году. Но меня занесло уже к началу другой войны, а надо вернуться немного назад…
С вынужденным опозданием в три года, мама все-таки в 1931 году поступила в Медицинский институт и на втором курсе вышла замуж за моего отца, Прокопчука Андрея Яковлевича. Институт мама заканчивала уже в новой квартире, в «Доме специалистов» на углу Советской и Долгобродской улиц, куда они все перебрались в 1934 году.
В 1936 году во время сдачи последней сессии мама родила меня и смогла получить «Диплом с отличием», по специальности «врач-рентгенолог». Здесь же, на «Золотой горке», мы услышали о начале одной войны, финской, потом другой, и отсюда удирали из-под бомбёжки, жарким вечером, 25 июня 1941 года, взяв с собой, что было полегче, в руки, «на восток» по Московскому шоссе. Мне дали нести пустой чайник.
Мои родные женщины, – бабушки, мама и тетка, – горожанки, не соприкоснулись в 30-е с «раскулачиванием», и борьба большевиков с «нацдемовщиной» в БССР не затронула их, как мне ранее казалось, по причине их «другой специализации», медицинской. Советские блюстители порядка расправлялись в конце 20-х, начале 30-х, в основном, с носителями чуждой им культуры, любой религии, отличной от православия, литературы и поэзии на другом, не русском языке. Для этого была еще «подработана» для внешнего мира формула «об единстве русских, малороссов и беларусов», что закончилось к концу тридцатых годов практически поголовным истреблением беларуской культурной элиты и постепенным вытеснением беларуского языка из всех сфер общественной жизни. Для усиления «роли русского языка» были проведены три реформы беларуского правописания (первая в 1925—1926 г.г., неоконченная – 1930 года и реформа 1933—1934 года). Причем новые нормативные правила (их было 86) настолько исказили язык, что его уже трудно было отличить от русского. А за это время советские власти, в силу «революционной необходимости», под предлогом борьбы с «нацдемовщиной», истребили почти всех научных работников в области образования и специалистов-языковедов. При этом были изъяты и уничтожены большинство картотек беларуского языка, собранных специалистами, а к оставшимся архивам был запрещен доступ, что продолжается и в наши дни.
«В один из периодов 1931 года в Институте языкознания работало 6 сотрудников, причём знающих языковедов практически не осталось. Современные беларуские филологи подчеркивают тот факт, что более 20 новых правил, введенных реформой 1933 года, искажали установившиеся нормы беларуского литературного языка путём искусственного, неестественного и принудительного наложения на них правил русского языка» (Википедия).
Я пишу об этих далеких днях, но в моей памяти они все ближе и ближе, приближаются запомнившимися рассказами моей бабушки, моего деда, обрастают подробностями в обрывочных воспоминаниях тетки и мамы. История становится зримой, это уже не силуэты черно-белых фотографий тех лет, а окрашенные в цвета времени факты, образы, сжимающие сердце звуки войны, запахи прошлого, оставшиеся в старых сохранившихся вещах и слова, слова, давно ушедших из моей жизни родных и близких… Это уже не история из книжек, а жизнь моей семьи, ее многих поколений…