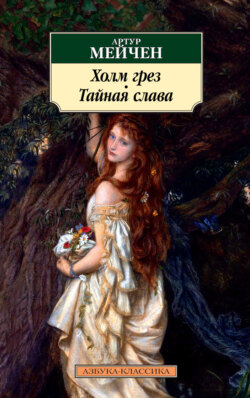Читать книгу Холм грез. Тайная слава - Артур Мейчен - Страница 4
Холм грез
Глава 2
ОглавлениеЛуциан все больше волновался за судьбу своей рукописи. К двадцати трем годам он накопил достаточно опыта в этой области и понимал, что издатели торопиться не будут, но, с другой стороны, его книга лежала у мистера Бейта уже три месяца. Первые шесть недель Луциан и не ждал ответа, но день шел за днем, и постепенно жизнь превращалась в кошмар. Каждое утро несчастный писатель хватал почту и, задыхаясь, искал в ней свой приговор. Остаток дня он проводил, разрываясь между надеждой и страхом. Порою Луциан уверял себя, что успех ему обеспечен, мысленно перебирал страницы, написанные с радостной легкостью или с мучительным трудом, вспоминал удавшиеся, замечательные главы – а потом спохватывался и начинал сокрушаться, что у него не было никакого опыта и он, несомненно, написал незрелую, нелепую и совершенно непригодную для издания книгу. Луциан пытался сравнить те места, которые казались ему наиболее удачными, с произведениями, снискавшими признание литературных критиков, и ему казалось, что и в его книге есть кое-что хорошее. Особенно ему нравилась первая глава. Наверное, уже завтра он получит ответ. Так проходили дни, и мимолетные вспышки надежды делали эту пытку еще мучительней. Его растянули на дыбе – порою боль отпускала, и палачи бормотали ему слова утешения, но затем боль неизменно возвращалась. Наконец Луциан не выдержал и написал Бейту, униженно прося сообщить, поступила ли его рукопись в издательство. Он получил чрезвычайно вежливый ответ. Редакция извинялась за такую задержку, вызванную болезнью ответственного за чтение рукописей человека, но в течение недели отзыв непременно будет готов. Письмо завершалось еще одной порцией извинений. «Окончательный ответ» пришел, разумеется, не в течение недели, а почти через месяц – издатели благодарили автора за любезность, с которой тот предоставил им свою рукопись, однако, к великому сожалению, в данный момент не могли взять на себя публикацию этой книги. Луциан испытал неимоверное облегчение – самое неприятное было уже позади, исчез и тошнотворный страх, с которым он каждое утро вскрывал свою корреспонденцию. Он вышел в сад и устроился в старом деревянном кресле в своем любимом закутке, всегда залитом солнцем и надежно защищенном стеной от злого мартовского ветра. Вместе с рецензией издательство прислало ему изящную брошюрку, на обложке которой стояло: «Бейт и К°. Новые издания».
Луциан устроился поудобнее, раскурил трубку и начал просматривать каталог. Одним из первых значился «Крепкий орешек», новый трехтомный роман из жизни спортсменов, пера достопочтенной миссис Скюдамор Раннимед, автора книг «Вперед!», «Команда Мадшира», «Жокеи» и др. Роман, разосланный во все библиотеки, был объявлен «Пресс» «блестящим образцом беллетристики». Обозреватели сходились во мнении, что в книге миссис Раннимед фантазии и тонкого юмора присутствовало больше, чем в дюжине других спортивных романов. «Ревью» обнаружило в этой книге «живость, блеск и редкое в наши времена изящество», а некая непонятная Миранда, критик из «Изящного общества», прямо-таки захлебывалась от эмоций. «Прости меня, Аминта, – обращалось это юное воплощение изящества к своей, по-видимому столь же утонченной, подруге, – я обещала послать тебе новые выкройки мадам Лулу и совсем забыла о них. Я должна немедленно рассказать тебе замечательную новость! Вчера вечером ко мне зашел Том. Он был просто в восторге, прочитав новую книгу миссис Скюдамор Раннимед „Крепкий орешек“. Он сказал, что все „Изящное общество“ только об этой книге и говорит и что толпа, сбежавшаяся к книжному магазину, целый день мешала движению транспорта. Как ты знаешь, я читаю все, что выходит из-под пера миссис Раннимед, а потому немедленно позвала мою Миггс и строго-настрого приказала ей купить, выпросить или украсть где-нибудь эту книгу. Должна признаться, я „жгла свечу“ всю ночь – просто не могла оторваться! Так вот, тебе тоже надо непременно прочесть ее – эта книга великолепна!» Почти все авторы в списке издательства Бейта были женщинами – вернее, дамами, – все они писали романы в трех томах, всех их восхваляли «Пресс», «Ревью» и Миранда из «Изящного общества». А одно из упомянутых в каталоге творений, озаглавленное «Замужество Миллисент» и принадлежавшее перу выдающейся Сары Поклингтон Сэндерс, было, по словам критика, достойно и школьного класса, и книжного шкафа в гостиной, и избранной библиотечки наших изысканно воспитанных дочерей. «И это, – продолжал критик, – есть высшая похвала мисс Сэндерс. Ее роман тем более актуален, что в последнее время мы подвергаемся все большему натиску самоуверенных и громкоголосых „стилистов“. Мы хотели бы напомнить молодым людям, которые упиваются своей начитанностью, изысканностью стиля, сложными периодами и ритмической прозой, что английский читатель ждет совсем других книг. Вечернее чтение, неторопливое описание тихого семейного круга, достоверная повесть о наших мужественных и честных сельских эсквайрах, превыше всего дорожащих своей славой охотников, или же повесть о жизни невинной, здоровой духом английской девушки, о какой, кстати, с таким блеском поведала нам мисс Сэндерс, – вот темы, которые интересуют английского читателя. Эти книги будут радушно приняты в каждом английском доме, куда не пробиться изуверу изысканности с его отвратительными „откровениями“».
Дочитав брошюрку, Луциан почувствовал облегчение: он нашел в ней искреннюю готовность биться за правду и добро. За энергичными цитатами, которые так щедро рассыпала по страницам своего буклета фирма «Бейт и К°», Луциан разглядел сияющее, увенчанное очками и бакенбардами лицо критика и нежное сердце, слегка придавленное тесноватым уже для него жилетом. Даже завершающий пассаж был прекрасен – вот вам и изящный стиль, раз вы в нем так нуждаетесь. Рыцарь нежного румянца и ясных глаз доказал, что способен драться оружием соперника, – было бы только желание унижаться до подобных мелочей. Луциан откинулся в кресле и громко захохотал – так громко, что полосатый кот, забыв про всех своих кошек, испуганно выглянул из кустов, явив на свет физиономию, напоминавшую вышеупомянутого критика, – круглую, невинную, обрамленную бакенбардами. Наконец Луциан извлек из конверта несколько страниц своей рукописи и в веселом расположении духа принялся их просматривать. «По крайней мере теперь ясно, – думал он, – что моя жалкая книжонка не соответствует ни одному, даже самому низкому, стандарту мистера Бейта». Луциан писал свою книгу полтора года, пытаясь передать прозой тайное очарование куполообразных холмов, волшебство потаенных долин, грохот замутненного, вспененного ручья, проносящегося осенью по темному и голому лесу. Все дневные видения и ночные труды Луциана были воплощены в этих вдохновенных страницах. Он работал честно, без халтуры, по многу раз переписывая страницы, пытаясь поймать ритм, не жалея времени и сил – лишь бы вышло хорошо, достаточно хорошо, чтобы книгу опубликовали и ее захотел купить самый разборчивый читатель. Луциан просмотрел свою рукопись и с удивлением обнаружил, что на его вкус это была отличная работа. За четыре месяца он кое-что подзабыл, и теперь его собственная проза казалась ему необычной и свежей, словно ее написал другой человек. Он то и дело натыкался на замечательные страницы, на чувства, которые можно было назвать банальными, лишь покривив душой. Другое дело, что все это проигрывало в сравнении с его непосредственными впечатлениями: он видел охваченный пламенем очарованный город, величественный и страшный, и пытался воплотить этот образ в той жалкой глине слов, которая имелась в его распоряжении. И все же, несмотря на разрыв между замыслом и воплощением, книгу нельзя было назвать неудачной. Луциан аккуратно сложил свою рукопись и напоследок еще раз проглядел каталог издательства Бейт. Оказалось, что «Крепкий орешек» выходит не только в трех томах, но и в третий раз. Что ж, неплохо – теперь, по крайней мере, ясно, что следует писать ради успеха. Если очень постараться, то в один прекрасный день можно добиться похвалы даже от самой Миранды. Быть может, сия достойная девица отвлечется от своих, разумеется, совершенно бескорыстных рекламных трудов, от всех этих советов милым друзьям «зайти к Джамперам и попросить самого мистера Джампера показать вам чудные синие обои с желтыми цветочками стоимостью всего в десять шиллингов» – и воздаст хвалу его книге. Луциан отложил рукопись и вновь захохотал. Он смеялся над писателями, книгами, критиками – смеялся до тех пор, пока не понял, что вот-вот расплачется. Он знал теперь, что такое английская проза и английская критика, но это знание оборачивалось для него пошлой трагедией.
Луциан спрятал отвергнутую рукопись в нижний ящик стола. Отец утешил его цитатой из Горация: «Всякая книга должна девять лет таиться во тьме». Жаловаться было не на что, хотя Луциан и предпочел бы, чтобы рецензирование рукописей занимало не так много времени. Но убиваться по этому поводу он не собирался. Ему не хотелось походить на мелкого коммивояжера, для которого скорая прибыль является естественным делом, а не подарком судьбы. Луциан предпочел забыть свою первую книгу и сел писать новую, в надежде, что она получится лучше. Он выбрал свой путь и не собирался терять мужество после первой же неудачи. Теперь оставалось только найти тему для новой книги. Ему показалось было, что он напал на подходящий сюжет, – Луциан заготовил материал, расписал главы для одной пришедшей на ум занятной истории, заранее рассчитал все эффекты и сам же первый с нетерпением ждал, когда они сработают. Но энтузиазма хватило ненадолго – вскоре почва начала уходить из-под ног, и он отбрасывал одну страницу за другой. Стройные периоды не ложились на бумагу, персонажи застыли и одеревенели – они так и не ожили. Луциана охватило уже знакомое отчаяние, отчаяние художника, который впустую бьется над мертворожденным замыслом. То, что вначале казалось живым огнем, под его пером превратилось в бездушную глыбу льда. Луциан бросил работу, не переставая удивляться, как он вообще вообразил, что может писать. И вновь напомнила о себе уже приходившая в голову мысль: из него что-то получится лишь в том случае, если он убежит из родных мест, вырвется из-под сени этих гор и вольется в мрачную, рокочущую лондонскую толпу. Но бежать Луциан не мог. Его дальний родственник, прежде обещавший помочь, в ответ на новые просьбы лишь выразил сожаление по поводу того, что юный Тейлор превратился в бездельника и тратит свое время на пустое бумагомарательство – нет чтобы попытаться заработать себе на жизнь! Луциана это письмо задело, но отец по своему обыкновению лишь мрачно ухмыльнулся. Мистер Тейлор вспомнил, как в дни своего благополучия одолжил немалые деньги этому самому родственнику, попавшему тогда в весьма нелегкое положение, и вновь подумал о человеческой неблагодарности.
Луциан почти забыл об отвергнутой рукописи, как вдруг совершенно неожиданное обстоятельство напомнило ему о ней. Месяца через три после того, как он получил отказ, ему довелось просматривать «Ридер». В одной из рецензий он вдруг наткнулся на весьма пространную цитату. И смысл ее, и стиль были ему хорошо знакомы – да и немудрено, ведь каждую свою фразу он продумывал долго и с любовью. Луциан вернулся к началу рецензии. Она была исполнена хвалебных слов и изо всех сил превозносила новую книгу мистера Ритсона, называя ее несомненным шагом вперед по сравнению с его предыдущей (тоже, конечно, замечательной) книгой. «Автор открыл залежи чистого золота, – так завершалась статья, – и мы с уверенностью предсказываем ему большое будущее». Луциан еще не достиг тех высот духа, что были свойственны его отцу, – он не сумел ухмыльнуться так, как ухмылялся пастор, который, как говорили, компрометировал свое звание. Цитата, сопровождавшаяся столь неумеренной хвалой, слово в слово совпадала с текстом рукописи Луциана, спрятанной в ящике стола, из книги, отвергнутой разборчивым издательством мистера Бейта, которое, кстати, и выпустило в свет превозносимую «Ридером» работу мистера Ритсона. У Луциана нашлось несколько шиллингов, и он немедленно отправил лондонскому книготорговцу заказ на «Зеленый хор» – почему-то именно так неизвестный плагиатор решил назвать «свой» роман. Это было 21 июня, и Луциан с полным правом рассчитывал получить книгу 24-го, но верный своим привычкам почтальон ее не доставил, и после обеда Луциан решил пройтись пешком до Каэрмаена, в надежде, что книгу принесли с вечерней почтой или что почтальон просто-напросто забыл прихватить ее. Местный почтальон нередко забывал на почте тяжелые посылки, тем более в жаркие дни. А 24 июня было не только жарко, но и душно. Серые клубы облаков заполонили небо, влажный туман тяжело навис над полями и дымился в долинах. К пяти часам дня – Луциан как раз вышел из дому – туман отчасти рассеялся, и сквозь влажный, дрожащий воздух золотыми ручьями заструились солнечные лучи, создававшие воздушные дорожки и сверкающие островки в гуще облаков. Вечер выдался тихим и светлым. Избегая встречи с «варварами» (так Луциан именовал про себя достопочтенных обитателей города), задними улочками он вышел к почте, в помещении которой также располагался главный магазин города.
– Да, мистер Тейлор, – сказал Луциану клерк, протягивая сверток, – для вас есть посылка. Уильям забыл ее утром.
Луциан зажал книгу под мышкой и неторопливо зашагал по продуваемым ветром переулкам, пока не вышел за пределы города. Едва выйдя на большую дорогу, он отыскал укромное место возле какой-то изгороди, разорвал веревку и развернул бандероль. Рецензент не соврал: «Зеленый хор» был издан «со вкусом». Обложка цвета старой бронзы, ровный золотой обрез, широкие поля, черный «старинный» шрифт – каждая мелочь свидетельствовала об изысканном вкусе фирмы «Бейт и К°». Луциан торопливо разрезал страницы и начал читать. Оказалось, что он был несправедлив к Ритсону: сей признанный мастер пера не просто переписал его книгу. В изящном маленьком томике было двести страниц. Из них примерно девяносто принадлежали Луциану, но мистер Ритсон вполне искусно и умело вплел их в новый сюжет. Сама по себе работа была неплоха, мешало только пристрастие автора к систематизации – книга походила на перечень примет открытой Луцианом страны. Но именно этот «каталог» и принес новому произведению такой успех, о каком Луциан даже и не мечтал. Порой Ритсон слегка изменял стиль заимствованных им страниц, и, за исключением двух-трех случаев, Луциан вынужден был согласиться, что эти изменения улучшали текст. Луциан раскурил трубку, прислонился к изгороди и попытался хладнокровно во всем разобраться, взвесить свое знание человеческой натуры, свои отношения с местным «обществом», разобраться в своих впечатлениях от «Зеленого хора» и понять незначительный эпизод, что привлек его внимание этим вечером в Каэрмаене. Скучая в очереди на почте, Луциан случайно услышал разговор двух старух, остановившихся под окном. Насколько он понял, обеих постигло одно и то же несчастье: они обратились за вспомоществованием к викарию (обе, видимо, были ленивыми старыми грешницами, всю жизнь попивавшими за ужином эль и в результате не сумевшими собрать себе сокровищ на земле). Одна из старух была убежденной и упорствующей в своей ереси католичкой. Ей посоветовали просить милостыню у своих священников, «которые вечно толкутся поблизости и высматривают, чего бы стащить». Вторая принадлежала к нонконформистам, и ей было сказано, что «у мистера Диксона хватает забот и с добрыми христианами». Миссис Диксон с дочерью Генриеттой собирали пожертвования и отвечали за раздачу пособий. Как миссис Диксон не раз говорила миссис Колли, дело кончится тем, что им придется содержать всех нищих в округе, а они, право же, не могут себе этого позволить. Большая семья тоже требует немалых расходов, и давно уже пора купить новые платья девочкам. «Мистер Диксон все время напоминает нам, что бездушная благотворительность может оказать самое дурное влияние на нравы простых людей». Луциану тоже доводилось слышать эти мудрые наставления, и он живо вспомнил о них, прислушиваясь к хриплым жалобам опустившихся, голодных старух. На самой границе города, в одном глухом переулке, он встретил типичного «здорового английского мальчика», пинавшего больную кошку, – у бедняжки едва хватило сил заползти под дверной порог, где, скорее всего, ей и предстояло умереть. Луциан знал, что, поколотив мальчишку, он ничего не добьется, и все же с удовольствием поколотил его. А на углу, где стоял щит, отмечавший выезд из города, Луциан наткнулся на объявление: в городской школе намечается собрание, посвященное сбору средств в пользу португальской миссии. Заголовок гласил, что сие богоугодное дело свершится «с благословения лорда епископа» под председательством достопочтенного Меривейла Диксона, викария Каэрмаена, и при участии местного эсквайра и мирового судьи Стенли Джервейза, а также других представителей духовенства и дворянства. Сеньор Диабу, «бывший католический священник, а ныне евангелический просветитель Лисабона», выступит перед собравшимися с докладом, после чего устроители ожидают «добровольных пожертвований, необходимых для продолжения этой боговдохновенной работы». Развалившись в тени возле изгороди, Луциан принялся обдумывать план статьи в защиту йеху. Каждый может сказать, что они примитивны и нецивилизованны, но не следует забывать, что их многочисленные недостатки вызваны униженным положением, а те немногие достоинства, что имеются у несчастных персонажей Свифта, следует всецело приписать самим йеху. К тому же эти персонажи сильно выигрывают в сравнении с представителями современной человеческой расы. Йеху незнакомы с бейтовской системой книгоиздания, они никогда не приютили бы и тем более не стали бы превозносить паршивого гуигнгнма, предавшего свою лошадиную расу, и, уж конечно же, Свифт, при всем его пристрастии к мельчайшим подробностям, не догадался бы выделить среди йеху «достойных» и «достопочтенных». Поразмыслив, Луциан решил, что не совсем уверен в последней части своей апологии, – лошади, правившие миром Свифта, выделяли среди йеху отдельных приближенных, которым поручалась более легкая домашняя работа, так что этот пункт защиты, пожалуй, был ненадежен. Выстраивая параллели, Луциан хмуро улыбался, но сердце его по-прежнему сжигала злоба. Он перебирал все печальные воспоминания, все пережитые им унижения. В школе учителя презирали и высмеивали его – мальчишке, видите ли, хотелось знать что-то еще, кроме обычного домашнего задания! Юношей ему приходилось терпеть наглость всех этих жалких людишек, живших рядом с ним. Уши Луциана до сих пор горели от насмешек над его бедностью, а перед глазами вставала ехидная гримаса какой-то ничтожной тупоумной женщины с манерами и интеллектом свиньи, когда он прошел мимо нее в своих лохмотьях, смиренно опустив глаза долу! Всю жизнь его, как и отца, преследуют насмешки и презрение – презрение этих животных! Эта мразь, принявшая человеческий облик, созданная только для того, чтобы пастись возле богатых, раболепствовать перед ними, не гнушаться никакой подлостью, если только она выгодна тем, кому принадлежит власть, не пренебрегать никакой, самой малой, самой гнусной жестокостью, если эта жестокость направлена против бедных, зависимых и униженных, – вся эта омерзительная, непристойная толпа хихикала и указывала на Луциана пальцем. Эти мужчины и женщины толковали о святынях и падали на колени перед грозным алтарем Господа, перед пламенным алтарем, где, как сами они утверждали, им являлись ангелы и архангелы и все силы Небес, – однако в своей церкви они отвели один придел богатым, а другой – беднякам. А ведь это была отнюдь не какая-то особая местная порода. Преуспевающие лондонские предприниматели и удачливые писатели тешились страданиями несчастного, которого они ограбили и унизили, в той же мере, в какой «здоровый английский мальчик» с хохотом наслаждался жалобными воплями больной кошки, жаждавшей хотя бы умереть в покое. Перебирая всю свою жизнь, Луциан видел, что, несмотря на все причуды и неудачи, он никому не причинял сознательного зла, никогда не помогал преследовать несчастных и не одобрял, когда на его глазах это делали другие. Луциан подумал, что, когда он умрет и черви будут глодать в могиле его тело, даже эти мерзкие беспозвоночные покажутся ему более приятной компанией, чем люди, среди которых он жил и которых он должен звать братьями! Вонючие твари! «Да я скорее дьявола назову братом! – поклялся он себе. – Я лучше в аду буду искать себе друзей». Глаза его налились кровью; и когда он взглянул вокруг, небо показалось ему багряным, а земля приобрела цвет огня.
Солнце уже садилось за горой, когда Луциан отправился в обратный путь. Доктор Барроу, проезжая мимо в своей коляске, весело поздоровался с ним.
– Довольно длинный путь, если идти пешком по дороге, – заметил он. – Раз уж вы забрались так далеко, то почему бы вам не пойти напрямик через поле? Это проще простого: сверните после второго столба налево, а дальше все время прямо.
Луциан поблагодарил доктора Барроу и сказал, что попробует срезать угол, как тот советует. Доктор весело покатил домой. Барроу был добрым старым холостяком – подчас он по-настоящему жалел бедного мальчика и задумывался над тем, как ему помочь. Вот и сейчас он спохватился, припомнив, как странно выглядел Луциан, и пожалел, что не предложил ему сесть в коляску и не позвал к себе на ужин. Хороший кусок баранины, добрая кружка эля, виски с содовой, трубка отменного табака, парочка раблезианских анекдотов из накопленной за долгую жизнь сокровищницы – и бедный малый сразу почувствовал бы себя лучше. Барроу полуобернулся на сиденье, высматривая Луциана, но тот уже скрылся за поворотом. Чуть поразмыслив, доктор поехал дальше – влажные испарения, поднимавшиеся от реки, заставляли его поеживаться от холода.
Луциан медленно шел по дороге, отыскивая столб, о котором говорил доктор. Хоть какое-то приключение, думал он, – добраться домой по незнакомой дороге. Он знал, в каком направлении нужно идти, и считал, что не может сбиться с пути. Луциан прошел через опустевшее поле, затем тропинка взяла круто вверх, и вскоре он увидел с вершины холма и город, и простиравшуюся за ним долину. Река была едва различима внизу – закат превратил желтую, застоявшуюся воду в темную медь. Огненные озера, шаткий тростник на кромке луга, черная полоса леса на ближней горе – все это было видно отчетливо и ясно, но слабый свет сумерек придавал знакомой местности таинственность, а потому даже голоса, доносившиеся с улиц Каэрмаена, звучали необычно в вечернем тумане. Внизу виднелись сбившиеся в кучу дома и неровные, покосившиеся крыши обшарпанных, продуваемых всеми ветрами переулков; то одна, то другая островерхая крыша поднималась над соседними. Внизу Луциан различил темные развалины амфитеатра и черную полосу деревьев на фоне белой римской стены, приобретшей под ливнями и зимами восемнадцати столетий оттенок спелого воска. Тонкие, причудливые, неразличимые голоса долетали до вершины холма, – казалось, какой-то пришлый народ заселил давно умерший город и теперь на неизвестном языке рассказывает об ужасных и странных делах. Дрожащее, словно жертвенный огонь, солнце скользнуло вниз по небу, ненадолго зависло над темной громадой холма и внезапно исчезло. В его закатном отсвете тучи съежились и стали багровыми. Извилистая река, причудливо отражавшая перемещение и быструю смену облаков, казалось, ожила – она закипела и набухла, словно наполнилась кровью. Но над городом уже сгущалась тьма – быстрые, проворные тени подкрадывались к нему от леса, и со всех сторон собирались клубы тумана, будто легион призраков выступил в поход против города и поселившейся в нем пришлой расы. Внезапно тишину разорвала пронзительная капризная мелодия – она звала и отзывалась на чей-то зов, она повторялась снова и снова, пока не оборвалась почти истошным воплем, прокатившимся по склону холма. Наверняка какой-нибудь мальчишка из школьного оркестра упражнялся в игре на горне, но Луциану эта музыка показалась сигналом римской трубы, tuba mirum spargens sonum[1], командой, звуки которой разнеслись среди горных расщелин, эхом отдались в темноте дальнего леса и на старом кладбище. Луциан представил себе, как распахиваются глядящие на восток двери гробниц и мертвые легионы поднимаются вслед за своими орлами. Центурия за центурией проходили мимо него, утопленники поднимались со дна реки, из-под земли вставали воины, чье оружие грозно блистало в мирных садах. Выйдя с кладбища, они строились в манипулы и когорты, и с последним звуком трубы старая крепость над городом отпустила своих мертвых. Сотни и тысячи призраков встали под знамена в зыбком тумане, готовые идти туда, на старые стены, которые они сами сложили когда-то давным-давно.
Луциан резко обернулся. Стало совсем темно, и он испугался, что заблудился. Теперь дорожка шла по кромке леса. Деревья шуршали и шелестели, словно держали между собой зловещий совет. Впереди, закрывая черную долину, показалась высокая изгородь, и Луциан бессознательно направился к ней, не слишком обращая внимание на прихотливые изгибы тропинки. Выйдя из лесной тени на открытое место, он несколько минут простоял в полном недоумении. Перед ним лежала незнакомая мрачная местность. Неподалеку Луциан различал расплывчатые, нечеткие очертания деревьев, впереди – зияние оврага, а дальше в тумане маячили смутные абрисы каких-то неведомых холмов и лесов. Воздух теперь казался абсолютно неподвижным. Луциан огляделся, пытаясь заметить хотя бы какой-нибудь знакомый ориентир. Внезапно тьма вспыхнула багровым пламенем – над холмом вновь отворили заслонку печи, и крутой склон обожгло бледным светом. Луциану показалось, что впереди он различает дерн, обозначающий тропу. Огромное пламя померкло, словно впитываясь в золу, но все еще освещало путь по обрывистому склону. Это мало помогало Луциану – он то и дело спотыкался на неровной почве или проваливался в какие-то рытвины. Некоторое время Луциан сражался с ветвями буйно разросшегося кустарника, потом его ноги увязли в булькающей болотистой почве. Он миновал черную, накрытую тенью долину, задрапированную причудливым ковром сумрачных зарослей. В полной тишине раздавались зловещие звуки леса – чуждое, невнятное, неразборчивое бормотание, то грозное, то жалобное. Луциан упорно шел вперед, надеясь, что идет правильно; он поминутно натыкался на какую-нибудь изгородь или калитку, останавливался и всматривался в туманное переплетение теней. И тут еще один звук прорвался сквозь сгустившийся воздух – бормотание воды, лениво перекатывающейся по камням, сонно журчащей среди старых корней умирающих деревьев и где-то вдали вдруг мощно вливающейся в свободное русло. Свежее дыхание ручья уже коснулось Луциана, принеся с собой новые звуки: послышался шепот двух голосов, ведущих между собой бесконечный спор. Ужас охватил Луциана, когда он вслушался в шум воды. Новая безумная фантазия овладела им целиком: он на самом деле слышал два голоса. Какие-то неведомые существа стояли рядом с ним в темноте, обсуждали его жизнь и выносили свой приговор. Сквозь пропасть лет на Луциана обрушилось воспоминание о том, как он заснул в зарослях кустарника и совершил грех против земли, – и вот теперь земля, содрогаясь, требовала отмщения. С минуту Луциан стоял, не дыша и дрожа от страха, а затем слепо зашагал вперед, уже не пытаясь найти тропинку, желая лишь уйти из расставленной ему в этой глухой, бормочущей расщелине ловушки. Он продирался сквозь заросли кустов, царапавших ему лицо и руки. Запутавшись в переплетениях живой изгороди, Луциан упал и, пытаясь высвободиться, жестоко поранился о терновник. Он бросился бежать сломя голову сквозь продуваемый ветром лес, по обнаженной каменистой почве. Он натыкался на заплесневелые стволы и пни, перепрыгивал через обломки деревьев, некогда пораженных молнией и с грохотом упавших на землю много лет назад, и не переставал удивляться призрачному бледному сиянию, похожему на тень света, что под странный аккомпанемент лесного хора испускали эти бренные останки. Луциан даже не представлял себе, куда бежит, – ему казалось, что он мчится уже много часов, то взбираясь наверх, то скатываясь вниз и все же ничуть не продвигаясь вперед. Ему вдруг пришло в голову, что все это время он стоял неподвижно, а тени и причудливые очертания окружавшей его местности проносились мимо него. Наконец перед ним выросла высокая изгородь. Луциан перелез через нее, но тут же поскользнулся и кувырком полетел вниз – с крутого обрыва в долину. Минуту он лежал неподвижно, оглушенный падением, а затем, неуверенно поднявшись на ноги, с отчаянием и недоумением посмотрел в темноту, не решаясь что-либо предпринять. Впереди было темно, словно в глубоком погребе. Луциан обернулся и увидел в стороне какую-то искорку – будто в окне фермы горела свеча. На подгибающихся ногах он поплелся было к свету, как вдруг из темноты выступила белая фигура. Она плавно двигалась, словно плыла к нему по воздуху. Луциан устремился вниз под гору – ему не терпелось выйти на открытое место. Он уже разглядел столб у дороги, а фигура, по-прежнему скользя, приближалась к нему. Дорога спустилась в долину, и Луциан наконец вполне отчетливо различил ориентир, который так долго искал. По правую руку от него вставала из темноты плоская вершина римской крепости. Свет полной луны растекся по заколдованным дубам и зеленоватым ореолом рассеивался над горой. Луциан почти вплотную подошел к двигавшейся впереди белой фигуре и вдруг сообразил, что это была самая обыкновенная земная женщина, а ее движения казались такими призрачно-плавными из-за ночной тьмы и сияния луны. У калитки, где он провел столько часов, глядя в сторону крепости, Луциан догнал женщину и пошел рядом. Конечно же он узнал ее – то была Энни Морган.
– Добрый вечер, мастер Луциан, – сказала Энни. – Как темно сегодня, не правда ли?
– Добрый вечер, Энни, – отозвался Луциан, впервые назвав девушку по имени, отчего она радостно улыбнулась. – Поздновато ты гуляешь.
– Да уж точно, сэр. Я, знаете ли, относила ужин старой миссис Гиббон. Она совсем разболелась в последние дни, а позаботиться о ней некому.
Значит, есть еще на свете люди, которые могут заботиться о других, а доброта и милосердие не превратились в миф, общественную условность вроде некоторых устаревших юридических терминов, не имеющих никакого отношения к реальности. Эта мысль потрясла Луциана, чьи духовные и физические силы были изрядно подорваны безумием нынешнего вечера, затянувшейся прогулкой и усталостью. Такому декаденту и вырожденцу, как он, неизменные невзгоды, доставляющие массу удовольствий «здоровым английским мальчикам», казались Божьей карой и адским пламенем. В конце концов, господа «Бейт и К°» были самыми обыкновенными деловыми людьми, а все эти омерзительные Диксоны, Джервейзы, Колли – столь же обыкновенными узколобыми дворянами и священниками, каких можно встретить почти в каждом тихом провинциальном городке. Любой разумный человек отнесся бы к Диксону как к старому зануде, назвал бы господина Стенли Джервейза, эсквайра и мирового судью, прохвостом, а всех без исключения местных леди – пустыми трещотками. Но Луциан не был разумным человеком, а потому медленно брел, с головой уйдя в невеселые мысли, и то и дело оступался на каменистой дороге. Он почти забыл о девушке, идущей рядом. Некое таинственное чувство росло и набирало силу в его сердце: опять нахлынули все муки юности, все надежды и разочарования. Луциан снова вспомнил о всеобщем презрении, и все та же старая мысль закрутилась у него в голове: «Лучше я демонов назову братьями и поселюсь вместе с ними в аду». Он задыхался, с трудом ловя ртом воздух. Он чувствовал, как непроизвольно подергиваются мышцы его лица, как безумная дрожь сотрясает все его тело. Он воплощал в себе то видение Каэрмаена, что пригрезилось ему час назад: город, заплесневелые стены которого осаждало вставшее из могилы войско. Жизнь, мир, солнечный свет остались позади – Луциан вступил в царство воскресших мертвецов. Кельтские предания обступили его со всех сторон, выйдя из таинственных лесов; Луциан взывал к миру, и древние предки, известные как «малый народец», выползли в ответ из пещер, бормоча свои заклинания. Они собирались вокруг Луциана, шипя по-змеиному, и все те желания, что сотни лет дремали в крови его народа, вдруг вспыхнули в нем.
– Кажется, вы совсем устали, мастер Луциан. Можно я возьму вас за руку? Здесь очень плохая дорога.
Луциан споткнулся о большой камень и едва не упал. Женская рука нащупала в темноте его руку. Он застонал, почувствовав прикосновение теплой и нежной кожи, и судорога сладкой боли пробежала от его руки к сердцу. Луциан поднял глаза и обнаружил, что с тех пор, как Энни впервые заговорила, они прошли всего лишь несколько шагов. Но ему казалось, что они уже много часов идут рядом! Луна только что поднялась над дубами, и над черной горой встало бледное зарево. Луциан остановился и, крепко сжимая руку Энни, заглянул девушке в лицо. Волшебное сияние лунного света коснулось глаз молодых людей и отразилось в их зрачках. В последние годы Луциан почти не изменился внешне – его лицо осталось матовым, чуть смуглым и узким, как вытянутый овал. Следы перенесенных страданий уже проложили морщинки в уголках его глаз, и черные волосы успела отметить седина. Но юношеское восторженное любопытство сохранилось: и то, что Луциан увидел сейчас в глазах девушки, зажгло его взгляд вновь ожившим пламенем. Энни тоже остановилась, не пытаясь отнять руку, и вложила в ответный взгляд все свое сердце. Она была чем-то похожа на Луциана – кожа того же оливкового цвета, но лицо – прекрасное и нежное, как летняя ночь. В ее черных глазах не было печали, а улыбка на алых губах вспыхивала, точно пламя, освещавшее безлюдный и темный лес.
– Как же вы устали, мастер Луциан! Давайте посидим здесь, возле калитки.
– Дорогая моя, дорогая! – только и сумел пробормотать Луциан, когда их губы вновь слились в поцелуе, а руки сомкнулись в крепких объятиях.
Луциан уронил голову на грудь своей возлюбленной и разрыдался. Слезы текли по лицу бедняги, рыдания сотрясали тело в самый счастливый миг его такой несчастливой жизни. Девушка склонилась над Луцианом, пытаясь утешить, но тщетно – рыдания были для него и торжеством, и утешением. Энни что-то шептала ему, прижимая ладонь к его сердцу. Это были прекрасные, колдовские слова, зачаровавшие Луциана, словно древняя песня. Он не мог разобрать их смысла.
– Энни, любимая моя! Любимая Энни, что ты сказала? Я никогда не слышал таких прекрасных слов. Что они значат, Энни, скажи мне, что они значат?
Она рассмеялась:
– Так, пустяки, которые няни говорят детям.
– Только не называй меня больше мастером Луцианом, – попросил он, когда они прощались. – Ты должна называть меня просто Луциан. Я люблю тебя, я обожаю тебя, о дорогая моя Энни!
Луциан встал перед девушкой на колени, обхватив ее ноги и поклоняясь ей, как жертвенному алтарю. И она приняла его любовь и поклонение. Он медленно шел следом за Энни и глубоко вздохнул, оставив позади дорожку, что вела к ее дому.
Когда Луциан добрался до дому, никто не заметил произошедшей в нем перемены. Он вошел со своим обычным безразлично-рассеянным видом и сказал, что, пытаясь срезать угол, заблудился. Рассказал Луциан и о том, что встретил по дороге доктора Барроу и именно доктор посоветовал ему идти через поле. Затем вполне равнодушно, словно читая вслух газетную статью, он сообщил отцу, как поступил с ним Бейт, и показал прелестную маленькую книжку, называвшуюся «Зеленый хор». Отец был изумлен:
– Ты хочешь сказать, что это написал ты?
Мистер Тейлор был вне себя от ярости.
– Не все. Посмотри: этот отрывок мой, и этот, и начало этой главы. Почти вся третья глава моя.
Луциан безо всякого интереса захлопнул книгу. Волнение отца казалось ему странным – сам он не придавал никакого значения этой истории.
– Значит, восемьдесят или девяносто страниц этой книги написаны тобой? Эти негодяи украли твою работу?
– Ну да, именно это они и сделали. Если хочешь, я покажу тебе рукопись.
Луциан принес рукопись, по-прежнему упакованную в коричневый пакет с адресом «Бейта и К°» и почтовым штампом, удостоверявшим дату отправки.
– А месяц назад вышла эта книга.
Старый священник, забыв свой пастырский долг, а заодно и свою циничную манеру ухмыляться по самым серьезным поводам, сначала проклял мистера Бейта с мистером Ритсоном, потом обозвал их подлыми ворами, а потом жадно принялся за рукопись, сверяя ее с напечатанным текстом.
– Господи, это же замечательная работа! Бедный мой мальчик, я и не думал, что ты можешь так хорошо писать! – воскликнул он чуть погодя. – Я и сам мечтал об этом занятии в прежние дни в Оксфорде. Старина Билл, наш наставник, хвалил мои статьи, но мне никогда не удавалось писать и вполовину так хорошо, как тебе. А этот чертов мерзавец Ритсон выбрал лучшие куски из твоей книги и перемешал со своим дерьмом, чтобы его покупали. Ты должен вывести этого прохвоста на чистую воду!
Юный Тейлор лишь тихо посмеивался. Волнение отца казалось ему почти нелепым. Луциан полулежал в одном из старых кресел, покуривая трубку, наслаждаясь горячим грогом, который перепадал ему не так уж часто, и лениво поглядывал из-под отяжелевших век на разъяренного отца. Луциану льстило, что отец так высоко оценил его работу, – ведь мистер Тейлор и вправду был глубоко чувствующим и на редкость эрудированным читателем, умеющим ясно и трезво судить о книгах, – и все же забавно было смотреть на то, как действует на людей печатный текст. В свое время старый священник даже не поинтересовался отвергнутой рукописью, лишь ухмыльнулся, что-то сказал насчет бумерангов да процитировал Горация. А теперь, когда перед ним лежала аккуратно напечатанная книга с чужим именем на переплете, его захлестывало восхищение написанным вперемешку с гневом на «этих мерзавцев». И хотя мистер Тейлор всегда был заядлым курильщиком, сегодня его трубка постоянно коптила, а то и вовсе забивалась дегтем.
– Ты должен разоблачить мерзавцев! – повторил он.
– Ну уж нет. Да и какая разница? Ведь в книге и правда много слабых мест. Неужели ты не видишь, что она совсем незрелая? У меня есть план нового романа, только я еще не начал писать. Но мне кажется, на этот раз я на самом деле ухватил стоящую идею, и если мне удастся проникнуть в самую ее суть, то я напишу книгу, которую всякий захочет украсть. Это так трудно – уловить самую суть; замысел книги похож на шкатулку, которую ты не можешь открыть, хотя и знаешь, что там, внутри, спрятано нечто замечательное. Но я уверен, что на этот раз у меня в руках отличная идея, и надеюсь, сумею с ней справиться.
Голос Луциана был полон восторга, но мистер Тейлор посмотрел на сына с недоумением. Он не мог разделить восторга по поводу еще не начатой книги – этого неуловимого призрака из мира нерожденных шедевров и возможных неудач. Отец Луциана любил литературу, но подсознательно разделял общее мнение о том, что любая попытка написать книгу заведомо обречена на провал. Правда, в отличие от большинства людей он не считал хорошую книгу пустяком. Напротив, мистер Тейлор высоко ценил книги. Но только напечатанные книги, а в рукописи он не верил и потому не мог вместе с Луцианом мечтать о «ближайшем будущем». Поэтому он снова вернулся к тому, что его интересовало:
– Но ведь эти негодяи ведут нечестную игру. Ты что же, так и будешь молчать? Нужно сразу написать во все газеты.
– Никто не напечатает мое письмо. А если и напечатают, то надо мной же и будут смеяться. Не так давно один человек написал в «Ридер», ужасно радуясь, что у него украли пьесу. Он сообщил, что послал самому великому Берли маленькую одноактную пьесу, прося у него чисто технического совета. Совет-то Берли дал, но взамен взял пьесу и превратил ее в одну из своих знаменитых комедий. Так утверждает этот человек, и я ему вполне верю. Да только никакого толку от его жалоб нет. «Хорошенькое дело, – скажет любой, кто прочтет его письмо, – какой-то мистер Томсон, о котором никто не слыхал, посылает свой мусор великому Берли, а потом еще и обвиняет гения в плагиате! Разве может такой человек, как Берли, знаменитый драматург, который зарабатывает пять тысяч фунтов в год, одалживать идеи у какого-то Томсона?!» На мой взгляд, эта версия вполне правдоподобна, – посмеиваясь, добавил Луциан. – Именно так и скажут все. А посему я не стану писать в газеты.
– Ну хорошо, мой мальчик, тебе видней. По-моему, ты делаешь ошибку. Однако поступай как знаешь.
– Господи, какие это все пустяки, – зевнул Луциан.
Он и вправду не придавал этой истории никакого значения. Ему было о чем помечтать, и он хотел как можно скорее забыть о тех чувствах, что одолевали безумца, три часа назад в исступлении выбежавшего из Каэрмаена. Глупец – теперь ему было стыдно вспоминать о своем ничтожном тщеславии. Неистовая ненависть не только грех, она еще и глупость. Объявив всех людей своими врагами, не добьешься ничего хорошего, и теперь Луциан сурово упрекал себя: он уже не мальчик и должен был понимать такие вещи. Но не это главное. Главное – те сладостные мечты, что ждали его, тот тайный восторг, который он берег и прятал в глубине души, та радость, слишком возвышенная, чтобы думать о ней даже в полном одиночестве. И конечно же, замысел книги, от которого он недавно в порыве отчаяния отказался, но к которому час назад вернулся опять. Теперь Луциан знал, что пошел по ложному следу и взялся за свою идею не с той стороны. Разумеется, ничего и не могло выйти из такого начала – это было все равно что читать, перевернув книгу вверх ногами. А сейчас перед ним отчетливо, как живые, предстали персонажи, о которых он столько думал, и все события книги выстроились в стройной последовательности.
Это было подлинное воскресение – сухая схема оживала, обрастала плотью, становилась живой, теплой, таинственной, изменчивой, как сама жизнь. Старый священник стоически раскуривал свою трубку, но с лица его еще не сошло изумление. Порой он украдкой бросал взгляд на безмятежное лицо молодого человека, откинувшегося в кресле у остывшего очага. Мистер Тейлор и впрямь был восхищен рукописью Луциана, он так давно смирился с неудачами и безнадежностью любых усилий, что успех сына поразил его. Конечно, чисто теоретически старый священник догадывался, что где-то есть люди, которые умеют писать и которые издают свои книги, получая за это деньги, подобно игрокам, поставившим на неперспективную лошадь и сорвавшим бешеный куш, – но какой бы то ни было успех Луциана представлялся ему совершенно невероятным. А мальчика все это, казалось, вовсе не волновало, он, похоже, даже и не гордился тем, что на его работу кто-то позарился, и, что уж вовсе удивительно, не проклинал тех, кто его ограбил.
Луциан удобно развалился в давно утратившем приличный вид старом кресле. Клубы сизоватого дыма медленно поднимались из трубки к потолку. Луциан прихлебывал виски и, казалось, был совершенно доволен жизнью. Мистер Тейлор следил за тем, как сын улыбался, и у него в сердце нарастала щемящая боль: какой красивый мальчик, какие ласковые темные глаза, нежный рот, тонкий девичий румянец на щеках! Отец был растроган. Какой чистый, беззлобный юноша! Пусть немножко необычный, даже странный, но зато незлопамятный. И как терпеливо он переносит глупую болтовню мисс Дикон, тоже внесшей достойный вклад в этот вечерний разговор. Во-первых, заметила она, быть писателем – самая никчемная из известных ей профессий, а во-вторых, нет ничего глупее, чем доверять свою собственность людям, о которых тебе ничего не известно. Отец и сын с улыбкой переглянулись – хотя, кто знает, быть может, мисс Дикон была права. Наконец мистер Тейлор оставил Луциана в одиночестве. С некоторым уважением он пожал сыну руку и произнес почти просительно:
– Ты слишком много работаешь, старина. На твоем месте я бы не засиживался допоздна, особенно после такой прогулки. Ты, наверное, прошел не одну милю, пока отыскал дорогу.
– Я совсем не устал. Мне кажется, я мог бы написать мою книгу прямо сейчас, за одну ночь.
И юноша рассмеялся таким веселым и нежным смехом, какой отец слышал из его уст впервые.
Когда старый викарий вышел из комнаты, Луциан еще с минуту сидел неподвижно, лелея свое главное сокровище, которым еще насладится позже. Он придвинул кресло к столу, именно за этим столом Луциан имел обыкновение писать, и в который уже раз занялся многострадальной рукописью – огромной пачкой исписанной бумаги, запечатлевшей следы многочасовых бесплодных усилий, сердечных мук, напряженного поиска, где среди огромного количества бесполезного хлама в нескольких восторженных и жалких строчках едва светилось угасающее пламя надежды. Он весело разложил страницы и не торопясь принялся с удовольствием перечитывать отвергнутые строки. Один лист привлек его внимание – Луциан вспомнил, как набрасывал эти слова под шум ноябрьского дождя. Страница со странным пятном в углу напомнила ему о том дне, когда он встал с постели и, выглянув в окно, увидел превратившуюся в белую сказку землю и вращавшиеся на ветру снежинки. Потом Луциан отыскал главу, начатую мартовской ночью, когда сильный ветер повалил старое тисовое дерево на кладбище у церкви. Он слышал, как вскрикивают в лесу деревья, слышал протяжный вой ветра и видел отчаянное бегство луны, преследуемой торопливыми тучами. Все эти жалкие, заброшенные страницы вдруг стали ему невыносимо дороги. Прежнее отчаяние растворилось во внезапно нахлынувшем блаженстве, и давние часы бесплодных мучений осветило вновь обретенное счастье. Луциан перевернул еще с полдюжины страниц и принялся набрасывать на обороте бумаги план новой книги: на одной странице только сжатую схему, на последующих – всевозможные наметки, идеи, фантазии. Он писал торопливо, буквально захлебываясь от радости. Исполненные очарования фразы струились из-под его пера. Каждая сцена отчетливо вставала перед его глазами, наполняя душу восторгом. Луциан дал волю перу и увидел, как оживают написанные им страницы и как жар жизни, самая суть бытия, трепещет на непросохших листах. Прекрасные грезы воплощались в еще более прекрасные слова, и наконец, откинувшись в кресле, Луциан почувствовал, как стремительно оживает придуманная им история, как ее кровь сливается с его собственной кровью. Он перечел написанное, радуясь мастерству и проворству своих пальцев, а затем любовно уложил тонкую стопку листов в ящик стола и замер в кресле, наслаждаясь мыслью о завтрашней работе.
Остаток ночи Луциан предавался блаженству и нежным грезам. Когда он наконец лег спать, на востоке уже пробивалась робкая алая полоса рассвета.
1
Труба, что сеет дивный клич… (лат.)