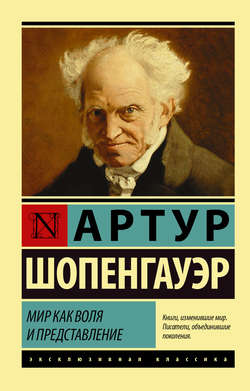Читать книгу Мир как воля и представление - Артур Шопенгауэр, Артур Шопенгауэр - Страница 5
Книга первая
О мире как представлении
Первое размышление: Представление, подчиненное закону основания: Объект опыта и науки
ОглавлениеSors de l’enfance, ami, revêille toi!
Расстанься с детством, друг, пробудись!
Жан-Жак Руссо
1
«Мир есть мое представление»: вот истина, которая имеет силу для каждого живого и познающего существа, хотя только человек может возводить ее до рефлективно-абстрактного сознания; и если он действительно это делает, то у него зарождается философский взгляд на вещи. Для него становится тогда ясным и несомненным, что он не знает ни солнца, ни земли, а знает только глаз, который видит солнце, руку, которая осязает землю; что окружающий его мир существует лишь как представление, т. е. исключительно по отношению к другому, к представляющему, каковым является сам человек. Если какая-нибудь истина может быть высказана а priori, то именно эта, ибо она – выражение той формы всякого возможного и мыслимого опыта, которая имеет более всеобщий характер, чем все другие, чем время, пространство и причинность: ведь все они уже предполагают ее, и если каждая из этих форм, в которых мы признали отдельные виды закона основания, имеет значение лишь для отдельного класса представлений, то, наоборот, распадение на объект и субъект служит общей формой для всех этих классов, той формой, в которой одной вообще только возможно и мыслимо всякое представление, какого бы рода оно ни было, – абстрактное или интуитивное, чистое или эмпирическое. Итак, нет истины более несомненной, более независимой от всех других, менее нуждающихся в доказательстве, чем та, что все существующее для познания, т. е. весь этот мир, является только объектом по отношению к субъекту, созерцанием для созерцающего, короче говоря, представлением. Естественно, это относится и к настоящему, и ко всякому прошлому, и ко всякому будущему, относится и к самому отдаленному, и к близкому: ибо это распространяется на самое время и пространство, в которых только и находятся все эти различия. Все, что принадлежит и может принадлежать миру, неизбежно отмечено печатью этой обусловленности субъектом и существует только для субъекта. Мир есть представление.
Новизной эта истина не отличается. Она содержалась уже в скептических размышлениях, из которых исходил Декарт. Но первым решительно высказал ее Беркли: он приобрел этим бессмертную заслугу перед философией, хотя остальное в его учениях и несостоятельно. Первой ошибкой Канта было опущение этого тезиса, как я показал в приложении. Наоборот, как рано эта основная истина была познана мудрецами Индии, сделавшись фундаментальным положением философии Вед, приписываемой Вьясе, – об этом свидетельствует В. Джонс в последнем своем трактате «О философии азиатов» («Asiatic re- searches», vol. IV): «Основной догмат школы Веданта состоял не в отрицании существования материи, т. е. плотности, непроницаемости и протяженности (их отрицать было бы безумием), а в исправлении обычного понятия о ней и в утверждении, что она не существует независимо от умственного восприятия, что существование и воспринимаемость – понятия обратимые». Эти слова достаточно выражают совмещение эмпирической реальности с трансцендентальной идеальностью.
Таким образом, в этой первой книге мы рассматриваем мир лишь с указанной стороны, лишь поскольку он есть представление. Но что такой взгляд, без ущерба для его правильности, все-таки односторонен и, следовательно, вызван какой-нибудь произвольной абстракцией, – это подсказывает каждому то внутреннее противодействие, с которым он принимает мир только за свое представление; с другой стороны, однако, он никогда не может избавиться от такого допущения. Но односторонность этого взгляда восполняет следующая книга с помощью истины, которая не столь непосредственно достоверна, как служащая здесь нашим исходным пунктом, и к которой могут привести только глубокое исследование, более тщательная абстракция, различение неодинакового и соединение тождественного, – с помощью истины, которая очень серьезна и у всякого должна вызывать если не страх, то раздумье, – истины, что и он также может и должен сказать: «мир есть моя воля».
Но до тех пор, следовательно, в этой первой книге необходимо пристально рассмотреть ту сторону мира, из которой мы исходим, сторону познаваемости; соответственно этому мы должны без противодействия рассмотреть все существующие объекты, даже собственное тело (я это скоро поясню), только как представление, называя их всего лишь представлением. То, от чего мы здесь абстрагируемся, – позднее это, вероятно, станет несомненным для всех, – есть всегда только воля, которая одна составляет другую грань мира, ибо последний, с одной стороны, всецело есть представление, а с другой стороны, всецело есть воля. Реальность же, которая была бы ни тем и ни другим, а объектом в себе (во что, к сожалению, благодаря Канту выродилась и его вещь в себе), это – вымышленная несуразность, и допущение ее представляет собою блуждающий огонек философии.
2
То, что все познает и никем не познается, это – субъект. Он, следовательно, носитель мира, общее и всегда предполагаемое условие всех явлений, всякого объекта: ибо только для субъекта существует все, что существует. Таким субъектом каждый находит самого себя, но лишь поскольку он познает, а не является объектом познания. Объектом, однако, является уже его тело, и оттого само оно, с этой точки зрения, называется нами представлением. Ибо тело – объект среди объектов и подчинено их законам, хотя оно – непосредственный объект[11]. Как и все объекты созерцания, оно пребывает в формах всякого познания, во времени и пространстве, благодаря которым существует множественность. Субъект же, познающее, никогда не познанное, не находится в этих формах: напротив, он сам всегда уже предполагается ими, и таким образом ему не надлежит ни множественность, ни ее противоположность – единство. Мы никогда не познаем его, между тем как именно он познает, где только ни происходит познание.
Итак, мир как представление – только в этом отношении мы его здесь и рассматриваем – имеет две существенные и неделимые половины. Первая из них – объект: его формой служат пространство и время, а через них множественность. Другая же половина, субъект, лежит вне пространства и времени: ибо она вполне и нераздельно находится в каждом представляющем существе. Поэтому одно-единственное из них восполняет объектом мир как представление с той же целостностью, что и миллионы имеющихся таких существ; но если бы исчезло и его единственное существо, то не стало бы и мира как представления. Эти половины, таким образом, неразделимы даже для мысли, ибо каждая из них имеет значение и бытие только через другую и для другой, существует и исчезает вместе с нею. Они непосредственно ограничивают одна другую: где начинается объект, кончается субъект. Общность этой границы обнаруживается именно в том, что существенные и поэтому всеобщие формы всякого объекта, каковы время, пространство и причинность, мы можем находить и вполне познавать, и не познавая самого объекта, а исходя из одного субъекта, – т. е., говоря языком Канта, они а priori лежат в нашем сознании. Открытие этого составляет главную заслугу Канта, и притом очень большую. Я же сверх того утверждаю, что закон основания – общее выражение для всех этих а priori известных нам форм объекта и потому все, познаваемое нами чисто а priori, и есть не что иное, как именно содержание этого закона и вытекающие из него следствия; таким образом, в нем выражено все наше а priori достоверного познания. В своем трактате о законе основания я показал, как всякий объект подчиняется этому закону, т. е. находится в неизбежном отношении к другим объектам как определяемый, с одной стороны, как определяющий – с другой; это идет так далеко, что всё существование всех объектов, поскольку они – объекты, представления и ничего больше, вполне сводится к названному необходимому отношению их друг к другу, только в нем и состоит и потому совсем релятивно; об этом скоро будет сказано подробнее. Я показал там далее, что соответственно классам, на которые по своей возможности распадаются объекты, это необходимое отношение, выражаемое законом основания в общем виде, проявляется в других формах, чем опять подтверждается правильность разделения этих классов. Я постоянно предполагаю здесь, что все сказанное там известно читателю и усвоено им; иначе, если все это не было там сказано, оно непременно нашло бы свое место здесь.
3
Главное различие между всеми нашими представлениями сводятся к различию между интуитивным и абстрактным. Последнее образует только один класс представлений – понятия, а они на земле составляют достояние одного лишь человека, и его способность к ним, отличающая его от всех животных, искони называется разумом [Кант запутал это понятие разума; отсылаю к приложению и своим «Основным проблемам этики»].
Эти абстрактные представления мы рассмотрим потом особо; сначала же будем говорить только об интуитивном представлении. Оно объемлет весь мир, или совокупность опыта вместе с условиями его возможности. Как было сказано, очень важным открытием Канта является то, что именно эти условия, эти формы опыта, т. е. самое общее в восприятии его, всем его проявлениям одинаково свойственное, – время и пространство – сами по себе, независимо от своего содержания, могут быть предметом не только абстрактного мышления, но и непосредственного созерцания. И такое созерцание не есть полученный из опыта путем повторения образ фантазии, но оно настолько независимо от опыта, что, напротив, последний надо считать зависимым от него, ибо свойства пространства и времени, как их а priori познает созерцание, имеют для всякого возможного опыта силу законов, сообразно которым он всюду должен происходить. Вот почему в своем трактате о законе основания я рассматривал время и пространство, поскольку они созерцаются чистыми и вне содержания, как особый и самостоятельный класс представлений. И как ни важно то открытое Кантом свойство названных всеобщих форм созерцания, что они очевидны сами по себе и независимо от опыта и что они познаваемы во всей своей закономерности, – на чем и основывается математика со своей непогрешимостью, – все же не менее замечательно и то их свойство, что принцип достаточного основания, определяющий опыт в качестве закона причинности и мотивации, и мышление в качестве закона обоснования суждений выступают здесь в совершенно особой форме, которую я назвал основанием бытия и которая во времени является последовательностью его моментов, а в пространстве – положением его частей, до бесконечности взаимоопределяющих одна другую.
Кому из моего вступительного трактата сделалась ясной совершенная тождественность содержания закона основания, при всем разнообразии его видов, тот убедится, как важно для понимания внутренней сущности этого закона познание именно самой простой из его форм как таковой, и этой формой мы признали время. Подобно тому как в нем каждое мгновение существует, лишь уничтожив предыдущее, своего отца, чтобы столь же быстро погибнуть самому; подобно тому как прошедшее и будущее (помимо результатов своего содержания) столь же ничтожны, как любое сновидение, а настоящее служит только непротяженной и неустойчивой границей между тем и другим, – так мы увидим эту самую ничтожность и во всех других формах закона основания и поймем, что как время, так и пространство, и как оно, так и все, что есть в нем и во времени, т. е. все, что вытекает из причин и мотивов, все имеет только относительное бытие, существует только через другое и для другого, однородного с ним, т. е. существующего тоже лишь таким образом. Сущность этого взгляда стара: в нем выражал Гераклит свое сетование на вечный поток вещей; Платон низводил его предмет как нечто, всегда становящееся, но никогда не сущее; Спиноза называл это лишь акциденциями единственно сущей и пребывающей всеединой субстанции; Кант познанное таким образом противопоставлял в качестве простого явления вещи в себе; наконец, древняя мудрость индийцев гласит: «это Майя, покрывало обмана, застилает глаза смертным и заставляет их видеть мир, о котором нельзя сказать – ни что он существует, ни что он не существует; ибо он подобен сновидению, подобен отблеску солнца на песке, который путник издали принимает за воду, или – брошенной веревке, которая кажется ему змеей». (Эти сравнения повторяются в бесчисленных местах Вед и Пуран.) То, что все эти мыслители имели в виду и о чем они говорили, и есть не что иное, как рассматриваемый теперь нами мир как представление, подчиненное закону основания.
4
Кто познал тот вид закона основания, который проявляется в чистом времени как таковом и на котором зиждется всякий счет и вычисление, тот вместе с этим познал и всю сущность времени. Оно не более, как именно этот вид закона основания, и других свойств не имеет. Последовательность – форма закона основания во времени; последовательность – вся сущность времени. Кто познал, далее, закон основания, как он господствует в чисто созерцаемом пространстве, тот вместе с этим исчерпал и всю сущность пространства, ибо последнее всецело есть не что иное, как возможность взаимных определений его частей одна другою, называемая положением. Подробное рассмотрение последнего и претворение вытекающих отсюда результатов в абстрактные понятия (для более удобного пользования) составляют содержание всей геометрии. Точно так же, кто познал тот вид закона основания, который господствует над содержанием названных форм (времени и пространства), над их воспринимаемостью, т. е. материей, другими словами: кто познал закон причинности, – тот вместе с этим познал и все существо материи как таковой, ибо последняя всецело есть не что иное, как причинность, в чем непосредственно убедится всякий, – лишь только он вдумается в предмет. Бытие материи – это ее действие; иного бытия ее нельзя даже и помыслить. Только действуя, наполняет она пространство, наполняет она время; ее воздействие на непосредственный объект (который сам есть материя) обусловливает собою созерцание, в котором она только и существует; результат воздействия каждого иного материального объекта на другой познается лишь потому, что последний теперь иначе, чем раньше, действует на непосредственный объект, и только в этом названный результат и состоит. Таким образом, причина и действие – в этом вся сущность материи: ее бытие есть ее действие (подробнее об этом см. в трактате о законе основания, 21). Поэтому в высшей степени удачно совокупность всего материального названа действительностью[12]; это слово гораздо выразительнее, чем реальность! То, на что материя действует, опять-таки есть материя: все ее бытие и существо состоят, таким образом, только в закономерном изменении, которое одна ее часть производит в другой, так что это бытие и существо вполне относительно согласно отношению, имеющему силу только внутри ее же границ, – значит, вполне подобно времени, подобно пространству.
Но время и пространство, каждое само по себе, наглядно представимы и без материи, материя же без них непредставима. Уже форма, которая от нее неотделима, предполагает пространство, а действие материи, в котором состоит все ее бытие, всегда касается какого-нибудь изменения, т. е. определения во времени. Пространство и время предполагаются материей не просто каждое само по себе, но сущность ее составляет соединение обоих, ибо, как показано, существо ее состоит в действии, в причинности. Все мыслимые, бесчисленные явления и состояния могли бы пребывать друг подле друга в бесконечном пространстве, не стесняя друг друга, или могли бы также, не мешая друг другу, следовать одно за другим в бесконечном времени. Тогда вовсе не были бы нужны и даже не применимы необходимое отношение их друг к другу и закон этого отношения, и, следовательно, тогда при всей совместности в пространстве и при всех изменениях во времени, пока каждая из этих обеих форм существовала бы и протекала бы сама по себе и без связи с другою, не было бы еще никакой причинности, а так как последняя составляет подлинную сущность материи, то не было бы и материи. Закон же причинности приобретает свое значение и необходимость только оттого, что существо изменения состоит не в простой смене состояния вообще, а в том, что в одном и том же месте пространства теперь есть одно состояние, а потом другое, и в один и тот же определенный момент времени здесь есть одно состояние, а там другое: только это взаимное ограничение времени и пространства друг другом сообщает закону, по которому должно происходить изменение, силу и вместе с тем необходимость. Таким образом, законом причинности определяется не последовательность состояний в одном только времени, а эта последовательность по отношению к определенному пространству, и не наличие состояний в определенном месте, а их наличие в этом месте и в определенное время. Изменение, т. е. смена, наступающая по закону причинности, всегда касается таким образом определенной части пространства и определенной части времени – сразу и в связи. Поэтому причинность объединяет пространство со временем. Но мы нашли, что в действии, т. е. в причинности, заключается все существо материи, следовательно, и в ней пространство и время должны быть объединены, т. е. она должна сразу носить в себе свойства и времени, и пространства (как бы ни противоборствовали они друг другу), и она должна объединять в себе то, что в каждом из них в отдельности само по себе невозможно, а именно, подвижную текучесть времени и косную, неизменную устойчивость пространства; бесконечную делимость она имеет от обоих. Вот почему прежде всего она повлекла за собой сосуществование, которого не могло бы быть ни в одном только времени, не знающем подле, не в одном только пространстве, не знающем прежде, после или теперь. А сосуществование многих состояний и составляет, собственно, сущность действительности, ибо через него лишь и становится возможным пребывание, которое познается именно только из смены того, что существует наряду с пребывающим; но, с другой стороны, только благодаря пребывающему в смене последняя получает характер изменения, т. е. перемены качества и формы, при сохранении субстанции, т. е. материи [что материя и субстанция одно и то же, показано в приложении]. В одном только пространстве мир был бы косным и неподвижным, без после, без изменений, без действия, а без признака действия нет ведь и представления материи. В одном только времени все было бы текуче: не было бы постоянства, подле, не было бы вместе, а следовательно, и пребывания: опять-таки не было бы и материи. Только из соединения времени и пространства вырастает материя, т. е. возможность сосуществования и потому пребывания, а из нее – возможность постоянства субстанции при смене состояний [это раскрывает и основу кантовского объяснения материи, согласно которому она есть «подвижное в пространстве»: ведь движение состоит только в соединении пространства и времени]. Будучи в сущности соединением времени и пространства, материя всецело носит на себе отпечаток обоих. Она свидетельствует о своем происхождении из пространства отчасти формой, которая от нее неотделима, а в особенности (ибо смена принадлежит только времени, существует только в нем, а сама по себе не есть что-либо устойчивое) своим постоянством (субстанцией), априорная достоверность которого может поэтому всецело выводиться из достоверности пространства [а не из познания времени, как думает Кант; подробнее см. в приложении]. Свое же происхождение из времени она обнаруживает своей качественностью (акциденцией), без которой она никогда не проявляется и которая всегда есть только причинность, действие на другую материю, т. е. изменение (временное понятие). Закономерность же этого действия всегда относится сразу к пространству и времени и только потому и имеет значение. Какое состояние должно последовать в это время на этом месте – вот определение, на которое только и распространяется законодательная сила причинности. На этом выводе основных определений материи из а priori известных нам форм нашего познания основывается то, что некоторые свойства ее мы познаем а priori, а именно, наполнение пространства, т. е. непроницаемость, т. е. действенность, затем протяженность, бесконечную делимость, сохраняемость, т. е. неразрушимость, и наконец подвижность; напротив, тяжесть, хотя она и не составляет исключения, надо все-таки причислить к познанию а posteriori, хотя Кант в «Метафизических началах естествознания» (изд. Розенкранца) считает ее познаваемой а priori.
Но как объект вообще существует только для субъекта в качестве его представления, так и каждый особый класс представлений существует только для такого же особого определения в субъекте, которое называют той или другой познавательной способностью. Субъективный коррелат времени и пространства самих по себе как ненаполненных форм Кант назвал чистой чувственностью; это выражение, поскольку Кант первый проложил здесь путь, может быть сохранено, хотя оно и не совсем удачно, ибо чувственность уже предполагает материю. Субъективным коррелатом материи, или причинности (это одно и то же), является рассудок, и более он ничего собой не представляет. Познавать причинность – вот его единственная функция, его исключительная, великая, многообъемлющая способность, имеющая разнообразное применение, но при этом неоспоримо-тождественная во всех своих проявлениях. Наоборот, всякая причинность, следовательно, всякая материя, а с нею и вся действительность, существует только для рассудка, через рассудок, в рассудке. Первое, самое простое и постоянное проявление рассудка – это созерцание действительного мира; оно всецело есть познание причины из действия, поэтому всякое созерцание интеллектуально. Его все-таки никогда нельзя было бы достигнуть, если бы известное действие не познавалось бы непосредственно и не служило бы таким образом исходной точкой. Это – действие на животные тела, которые выступают в силу этого как непосредственные объекты субъекта: созерцание всех других объектов совершается через их посредство. Изменения, которые испытывает всякое животное тело, познаются непосредственно, т. е. ощущаются, и так как это действие сейчас же относят к его причине, то и возникает созерцание последней как объекта. Этот переход к причине не есть умозаключение в абстрактных понятиях, совершается он не посредством рефлексии, не по произволу, а непосредственно, необходимо и правильно. Это способ познания чистого рассудка, без которого никогда не было бы созерцания, а оставалось бы только смутное, как у растений, сознание изменений непосредственного объекта, которые без всякого смысла следовали бы друг за другом, если бы только не имели для воли значения в качестве боли или удовольствия. Но как с восходом солнца выступает внешний мир, так рассудок одним ударом, своей единственной, простой функцией претворяет смутное, ничего не говорящее ощущение – в созерцание. То, что ощущает глаз, ухо, рука, – это не созерцание, это – простые чувственные данные. Лишь когда рассудок переходит от действия к причине, перед ним как созерцание в пространстве расстилается мир, изменчивый по своему облику, вовеки пребывающий по своей материи, ибо рассудок соединяет пространство и время в представлении материи, т. е. действительности. Этот мир как представление, существуя только через рассудок, существует и только для рассудка. В первой главе своего трактата «О зрении и цвете» я уже показал, как из данных, доставляемых чувствами, рассудок творит созерцание, как из сравнения впечатлений, получаемых от одного и того же объекта различными чувствами, ребенок научается созерцанию, как именно только в этом находится ключ к объяснению многих чувственных феноменов – простого видения двумя глазами, двойного видения при косоглазии или при неодинаковой удаленности предметов, стоящих друг за другом и одновременно воспринимаемых глазом, и всяких иллюзий, которые возникают от внезапной перемены в органах чувств. Но гораздо подробнее и глубже изложил я этот важный вопрос во втором издании своего трактата о законе основания (21). Все сказанное там было бы вполне уместно здесь и, собственно, должно бы быть здесь повторено, но так как мне почти так же противно списывать у самого себя, как и у других, кроме того, я не в состоянии изложить это лучше, чем это сделано там, то вместо того, чтобы повторяться здесь, я отсылаю к названному сочинению, предполагая при этом его известным.
То, как учатся видеть дети и подвергшиеся операции слепорожденные; простое видение воспринятого вдвойне, двумя глазами; двойное видение и осязание при перемещении органов чувств из их обычного положения; появление объектов прямыми, между тем как их образ в глазу опрокинут; перенесение на внешние предметы цвета, составляющего только внутреннюю функцию, полярное разделение деятельности глаза; наконец, стереоскоп, – все это твердые и неопровержимые доказательства того, что всякое созерцание не просто сенсуально, а интеллектуально, т. е. является чистым рассудочным познанием причины из действия и, следовательно, предполагает закон причинности, от познания которого зависит всякое созерцание и потому опыт во всей своей изначальной возможности, а вовсе не наоборот, т. е. познание причинного закона не зависит от опыта, как утверждал скептицизм Юма, опровергаемый только этими соображениями. Ибо независимость познания причинности от всякого опыта, т. е. его априорность, может быть выведена только из зависимости от него всякого опыта, а это в свою очередь можно сделать, лишь доказав приведенным здесь способом (изложенным в только что упомянутых местах), что познание причинности уже вообще содержится в созерцании, в области которого заключен всякий опыт, т. е. что оно всецело априорно в своем отношении к опыту, предполагается им как условие, а не предполагает его, – но этого нельзя доказать тем способом, которым попытался сделать это Кант и который я подверг критике в 23 своего трактата о законе основания.
5
Но надо остерегаться великого недоразумения, будто бы ввиду того, что созерцание совершается при посредстве познания причинности, между объектом и субъектом есть отношение причины и действия; наоборот, такое отношение существует всегда только между непосредственным и опосредованным объектом, т. е. всегда только между объектами. Именно на этом неверном предположении основывается нелепый спор о реальности внешнего мира, спор, в котором выступают друг против друга догматизм и скептицизм, причем первый выступает то как реализм, то как идеализм. Реализм полагает предмет как причину и переносит ее действие на субъект. Фихтевский идеализм считает объект действием субъекта. Но так как – и это надо повторять неустанно – между субъектом и объектом вовсе нет отношения по закону основания, то ни то, ни другое утверждение никогда не могло быть доказано, и скептицизм успешно нападал на них обоих. Ибо как закон причинности уже предшествует в качестве условия созерцанию и опыту и поэтому его нельзя познать из них (как думал Юм), так объект и субъект уже предшествуют, в качестве первого условия, всякому познанию, следовательно, и вообще закону основания, потому что последний – это только форма всякого объекта, непременный способ его проявления; объект же всегда предполагает субъект, поэтому между ними обоими не может быть отношения причины и следствия. Задача моего трактата о законе основания в том и состоит, чтобы представить содержание этого закона как существенную форму всякого объекта, т. е. как общий способ всякого объективного бытия и нечто присущее объекту как таковому, но объект как таковой всюду предполагает субъект в качестве своего необходимого коррелата, так что последний всегда остается за пределами действия закона основания. Спор о реальности внешнего мира имеет в своей основе именно это неправильное распространение действия названного закона и на субъект; исходя из этого недоразумения, он никогда не мог понять самого себя. С одной стороны, реалистический догматизм, рассматривая представление как действие объекта, хочет разделить их – представление и объект, тогда как оба они суть ведь одно и то же; он хочет принять совершенно отличную от представления причину – объект в себе, независимый от субъекта, а это нельзя даже помыслить, ибо объект уже как таковой всегда предполагает субъект и всегда остается поэтому только его представлением. Исходя из того же неправильного предположения, скептицизм в противоположность этому взгляду утверждает, что в представлении мы всегда имеем только действие, а не причину, т. е. что мы никогда не познаем бытия, а всегда – только действие объектов; но последнее, быть может, совсем и не похоже на первое, да и вообще понимается совершенно неверно, ибо закон причинности должен выводиться лишь из опыта, реальность же последнего опять-таки должна покоиться на нем. На это – в поучение обоим – следует заметить, что, во-первых, объект и представление – это одно и то же; во-вторых, бытие наглядных предметов – это именно их действие и именно в последнем заключается действительность вещи, а требование бытия объекта вне представления субъекта и бытия действительной вещи отдельно от ее действия вовсе не имеет смысла и является противоречием; поэтому познание способа действия какого-нибудь воспринятого объекта исчерпывает уже и самый этот объект, поскольку он – объект, т. е. представление, так как сверх того в нем ничего больше не остается для познания. В этом смысле мир, созерцаемый в пространстве и времени, проявляющий себя как чистая причинность, совершенно реален; и он есть безусловно то, за что он себя выдает, а выдает он себя всецело и без остатка за представление, связанное по закону причинности. В этом – его эмпирическая реальность. Но с другой стороны, всякая причинность существует только в рассудке и для рассудка, и, следовательно, весь этот действительный, т. е. действующий мир как таковой, всегда обусловлен рассудком и без него – ничто. Однако не только поэтому, но уже и потому, что вообще нельзя без противоречия мыслить ни одного объекта без субъекта, мы должны совершенно отвергнуть такое догматическое понимание реальности внешнего мира, которое видит ее в независимости этого мира от субъекта. Весь мир объектов есть и остается представлением, и именно поэтому он вполне и во веки веков обусловлен субъектом, т. е. имеет трансцендентальную идеальность. Но в силу этого он – не обман и не мираж: он выдает себя за то, что он есть в самом деле, – за представление, и даже за ряд представлений, общей связью которых служит закон основания. Как таковой мир понятен здравому рассудку даже в своем внутреннем смысле и говорит с ним на совершенно понятном языке. Только ум, искаженный мудрствованием, может спорить о его реальности, и это всегда вызывается неправильным применением закона основания: последний хотя и связывает друг с другом все представления, какого бы класса они ни были, но никогда не связывает их с субъектом или с чем-нибудь таким, что не было бы ни субъектом, ни объектом, а было бы только основанием объекта; самая мысль о такой связи – нелепость, ибо только объекты могут быть основанием, и притом всегда только объектов.
Если ближе исследовать происхождение этого вопроса о реальности внешнего мира, то мы найдем, что, кроме указанного неверного применения закона основания к тому, что лежит вне его сферы, присоединяется еще особое смешение его форм, а именно та форма, которую он имеет только по отношению к понятиям, или абстрактным представлениям, переносится на наглядные представления, реальные объекты, и требуется основание познания от таких объектов, которые могут иметь лишь основание становления. Над абстрактными представлениями, над понятиями, связанными в суждения, закон основания господствует, конечно, в том смысле, что каждое из них свою ценность, свое значение, все свое существование, в данном случае, именуемое истиной, получает исключительно через отнесения суждения к чему-нибудь вне его, к своей основе познания, к которой, следовательно, надо всегда возвращаться. Наоборот, над реальными объектами, над наглядными представлениями, закон основания господствует как закон не основы познания, а основы становления, закон причинности; каждый из этих объектов заплатил ему свою дань уже тем, что он стал, т. е. произошел как действие из причины; требование основы познания не имеет здесь, следовательно, силы и смысла, – оно относится к совершенно другому классу объектов. Поэтому наглядный мир, пока мы останавливаемся на нем, не возбуждает в наблюдателе недоверия и сомнений: здесь нет ни заблуждения, ни истины, – они удалены в область абстрактного, рефлексии. Здесь же мир открыт для чувств и рассудка, с наивной правдой выдавая себя за то, что он есть, – за наглядное представление, закономерно развивающееся в связи причинности.
Вопрос о реальности внешнего мира, как мы его рассматривали до сих пор, вытекал всегда из блужданий разума, доходившего до непонимания самого себя, и ответить на этот вопрос можно было только разъяснением его содержания. После исследования всего существа закона основания, отношения между объектом и субъектом и истинных свойств чувственного созерцания, указанный вопрос должен был отпасть сам собою, ибо в нем не осталось больше никакого смысла. Но кроме названного, чисто умозрительного происхождения, он имеет и совершенно иной, собственно эмпирический источник, хотя и здесь он все еще ставится в спекулятивных целях. В последнем значении смысл его гораздо понятнее, чем в первом. Он состоит в следующем: мы видим сны – не сон ли вся наша жизнь? Или, определеннее: есть ли верное мерило для различения между сновидениями и действительностью, между грезами и реальными объектами? Указание на меньшую живость и ясность грезящего созерцания сравнительно с реальным не заслуживает никакого внимания, ибо никто еще не сопоставлял их непосредственно друг с другом для такого сравнения, а можно было сравнивать только воспоминание сна с настоящей действительностью. Кант решает вопрос таким образом: «Взаимная связь представлений по закону причинности отличает жизнь от сновидения». Но ведь и во сне все единичное тоже связано по закону основания во всех его формах, и эта связь только прерывается между жизнью и сном и между отдельными сновидениями. Ответ Канта поэтому мог бы гласить лишь так: долгое сновидение (жизнь) отличается непрерывной связностью по закону основания, но оно не связано с короткими сновидениями, хотя каждое из них само по себе имеет ту же связность; таким образом, между последними и первым этот мост разрушен, и по этому признаку их и различают. Однако исследовать по такому критерию, приснилось ли что-нибудь или случилось наяву, было бы очень трудно и часто невозможно: ведь мы совершенно не в состоянии проследить звено за звеном причинную связь между каждым пережитым событием и данной минутой, но на этом основании еще не утверждаем, что такое событие приснилось. Поэтому в действительной жизни для различения сна от реальности обыкновенно не пользуются такого рода исследованием. Единственно верным мерилом для этого служит на деле не что иное, как чисто эмпирический критерий пробуждения: последнее уж прямо и осязательно нарушает причинную связь между приснившимися событиями и реальными. Прекрасным подтверждением этого является, замечание, которое делает Гоббс во 2-й главе «Левиафана», а именно: мы легко принимаем сновидения за действительность даже по пробуждении, если заснули нечаянно, одетыми, в особенности если все наши мысли были поглощены каким-нибудь предприятием или замыслом, которые во сне занимают нас так же, как и наяву; в этих случаях пробуждение мы замечаем почти столь же мало, как и засыпание – сон сливается с действительностью и смешивается с нею. Тогда, конечно, остается только применить критерий Канта; но если и затем, как это часто бывает, причинная связь с настоящим или ее отсутствие совсем не могут быть выяснены, то навсегда останется нерешенным, приснилось ли известное событие или случилось наяву. Здесь действительно слишком явно выступает перед нами тесное родство между жизнью и сновидением; не постыдимся же признать его, после того как его признали и высказали много великих умов. Веды и Пураны для всего познания действительного мира, который они называют тканью Майи, не знают лучшего сравнения, чем сон, употребляя его чаще любого другого. Платон не раз говорит, что люди живут только во сне и лишь один философ стремится к бдению. Пиндар (П. η, 135) выражается: человек – сон тени, Софокл говорит:
Все, что землею вскормлены, не более
Как легкий призрак и пустая тень.
(Аякс, 125).
Рядом с ним достойнее всего выступает Шекспир:
Как наши сновидения,
Так созданы и мы, и жизни краткой дни,
Объяты сном.
(Буря, IV, 1).
Наконец, Кальдерон был до того проникнут этим воззрением, что пытался выразить его в своей в некотором роде метафизической драме: «Жизнь – это сон».
После этого обилия цитат из поэтов да будет позволено и мне употребить сравнение. Жизнь и сновидения – это страницы одной и той же книги. Связное чтение называется действительной жизнью. А когда приходит к концу обычный срок нашего чтения (день) и наступает время отдыха, мы часто продолжаем еще праздно перелистывать книгу и без порядка и связи раскрываем ее то на одной, то на другой странице, иногда уже читанной, иногда еще неизвестной, но всегда из той же книги. Такая отдельно читаемая страница действительно находится вне связи с последовательным чтением, но из-за этого она не особенно уступает ему: ведь и цельное последовательное чтение также начинается и кончается внезапно, почему и в нем надо видеть отдельную страницу, но только большого размера.
Итак, хотя отдельные сновидения отличаются от действительной жизни тем, что они не входят в постоянно пронизывающую ее общую связь опыта, и хотя пробуждение указывает на эту разницу, тем не менее именно самая связь опыта принадлежит действительной жизни как ее форма, и сновидение в свою очередь противопоставляет ей свою собственную внутреннюю связь. И если в оценке их встать на точку зрения за пределами жизни и сновидения, то мы не найдем в их существе определенного различия и должны будем вместе с поэтами признать, что жизнь – это долгое сновидение.
Если от этого вполне самостоятельного эмпирического источника вопроса о реальности внешнего мира мы вернемся к его умозрительному происхождению, то хотя мы и нашли, что оно заключено, во-первых, в неправильном применении закона основания, а именно между субъектом и объектом, во-вторых, в смешении его форм, а именно в перенесении закона основы познания в ту область, где царит закон основы становления, – тем не менее вопрос этот едва ли так настоятельно мог бы занимать философов, если бы он был лишен всякого истинного содержания и если бы в его существе не лежала верная мысль как его подлинный источник, о котором следовало бы предположить, что, лишь вступив в область рефлексии в поисках своего выражения, он получил такие превратные, непонятные самим себе формы и вопросы. Так, по моему мнению, обстоит дело, и как чистое выражение того внутреннего смысла проблемы, которого она не могла найти, я предлагаю следующее. Что представляет собой этот наглядный мир, помимо того, что он есть мое представление? Сознаваемый мною лишь в одном виде, а именно как представление, не есть ли он, подобно моему телу, осознаваемому мною двояко, не есть ли он, с одной стороны, представление, а с другой – воля! Разъяснение этого вопроса и утвердительный ответ на него составят содержание второй книги, а выводы из него займут остальную часть этого сочинения.
6
Пока же, в этой первой книге, мы рассматриваем все только как представление, как объект для субъекта, и подобно всем другим реальным объектам и наше собственное тело, из которого у каждого человека исходит созерцание мира, мы рассматриваем только со стороны познаваемости, так что оно для нас есть только представление. Правда, сознание каждого, уже сопротивлявшееся провозглашению других объектов одними представлениями, еще сильнее противоборствует теперь, когда собственное тело должно быть признано всего лишь представлением. Это объясняется тем, что каждому вещь в себе известна непосредственно, поскольку она является его собственным телом, поскольку же она объективируется в других предметах созерцания, она известна каждому лишь опосредствованно. Однако ход нашего исследования делает эту абстракцию, этот односторонний метод, это насильственное разлучение того, что по существу своему едино, – необходимыми, и потому такое сопротивление следует до поры до времени подавить и успокоить ожиданием, что дальнейшее восполнит односторонность нынешних размышлений и приведет к полному познанию сущности мира.
Итак, тело для нас является здесь непосредственным объектом, т. е. тем представлением, которое служит для субъекта исходной точкой познания, ибо оно со своими непосредственно познаваемыми изменениями предшествует применению закона причинности и таким образом доставляет ему первоначальный материал. Все существо материи состоит, как было показано, в ее деятельности. Но действие и причина существуют только для рассудка, который есть не что иное, как их субъективный коррелат. Однако рассудок никогда не смог бы найти себе применения, если бы не было чего-то другого, откуда он исходит. И это другое – простое чувственное ощущение, то непосредственное сознание изменений тела, в силу которого последнее предстает как непосредственный объект. Поэтому для познания наглядного мира мы находим два условия. Первое, если мы выразим его объективно, это способность тел действовать друг на друга, вызывать друг в друге изменения, – без этого общего свойства всех тел, даже и при наличии чувствительности животных тел, созерцание было бы невозможно; если же это первое условие выразить субъективно, то оно гласит: только рассудок и делает возможным созерцание, ибо лишь из рассудка вытекает и лишь для него имеет значение закон причинности, возможность действия и причины, и лишь для него и через него существует поэтому наглядный мир. Второе условие – это чувствительность животных тел, или свойство некоторых тел быть непосредственно объектами субъекта. Простые изменения, которые испытывают органы чувств в силу их специфической приспособленности к внешним воздействиям, можно, пожалуй, называть уже представлениями, поскольку такие воздействия не пробуждают ни боли, ни удовольствия, т. е. не имеют непосредственного значения для воли и все-таки воспринимаются, существуя, следовательно, только для познания; в этом смысле я и говорю, что тело непосредственно познаваемо, что оно – непосредственный объект. Но понятие объект здесь нельзя принимать в его подлинном значении, ибо при помощи этого непосредственного познания тела, – познания, которое предшествует применению рассудка и является простым чувственным ощущением, – не самое тело собственно выступает объектом, а лишь воздействующие на него тела, так как всякое познание объекта в собственном смысле, т. е. пространственно-наглядного представления, существует только через рассудок и для него, – следовательно, не до его применения, а после. Поэтому тело как собственно объект, т. е. как наглядное представление в пространстве, подобно всем другим объектам познается лишь косвенно, через применение закона причинности к воздействию одной части тела на другую, – познается, например, тем, что глаз его видит, рука его осязает. Следовательно, одно общее самочувствие не знакомит нас с формой своего собственного тела, а только через познание, только в представлении, т. е. только в мозгу впервые является нам собственное тело как протяженное, расчлененное, органическое. Слепорожденный приобретает это представление лишь постепенно, с помощью чувственных данных, которыми его снабжает осязание; безрукий слепец никогда не смог бы узнать формы своего тела или, в крайнем случае, должен был бы постепенно заключать о ней и конструировать ее из воздействия на него других тел. Вот с каким ограничением надо понимать наши слова, что тело – это непосредственно объект.
В остальном, согласно сказанному, все животные тела являются непосредственными объектами, т. е. исходными точками созерцания мира для всепознающего и поэтому никогда не познаваемого объекта. Познание, вместе с обусловленным им движением по мотивам, составляет поэтому истинный характер животности, подобно тому как движение по раздражителям составляет характер растений; неорганическое же не имеет другого движения, кроме вызванного действительными причинами, в самом узком смысле этого слова. Все это я подробно выяснил в своем трактате о законе основания (20), в первой статье «Двух основных проблем этики» (III) и в сочинении «О зрении и цвете» (1), – туда я и отсылаю.
Из сказанного выходит, что все животные, даже самые несовершенные, обладают рассудком, ибо все они познают объекты, и это познание как мотив определяет их движение. Рассудок у всех животных и всех людей один и тот же, всюду имеет одну и ту же простую форму – познание причинности, переход от действия к причине и от причины к действию, и больше ничего. Но степени его остроты и пределы его познавательной сферы крайне разнообразны и расположены по многоразличным ступеням, начиная с низшей, где познается причинное отношение между непосредственным объектом и косвенным, т. е. где интеллекта хватает только на то, чтобы от воздействия, испытываемого телом, переходить к его причине и созерцать его как объект в пространстве, – и кончая высшими степенями познания причинной связи между одними косвенными объектами, которое доходит до проникновения в самые сложные сочетания причин и действий в природе. Ибо и это высокое познание тоже относится еще к рассудку, а не к разуму, абстрактные понятия которого могут служить только для восприятия, закрепления и объединения непосредственно понятого рассудком, но вовсе не могут создать самого понимания. Всякая сила и всякий закон природы, каждый случай, в котором они проявляются, сначала должны быть непосредственно познаны рассудком, интуитивно восприняты, прежде чем in abstracto войти для разума в рефлективное сознание. Интуитивным, непосредственным восприятием рассудка было открытие Р. Гуком закона тяготения и подведение под этот единый закон множества великих явлений, что впоследствии подтвердилось вычислениями Ньютона; тем же было и открытие Лавуазье кислорода и его важной роли в природе; тем же было и открытие Гете происхождения физических цветов. Все эти открытия есть не что иное, как правильный непосредственный переход от действия к причине, который вскоре влечет за собою познание тождества силы природы, проявляющейся во всех причинах той же категории. И постижение всего этого есть отличающееся только степенью проявление той же единственной функции рассудка, посредством которой и животное созерцает причину, действующую на его тело, как объект в пространстве. Вот почему и все эти великие открытия, подобно созерцанию и всем проявлениям рассудка, тоже представляют собой непосредственное усмотрение и как таковое суть создания минуты, appercu, догадки, а не продукт длинной цепи абстрактных умозаключений; последние же служат для того, чтобы фиксировать непосредственно познанное рассудком в абстрактных понятиях разума, т. е. уяснять его, делать его пригодным для истолкования другим.
Острота рассудка в восприятии причинных отношений между косвенно познаваемыми объектами находит себе применение не только в естествознании (всеми своими открытиями обязанном ей), но и в практической жизни, где она называется умом, – между тем как в первом ее приложении уместнее называть ее остроумием, проницательностью, прозорливостью. В точном смысле слова ум обозначает исключительно рассудок, состоящий на службе у воли. Впрочем, нельзя провести определенных границ между этими понятиями, ибо перед нами все та же функция того же рассудка, уже действующего во всяком животном при созерцании объектов в пространстве; на высших ступенях своей силы эта функция то правильно находит в явлениях природы по данному действию неизвестную причину и таким образом дает разуму материал для установления всеобщих правил как законов природы; то, приспособляя известные причины к целесообразным действиям, изобретает сложные и остроумные машины; то, обращаясь к мотивации, прозревает тонкие интриги и махинации и расстраивает их, или же точно распределяет людей соответственно тем мотивам, которым подчиняется всякий из них, и потом по собственному желанию приводит их в движение, как машины посредством рычагов и колес, и направляет их к определенным целям.
Недостаток рассудка в собственном смысле называется глупостью; это – именно тупость в применении причинного закона, неспособность к непосредственному восприятию сочетаний между причиной и действием, мотивом и поступком. Глупец не видит связи естественных явлений – ни там, где они представлены сами себе, ни там, где ими планомерно пользуются, т. е. в машинах: вот почему он охотно верит в колдовство и чудеса. Глупец не замечает, что отдельные лица, на вид независимые друг от друга, в действительности поступают по предварительному уговору между собой; вот почему его легко мистифицировать и интриговать – он не замечает скрытых мотивов в предлагаемых ему советах, в высказываемых суждениях и т. п. Всегда недостает ему одного: остроты, быстроты, легкости в применении причинного закона, т. е. недостает силы рассудка. Величайший и в рассматриваемом смысле самый поучительный пример глупости, какой мне приходилось когда-либо видеть, представлял совершенно тупоумный мальчик, лет одиннадцати, в доме умалишенных. Разум у него был, ибо он говорил и понимал; но по рассудку он стоял ниже многих животных. Когда бы я ни приходил, он рассматривал висевшее у меня на шее стеклышко-очко, в котором отражались комнатные окна и вершины поднимавшихся за ними деревьев: это зрелище приводило его каждый раз в большое удивление и восторг, и он не уставал изумляться ему, – он не понимал этой непосредственной причинности отражения.
Как у разных людей степень остроты рассудка бывает очень неодинакова, так еще больше различается она между разными породами животных. Однако у всех, даже наиболее близких к растениям, рассудка хватает настолько, сколько надо для перехода от действия в непосредственном объекте к опосредованному как причине, т. е. к созерцанию, восприятию объекта; ибо последнее именно и делает их животными, так как оно дает им возможность двигаться по мотивам и потому отыскивать или, по крайней мере, схватывать пищу, – между тем как растения двигаются только по раздражителям и должны либо дождаться их непосредственного воздействия, либо изнемочь, искать же или улавливать их они не в состоянии. Мы удивляемся большой смышлености самых совершенных животных, – например, собаки, слона, обезьяны, ум которой столь мастерски описал Бюффон. По этим наиболее умным животным мы можем с достаточной точностью измерить, насколько силен рассудок без помощи разума, т. е. без отвлеченного познания в понятиях: мы не можем так хорошо узнать это на себе самих, ибо в нас рассудок и разум всегда поддерживают друг друга. Вот почему проявления рассудка у животных часто оказываются то выше нашего ожидания, то ниже его. С одной стороны, нас поражает смышленость того слона, который, перейдя уже множество мостов во время путешествия по Европе, однажды отказался вступить на мост, показавшийся ему слишком неустойчивым для его тяжести, хотя и видел, как, по обыкновению, проходил через него остальной кортеж людей и лошадей. С другой стороны, нас удивляет, что умные орангутанги не подкладывают дров, чтобы поддержать найденный ими костер, у которого они греются; последнее доказывает, что здесь требуется уже такая сообразительность, которая невозможна без абстрактных понятий. Познание причины и действия как общая операция рассудка даже а priori присуще животным; это вполне видно уже из того, что для них, как и для нас, оно служит предварительным условием всякого наглядного познания внешнего мира. Если же угодно еще одно подтверждение этого, то стоит только припомнить, что, например, даже щенок при всем своем желании не решается спрыгнуть со стола, ибо он предвидит действие тяжести своего тела, хотя и не имеет соответственного данному случаю опыта. Однако при обсуждении рассудка животных мы должны остерегаться приписывать ему то, что служит проявлением инстинкта, – способности, вполне отличающейся по своему действию как от рассудка, так и от разума, но часто весьма похожей на соединенную деятельность обоих. Впрочем, разъяснение этого вопроса здесь неуместно, оно будет сделано при разборе гармонии, или так называемой телеологии природы, во второй книге; ему же всецело посвящена и 27-я глава дополнений.
Недостаток рассудка мы назвали глупостью; позже мы увидим, что недостаток применения разума на практике – это наивность; недостаток способности суждения – ограниченность; наконец, частичный или полный недостаток памяти – тупоумие. Но о каждом будет сказано в своем месте.
Правильно познанное разумом – истина, т. е. абстрактное суждение с достаточным основанием (см. «О четверояком корне закона основания», 29 и сл.); правильно познанное рассудком – реальность, т. е. правильный переход от действия в непосредственном объекте к его причине. Истине противоположно заблуждение как обман разума; реальности противоположна видимость как обман рассудка. Более подробное разъяснение всего этого можно найти в первой главе моего трактата о зрении и цветах.
Видимость возникает тогда, когда одно и то же действие могло быть вызвано двумя совершенно различными причинами, из которых одна действует очень часто, а другая – редко: рассудок, не имея данных для распознания, какая из двух причин здесь действует (ибо действие совсем одинаково), всегда предполагает обычную причину, и так как он действует не рефлективно и не дискурсивно, но прямо и непосредственно, то эта ложная причина предстоит нам как созерцаемый объект, каковой и есть ложная видимость. Как этим путем возникает двойное видение и двойное осязание, если органы чувств приведены в ненормальное положение, – это я выяснил в указанном месте и тем самым дал неопровержимое доказательство того, что созерцание существует только через рассудок и для рассудка. Другие примеры такого умственного обмана, или видимости, – это погруженная в воду палка, которая кажется переломленной; изображения в сферических зеркалах, при выпуклой поверхности являющиеся несколько позади нее, а при вогнутой значительно впереди. Сюда же относится мнимо больший объем луны на горизонте, чем в зените, что вовсе не есть оптическое явление, ибо, как показывает микрометр, глаз воспринимает луну в зените даже под несколько большим зрительным углом, чем на горизонте, но рассудок, который считает причиной ослабления лунного и звездного блеска на горизонте большую отдаленность луны и всех звезд, измеряя ее, как и земные предметы, воздушной перспективой, принимает поэтому луну на горизонте гораздо большей, чем в зените, и самый свод небесный горизонта – более раздвинутым, т. е. сплющенным. Это же неправильное измерение по воздушной перспективе заставляет нас считать очень высокие горы, вершина которых, только и видная нам, лежит в чистом, прозрачном воздухе, – считать их более близкими, чем это есть в действительности, в ущерб их высоте; таков Монблан, если смотреть на него из Салланша.
И все эти обманчивые явления стоят перед нами в нашем непосредственном созерцании, которого нельзя устранить никаким рассуждением разума. Последнее может предохранить только от заблуждения, т. е. от суждения недостаточно обоснованного, противопоставляя ему другое, истинное: например, разум может in abstracto признавать, что не большая отдаленность, а большая плотность воздуха на горизонте служит причиной ослабления лунного и звездного блеска, но видимость во всех приведенных случаях остается непоколебимой вопреки всякому абстрактному познанию, ибо рассудок полностью и резко отделен от разума как от познавательной способности, привходящей только у человека, да и у него рассудок сам по себе не разумен. Разум всегда может только знать, рассудку одному, независимо от влияния разума, остается только созерцание.
7
По поводу рассмотренного до сих пор надо еще заметить следующее. В своем анализе мы исходили не из объекта и не из субъекта, а из представления, которое уже содержит в себе и предполагает их оба, так как распадение на объект и субъект является его первой, самой общей и существенной формой. Поэтому ее мы рассмотрели как таковую прежде всего, а затем (сославшись в главном на вступительный трактат) подвергли разбору и другие, ей подчиненные формы – время, пространство и причинность, которые свойственны только объекту; но так как они существенны для него как такового, а объект, в свою очередь, существен для субъекта как такового, то они могут быть найдены и из субъекта, т. е. познаны а priori, и в этом смысле на них можно смотреть как на общую границу обоих. Все же они могут быть сведены к общему выражению – закону основания, как я подробно показал в своем вступительном трактате.
Такой прием совершенно отличает нашу точку зрения от всех до сих пор предложенных философем, которые все исходили либо из объекта, либо из субъекта, и таким образом старались объяснить один из другого, опираясь при этом на закон основания; мы же, наоборот, освобождаем от власти последнего отношение между объектом и субъектом, отдавая во власть этого закона только объект. Могут, пожалуй, признать, что указанной альтернативы избежала возникшая в наши дни и получившая известность философия тождества, так как она принимает своей подлинной исходной точкой не объект и не субъект, а нечто третье – познаваемый разумным созерцанием абсолют, который не есть ни объект, ни субъект, но безразличие обоих. Хотя я, ввиду полного отсутствия у меня всякого «созерцания разумом», не дерзаю рассуждать об этом почтенном безразличии и абсолюте, все же, опираясь только на доступные всем, в том числе и нам, профанам, протоколы «созерцающих разумом», я должен заметить, что и эта философия не может быть исключена из упомянутой альтернативы двух ошибок. Ибо, несмотря на то что тождество субъекта и объекта не мыслится в ней, а интеллектуально созерцается и постигается через погружение в него, она не избегает обеих этих ошибок, наоборот, скорее соединяет в себе их обе, так как сама распадается на две дисциплины, а именно, во-первых, трансцендентальный идеализм, каковым является учение Фихте о Я и который, по закону основания, выводит или извлекает объект из субъекта, и, во-вторых, на натурфилософию, которая таким же образом из объекта постепенно делает субъект с помощью метода, называемого конструкцией (мне о нем очень мало известно, но ясно все же, что он представляет собой поступательное движение по закону основания в ряде форм). От глубокой мудрости, которая таится в той «конструкции», я заранее отрекаюсь, потому что для меня, совершенно лишенного «созерцания разумом», все учения, предполагающие его, должны быть книгой за семью печатями. И действительно, подобные глубокомысленные теории – странно сказать – производят на меня такое впечатление, будто я слышу только ужасное и крайне скучное пустозвонство.
Хотя системы, исходящие из объекта, всегда имеют своей проблемой весь наглядный мир и его строй, но объект, который они выбирают исходной точкой, не всегда является этим миром или его основным элементом – материей. Скорее эти системы поддаются делению согласно четырем классам возможных объектов, установленным в моем вступительном трактате. Так, можно сказать, что первый из этих классов, или реальный мир, был исходным пунктом для Фалеса и ионийцев, Демокрита, Эпикура, Джордано Бруно и французских материалистов. Из второго класса, или абстрактного понятия, исходили Спиноза (именно из чисто абстрактного и существующего лишь в своей дефиниции понятия субстанции), а раньше – элеаты. Из третьего класса, т. е. из времени и, следовательно, чисел, исходили пифагорейцы и китайская философия в «И-цзин». Наконец, четвертый класс, т. е. волевой акт, мотивированный познанием, был исходным пунктом схоластиков, учивших о творении из ничего – волевым актом внемирного, личного существа.
Наиболее последовательно и далеко можно провести метод объекта, если он выступает в виде настоящего материализма. Последний предполагает материю, а вместе с нею и время и пространство несомненно существующими и перепрыгивает через отношение к субъекту, тогда как в этом отношении ведь все это только и существует. Он избирает, далее, путеводной нитью для своего поступательного движения закон причинности, считая его самодовлеющим порядком вещей, veritas aeterna[13], перепрыгивая таким образом через рассудок, в котором и для которого только и существует причинность. Затем он пытается найти первичное, простейшее состояние материи и развить из него все другие, восходя от чистого механизма к химизму, к полярности, растительности, животности; и если бы ему это удалось, то последним звеном цепи оказалась бы животная чувствительность, – познание, которое явилось бы лишь простой модификацией материи, ее состоянием, вызванным причинностью. И вот если бы мы последовали за материализмом наглядными представлениями, то, достигнув вместе с ним его вершины, мы почувствовали бы внезапный порыв неудержимого олимпийского смеха, так как, словно пробужденные ото сна, заметили бы вдруг, что его последний, с таким трудом достигнутый результат – познание – предполагался как неизбежное условие уже в первой исходной точке, чистой материи, и хотя мы с ним воображали, что мыслим материю, но на самом деле разумели не что иное, как субъект, представляющий материю, глаз, который ее видит, руку которая ее осязает, рассудок, который ее познает. Таким образом, неожиданно разверзлось бы огромное petitio principii[14], ибо последнее звено вдруг оказалось бы тем опорным пунктом, на котором висело уже первое, и цепь обратилась бы в круг, а материалист уподобился бы барону Мюнхгаузену, который, плавая верхом в воде, обхватывает ногами свою лошадь и вытягивает себя самого за собственную косичку, выбившуюся наперед. Поэтому коренная нелепость материализма состоит в том, что он, исходя из объективного, принимает за последний объясняющий принцип объективное же, – будет ли это материя in abstracto, лишь как мыслимая, или материя, уже вступившая в форму, эмпирически данная, т. е. вещество, например химические элементы с их ближайшими соединениями.
Все это он принимает за существующее само по себе и абсолютно, чтобы вывести отсюда и органическую природу, и, наконец, познающий субъект и, таким образом, вполне объяснить их. Между тем в действительности все объективное уже как таковое многообразно обусловлено познающим субъектом, формами его познания, имея их своей предпосылкой, и поэтому совершенно исчезает, если устранить мысль о субъекте. Материализм, таким образом, является попыткой объяснить непосредственно данное нам из данного косвенно. Все объективное, протяженное, действующее, словом – все материальное, которое материализм считает настолько прочным фундаментом своих объяснений, что ссылка на него (в особенности если она сводится в конце концов к толчку и противодействию) не оставляет в его глазах желать ничего другого, – все это, говорю я, представляет собой только в высшей степени косвенно и условно данное и потому только относительно существующее. Ибо оно прошло через механику и фабрикацию мозга и оттого вошло в ее формы – время, пространство и причинность, лишь благодаря которым оно и является как протяженное в пространстве и как действующее во времени. Из такого данного материализм хочет объяснить даже непосредственно данное: представление (где все это содержится) и, в конце концов, самую волю, между тем как на самом деле, наоборот, именно из воли надо объяснять все те основные силы, которые обнаруживаются по путеводной нити причинности и потому закономерны. Утверждению, что познание есть модификация материи, с одинаковым правом всегда противопоставляется обратное утверждение, что всякая материя – это только модификация познания субъекта как его представление. Тем не менее, цель и идеал всякого естествознания в основе своей – это вполне проведенный материализм. То, что мы признаем здесь его очевидно невозможным, подтверждается другой истиной, которая выяснится в дальнейшем ходе исследования. Она гласит, что ни одна наука в подлинном смысле (я разумею под этим систематическое познание, руководимое законом основания) никогда не может достигнуть конечной цели и дать вполне удовлетворительного объяснения, ибо она никогда не постигает внутреннего существа мира, никогда не выходит за пределы представления и в сущности знакомит только с взаимоотношениями одного представления к другому.
11
См.: О четверояком корне закона достаточного основания, 22.
12
«Изумительно в некоторых случаях свойство слов, и обычай древней речи отмечает иное крайне выразительными знаками» (Сенека, письмо 81).
13
вечной истиной (лат.).
14
предвосхищение основания (лат.).