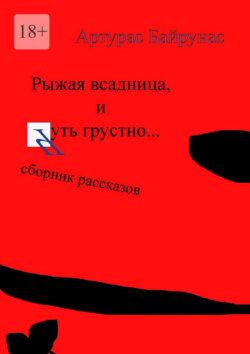Читать книгу Рыжая всадница, и Чуть грустно… - Артурас Байрунас - Страница 2
ОглавлениеПушкин и джаз
Александр Сергеевич, председатель приёмной комиссии и, заодно, ректор консерватории, страдал от духоты и тяжести в груди. Сердце… – думал он с тоской. И с не меньшей тоской глядел он на своего единственного друга Сержа. Который был и единственным, кто остался с ним в приёмном классе в этот час перерыва.
Серж маленький, худенький и лысеющий, больше известный среди студентов и коллег как «тишайший выпивоха», сидел, опираясь локтями на стол. И все ниже и ниже склонял свою белёсую голову.
«Наклюкался», незлобно и устало заметил Александр Сергеевич.
Он был уже под пятьдесят. Грузный, много курил и в последнее, особенно в это «приёмное» время мучился от тоски и скуки. Когда-то, лет пятнадцать-двадцать назад они бацали джаз, так бацали… Он все и жил этим воспоминанием, словно это кончилось вчера.
Серж давно уже не был музыкантом. Временами пальцы у него дёргались так, что его гордость – ручка с золотым пером плюхалась и плюхалась на пол, пока он разводил теорию джаза. А теоретик это был, что надо. Философ от Бога, эрудит. Не пропил. За теорию и перо золотое получил.
В коридоре раздался смешок. Александр Сергеевич отвлёкся в приоткрытую дверь. Там вовсю суетился Аркаша – «молодой» профессор.
С ненавистью и завистью глядел ректор, как этот новоиспечённый лепит очередную абитуриентку. Этот гад всех любовниц увёл у их крохотного мужского педсостава, не оставив без внимания и жён. Даже его секретаршу Катю, которую он сам полгода водил по всем зачуханным и пьяным кафе их областного городка. А этот за один час. За один час!
Александру Сергеевичу захотелось встать, распахнуть дверь и с разбегу зафутболить этому профессору по мордасам. Сердце не замедлило откликнуться. Вот-вот рассыпится, как песочный пирог. Хоть плачь!
Ректор застонал. Лильку бы сейчас! Этого бессменного зама. Она бы позаботилась! Да отпустил её, молодожёнку, в свадебное, в Грецию. Курам на смех, на десять лет моложе мужа взяла. Пацан, студент. Бросит! Лильку бы!
Александр Сергеевич, изнывая от боли и необъяснимой тоски, оглядел пустые столы, выставленные в ряд, через весь зал.
– Словно на пьянку грандиозус готовятся… комиссия, – усмехнулся ректор, – шестёрки…
Боль становилась невыносимой.
– Воды! Воды! – отчаянно зашептал Сергеич (так называл его в редкие минуты вдохновения Серж).
Не в силах подняться с места, он стянул галстук, рванул рубашку… По столу зацокали пуговицы, со стола на пол…
Сергеич потянулся рукой в сторону окна и, в надежде на прохладу, как бы позвал вовнутрь хоть немного свежести. Но всюду стояла пыль, духота и скука.
И так ясно, кого примем. Не надо было этого часа на обсуждение. Обсуждение чего? Глупость. Ясно и так. Все свои, да пару с улицы, и те свои. Скука. Какая же скука!
Внезапно стало что-то меняться в этом мире. Над зданием повисла тяжёлая черная туча. С ней пришла и прохлада. Сначала по тополям за окном, затем и по спине ректора. Угадывался ливень. И в сердце вошла тишина. Впервые за эту прожаренную неделю пришли в душу просветление и лёгкость.
В приоткрытую дверь просунулась коричневая голова. Голова молодого негра.
– Комиссия? – спросила голова по-русски, с большим акцентом.
Ректор молча смотрел на эту голову. Он устал от сердца, от пыли, от жары. Не чувствовал ничего, кроме скуки. Он верил, что уже ничто не в силах взволновать его в этом мире, по крайней мере, сегодня. И тем более эта стриженая голова. Александр Сергеевич глядел на неё без всякой мысли. Единственным его желанием было, чтобы его оставили в покое хотя бы на этот проклятый час. Он сделал едва заметный знак рукой, означающий что-то вроде: иди-ка ты, душа моя, куда подальше…
Голова по всей видимости не очень была знакома с русской неофициальной коммуникацией и вошла в класс всем телом. С ним ввалился и сквозняк. Дверь отлетела на всю свою широту, глухо стукнув о стену.
В открывшемся обзоре обозначился Аркаша, во всей своей молодецкой удали: с подтянутым задом и двумя по лошадиному гогочущими абитуриентками.
В нестерпимом приступе ярости, со всей мочи Сергеич хлопнул по столу кулаком, и срываясь на хрип, заорал:
– Дверь закрой, ты!
Хотел он добавить ещё и про черный цвет гостя, да сдержался. Вошедший только растерянно улыбнулся. И быстро-быстро, по-воровски, не на всю ступню, в два прыжка, закрыл дверь.
Наступила пауза. Тоненький, чёрненький, да в тёмном костюмчике и в непонятного цвета сероватых туфельках годов сороковых малазийского происхождения, этот сын Африки продолжал глуповато улыбаться.
– Чего надо? – совершенно без всякой грубости спросил ректор. В голосе слышалась только вековая скука и больше ничего.
– Я на джаз, – вежливо ответил парень.
Александр Сергеевич ещё раз оглядел гостя.
– Театральное через две улицы, – без какой-либо иронии произнёс ректор, даже с некоторым сочувствием.
– Я на джаз.
Сергеичу захотелось раздавить этого черного таракашку. Раздавить и физически, и морально.
– Ну, давай, сджазируй что-нибудь.
Африка запела. Запела странно, звонко, с завываниями, что-то на своём, с притопами. В общем, полное тумбо-юмбо.
Ректор дослушал до конца. Он решил очень и очень испортить настроение этому самородку.
– Всё, – мягко спросил Александр Сергеевич, – больше ничем не порадуешь?
– Я барабаны ещё знаю и вот это, – указал парень на белый рояль.
Инструменты были все старые и, честно говоря, не очень настроенные – всем лень. Клавиши, ударники, сакс… – все на свалку бы. Отбирали в классы ударника и сакса. Да на ударник никто ни шёл, а на сакс приходили со своими.
– Давай, давай, – повеселел Сергеич, – бацай. Только воды дай, душа моя. На раковине – стаканчик.
Африка очень тщательно прополоскал стакан, оглядел его на свет. Наливая воды, дал ей некоторое время сбежать и с какой-то торжественностью поставил эту, наконец отмытую, ёмкость с водой перед ректором.
– А ты кто? Как зовут? – спросил Сергеич, польщённый таким вниманием.
– Я Пушкин, – с какой-то чересчур готовностью прозвучал ответ этого новоявленного гения.
– Ну да … – через паузу произнёс ректор, – я Лермонтов. А может в театральный?
– Я на джаз!
Правнук что ли, думал Александр Сергеевич. Но ему стало впервые за весь день, нет, за неделю или даже за весь месяц не скучно.
– Пушкин… Пушкин… – повторял он про себя. – Они, что все там Пушкины…
Парень сел за рояль. Снова поднялся, подтянул ударники. Опять уселся. Мягко опустил руки на клавиши и резко взял первые аккорды.
Скрябиновское… Опять классика. Опять классика… – без интереса отметил ректор. Развернулся в окно. Улицу покрыл ливень.
А Лилька сейчас на солнышке, – думал он с тоской. – Не надо было ей давать отпуск. Сам бы погулял с ней в Крыму.
Рояль разошёлся. Не без таланта Африка, не без таланта. Но не джаз, не джаз. Умер джаз, Серж, умер, – скучал Сергеич.
Но звуки начали ломаться. Ломалась гармония. Смешные раскованные переборы и аккорды ни с того, ни с сего обстреляли начальную тему. Почти какофония. И, наконец, произошёл взрыв. Стройное классическое звучание было отброшено в сторону и там забыто.
Сергеич во все уши и ноздри втягивал это новое. Весёлым серебром рассыпалось то новое, карнавальным серпантином строчило по воздуху.
– Джаз! – расхохотался ректор, – да это джаз! Серёга, мы с тобой такого никогда не бацали. Этот негритоса импровизирует. Африка сочиняет! Давай, давай, душа моя, – то вслух, то почти про себя шептал он.
Итак, ему захотелось усесться рядом, да в четыре руки… Парень как почувствовал. Обернулся и крикнул:
– Бери клавиши! Мне стукать надо.
Сердце Сергеича колотилось, колотилась вся внутренность. Но было не страшно. Было смешно, весело. И по весёлому дрожали руки. Ректор, как солдатик, как мальчишка, вскочил, опрокинул стул и перебежкой – к роялю. Интуитивно подхватил и пошёл, и пошёл разливаться серебром.
А серебро лилось щедро. Александр Сергеевич хохотал во все горло. Африка же вовсю дубасил по барабанам. То вдруг затихал, то дребезжал тарелками. Это был праздник. Праздник музыки.
Сергеич подхватил сакс и задул. Всю тоску свою по жизни, по джазу вдувал в лёгкий металл.
Вот последнее серебро прошелестело с тарелок на клавиши, на пол, закатилось под столы, на подоконники, за окна и смешалось с ливнем.
Нежно, как флейта, закончил и ректор, посреди зала, на коленях. Казалось, замерло всё в радиусе пяти километров. Александр Сергеевич плакал.
Через минуты две он вспомнил про Африку. Тот с восхищением глазел на Сергеича.
– Ну, Африка… ну ты даёшь…, – проговорил сквозь слезы ректор.
– Я завтра идти за решением, хорошо? – осторожно спросил этот юный волшебник джаза.
– Ты что? О чем ты? Какое решение, мой ты дорогой… В Москве такого не бывало. Какая Москва, Нью-Йорк описается шоколадом, душа моя!
– Мне идти надо. Я буду завтра за решением. – Африка начал было вставать.
– Ты че? Совсем, что ли? Да я тебе этим саксофоном по башке, и к батарее привяжу. Ты че?! Сядь, – скомандовал ректор. – Пойдёт он…
Сергеича лихорадило. Он тяжело поднялся с колен. Парнишка стоял, улыбаясь. Но было видно, что он хорошо струхнул.
– Мистер Лермонт… – попытался воззвать к милосердию ректора этот удивительный абитуриент.
– Какой Лермонт? А… Да это так. Брось ты, милый. Это я так. – махнул дружелюбно, совсем по-отечески Сергеич. – Сядем, милый у окна, отдышаться чуток. Понимаешь, я только теперь понял. Джаз – это ведь праздник музыки. Её свобода! Это так же, как ты у них там праздник, Пушкин ты мой. А я думаю, в чем дело? Пушкин, да Пушкин. Так вот, что ты был тогда для них. Радость ты моя серебряная. Ты сиди, сиди… Понимаешь, что жизнь моя была? Ничто, грязь. А теперь всё! Я услышал. «Ныне отпущаеши раба своего…» Но может, и не поздно. Ты сиди, сиди. И они должны услышать…
Сергеич встал, в какой-то прострации оглядел класс. Сердце сжала тоска. Но тоска другая, не утренняя. Скорее это была радость, но радость какая-то трагическая. Словно радость последнего подвига. Как в кинофильме о древнем герое, исполнившим все и умирающем с улыбкой.
Глупость бабья, глупость, мысли вы мои, мыслишки… – улыбнулся Александр Сергеевич. Ещё раз посмотрел он на своё чудо Африки. Со слезами потряс его руки. И насколько позволяли, ослабевшие, от всей этой эмоциональной бури, ноги, ринулся в коридор. Нараспашку, в рваной рубашке, без галстука, заплаканный, разговаривая сам с собой…
По коридорам было шумно. Группами стояли абитуриенты, мамы, родственники. Шлялись без дела педагоги, и ещё не весть кто. Никто ничего не слышал. Все было тоже, как всегда.
– Что же вы, что же… милые, вы мои… – быстро шептал ректор.
Но что или кого он искал, этого Александр Сергеевич не знал и сам. Он проходил из одного коридора в другой. Спускался, поднимался. За ним понемногу стали собираться люди. Наконец, его остановили. Был Аркаша. Он смотрел хоть не без иронии, но с какой-то грустцей.
Что-то человеческое в нём есть, – думал Сергеич.
Его прислонили к стене.
– Серж! Серж… – застонал он. Серёга все слышал! Забыл я про него. Спросите у Сержа. Там Пушкин, ребята, негр. Это джаз… Это джаз, ребята!
Говорить ему было нелегко, нелегко и стоять. Он съехал по стене на корточки. Схватился обеими руками за грудь. Опять застонал. Порвал майку, словно пытаясь что-то из-под неё достать, что закатилось и никак не выходило наружу…
Вокруг все забилось молодёжью. Кто-то смотрел испуганно, в основном девочки. Большинство же глядело равнодушно, может с лёгким недоумением. Где-то кричали скорую. Ректор внимательно оглядел весь полукруг.
– Дети… дети, я слышал! Я расскажу вам… Не будьте безразличными. Горите! Дети, я расскажу вам, расскажу…
Александр Сергеевич снова застонал. Бросил взгляд куда-то влево, сквозь стоящих, опустил руки и затих.
***
Гостья
– Еду. Соскучилась. Сильно. – было короткое сообщение.
Что-то изменить он не смог бы всё равно. Она будет в любом случае. Вполне возможно, ей известно, что его жена собирается обедать дома. Они давние коллеги и подруги.
Да, его любовница нарывалась нарочно. Слишком поздно он понял, что ей надо больше, чем эти свидания.
Он айтишник, кроит программы, но не в последний месяц. В который их встречи стали ежедневными. И это уже напоминало лёгкое безумие.
Она вошла мелодичная, тонкая, с высокой грудью. Уверенно улыбающаяся, с красивым, по-татарски широким лицом.
У него встал сразу – жадно, упруго. Он потянул её за руку, на канапе.
– Нет! – вырвалась она и указала на закрытую дверь соседней комнаты. – Туда!
Это сильная, молодая, и сумасшедше желаемая женщина, смотрела требовательно и с вызовом.
– …Сегодня там!
Пресытиться ею ему не удавалось. Тяга к ней было самым сильным чувством из всех, которые он когда-либо испытывал к женщинам. Он повёл её в спальню, на женину постель, под иконы…
После, одеваясь, она делово, с паузами, проговорила:
– Я не хочу «так» дальше. Даю неделю на сборы, на объяснения с женой.
– Ты же живишь с этим… – хмуро заметил он.
Женщина рассмеялась.
– С этим! Тот провалит. Уже провалил! Ты что меня считаешь шлюхой? Я с двумя не живу.
– А потом также, как он, и я провалю?
– Дурачок, ты будешь мужем законно! Легализация полная! – снова рассмеялась она.
– А как с ней?
– С твоей женой? – совершенно равнодушно уточнила гостья.
– Да. Как я ей скажу! Она же твоя подруга.
Подруга усмехнулась нагло и высокомерно.
Белея от гнева, желая её задушить, мужчина все равно оставался бессильным перед этой жестокой женщиной.
– Я сказала всё. Лучше всю ситуацию объясни своей супруге, милый мой, сам. Со мной разговор будет куда больнее, поверь. И потом я беременна. Так что на этом точка.
Его ухмылка выразила недоверчивую иронию.
– Поберегись, – вдруг тихо и зло проговорила женщина, внимательно оценивая своего любовника. – Рожу расцарапаю. Повторяю, в последний раз, я не шлюха. У тебя неделя.
У дверей, он спросил её:
– Ты меня хоть любишь?
Хрупкая на вид, стальная внутри, смягчившись, гостья легко провела рукой по его лицу, и улыбаясь добавила:
– Ты – моя маленькая домашняя собачка, дурачок, – мой пуделёк. Никто никогда так нежно, так сладко и с такой страстью не трахал меня.
***
Идиот
– И-ди-о-тэ, – проговорила моя жена по слогам из кухни так, чтобы наши две девочки обязательно слышали.
– Идиот, – отчеканила она наконец слитно.
Я знал, в данный момент, она повязывает цветной в полоску кухонный фартук. На это уже выходили дети. Удобно усаживались на маленький и такой же цветной в полоску, как передник жены, диванчик. Который стоял, как раз, напротив моего кресла.
Малышне такая наша беседа доставляла почему-то огромное удовольствие. В это время они бывали очень серьёзны.
– Идиот, – сказала она в третий раз и добавила, – Достоевского читал «Идиот»? Это про тебя.
– Ну-ну, – отвечал я.
На большее я не был способен. Так как к третьему разу всегда чувствовал, что в словах жены какая-то правда есть. В принципе, больше говорить было не о чем. Главное сказано. И потому после третьего раза всегда повисала пауза. Но пауза непродолжительная.
– Лучше бы я вышла замуж за… – начинала она опять. И тут вариантов бывало бесчисленно: от Кольки до Джона. Вежливости ради, я спрашивал:
– Это который?
И жена уходила в долгие и утомительные воспоминания. Всем становилось скучно. Я имею ввиду детей. И наше маленькое собрание расходилось. Я оставался предоставлен самому себе на полчаса, и эти тридцать минут одиночества совершенно угнетали меня. Честное слово, не знал, чем заняться. За тринадцать лет нашей общей крыши, чтоб заполнить это время испробовал тысячу способов. И пришёл к простому выводу – лучше подремать.