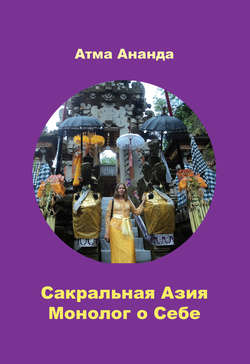Читать книгу Сакральная Азия. Традиции и сюжеты. Монолог о Себе. На острове Бали (сборник) - Атма Ананда - Страница 4
Сакральная Азия. Традиции и сюжеты
Индия-Непал-Тибет
ОглавлениеИндия завершилась для меня летом 2007, целиком проведенным в Лее – столица целого округа. Ладакх разительно отличается от всей остальной страны своей тибетской культурой. Он расположен на высоте 3500 метров, поэтому сюда удобнее всего добираться самолетом. Пустынные горы пересекает зеленая долина верховьев Инда, в которой находится множество поныне действующих монастырей. Крупнейший монастырь Хемис, основанный в XIII веке, насчитывает пятьсот монахов, и многие другие монастыри датируются приблизительно XII веком, производя впечатление не столько древности, сколько вечности. Как известно, в Ладакх ежегодно летом приезжает Далай Лама, и послушать его учение сходятся буддисты со всех окрестностей. Изоляция Ладакха начала нарушаться лишь в последнее время, что отнюдь не радует самих местных жителей. Так, монах Рэв Робдзанг из монастыря Сомкар в Лее посетил с лекциями множество стран, как европейских, так и азиатских, но решительно сожалеет о наплыве туристов в Ладакх. Лютые зимы (до – 40°) дают редкую возможность для уединения и практики не только коренным жителям. Обнаружив в Лее новый корейский храм, я узнала историю его создания: некий корейский монах построил его специально для того, чтобы прилетать туда на зимние месяцы для углубленного ретрита, что показательно.
Непал исторически служил более прямой связью Индии и Китая, нежели Индокитай, вот почему мне хотелось бы вернуться к воспоминаниям о своих трех гораздо более ранних поездках в Катманду, первая из которых была еще в 1996 году. Тогда я только получила буддийское прибежище от ламы Чокия Нима Ринпоче, известного в России благодаря Борису Гребенщикову. В Непале с большой очевидностью смешаны индийские и китайские влияния: с одной стороны, здесь отождествляют Будду и Шиву (особенно в Пашупатинатх Мандире), Авалокитешвару и Матсьендранатха, а с другой – в пантеоне прочно занимает место исходно китайская богиня Тара, имя которой я получила при прибежище (Долма Джангкху на тибетском). Отсюда она «снизошла» также в Индию. Передачу на нёндро (четыре предварительных практики) в карма-кагью (тантрическом тибетском буддизме ваджраяны) мне дал десять лет спустя Лама Фунцок, который становится известен в России благодаря Андрею Лаппе. Тогда я сразу же вылетела с индийской визой накануне непальской революции зимой 2006 года, превратившей королевство в республику, однако вернувшись годом позже в 2007 так и не заметила значительных перемен.
Обыск на тибетской границе
Тибет в составе Китая представляется совсем отдельной страной, да и административно имеет статус автономии. Мои наблюдения касаются тибетской культуры в провинциях Юннань и Сычуань, где она, по отзывам старожилов, сохранилась гораздо лучше, чем собственно в провинции Тибет, из-за политики китайских властей. Пропустив при первом посещении священную гору возле Дали, неожиданно я обнаружила в окрестностях Лиджаня несколько крупных монастырей школы карма-кагью в традиции ваджраяны. Хотя принадлежность к данной школе для меня немаловажна, я никак не предполагала найти «живую» преемственность в Китае. Благодаря переводу на китайский практикующей американки Молли Рилей, мне довелось лично пообщаться с ваджра-мастером Гонгсангом Вангдуном в храме Жиюн, который служит также резиденцией верховному ламе школы карма-кагью во всем Китае. После визита в другой монастырь карма-кагью возле Лиджаня, мое намерение посетить Тибет стало неудержимым. Проведя в Тибете более трех лет, Молли помогла составить маршрут по лучше всего сохранившимся тибетским городам, однако мне удалось посетить всего несколько из них, включая Шангрилу и Литанг. Затем мое путешествие было внезапно прервано вторжением китайских войск, направшихся на подавление протеста в Лхасе. Отчасти мне довелось стать невольным свидетелем их противостояния.
Несмотря на раннюю весну, когда в высокогорье еще лежит снег, делая часть дорог совсем непроходимыми, я выехала из Лиджаня прежде всего в Шангрилу – мистическую страну на границе трех провинций, за которую долго боролись Индия и Китай. И если сам старый город сохранял уклад малых китайских народностей, то раскинувшийся неподалеку монастырь (тоже школы карма-кагью) окружали уже традиционные тибетские поселения. Все казалось родным и узнаваемым. Долгая медитация в огромном каменном храме, погруженном в полумрак с мерцанием масляных лампад, нарушалась лишь порывами ветра через дверь с видом на белые горы. Последний раз зайдя в интернет, я заметила сообщение в новостях, что в Лхасе произошли беспорядки, что тогда показалось чем-то далеким и несущественным. Дивная дорога в Ксьянченг посреди величественных гор, вечернее бдение в полуразвалинах небольшого монастыря, ночлег в уютной комнате в доме радушной тибетской семьи. И вдруг утром мне отказались продавать билет на автобус в Даоченг, где находились два монастыря школы карма-кагью, жестами показав, что меня там могут пристрелить.
Ничего не поделаешь, я списала это на активизацию разбойных банд, о которых меня предупреждали перед выездом, и решила направиться прямо на север в Литанг, расположенный на высоте 4200 м. И снова целый день прошел в созерцании ледяного блеска горных склонов. Литанг напоминал «мертвый город», но сначала я направилась прямиком в монастырь на окраине. Как раз шла пуджа, сдабриваемая соленым чаем и постным хлебом, все монахи были в сборе, так что я попала на «будничное празденство», и все казалось возвышенным и безмятежным. Возвращаясь вечером в отель, я недоумевала на пустынные улицы и глухо запертые ворота домов – ни одного открытого магазина, почти нет прохожих на улицах и практически никаких звуков! Вот только перед каким-то мрачным зданием группа серьезных тибетцев с четками в руках, сосредоточенно бормочущих мантры. По счастью, в отеле оказался англоговорящий менеджер, и тогда я все поняла. Мне объяснили, что это поддержка протеста в Лхасе, поэтому оставаться здесь крайне опасно и лучше немедленно уезжать. Я решила не столько совсем уехать, сколько немного спуститься в другой старый город по дороге в противоположную сторону от Лхасы.
Нарисую карту в целом – путь из Литанга, монастырь в котором принадлежал школе гулу, наиболее широко распространенной в тибетском буддизме, «растраивался»: на запад шла дорога в Тибет, перед границей с которым находился город Дзогчен в долине Дзогчен, соответственно с монастырями школы дзогчен, наиболее радикальной школы тибетского буддизма в плане создания «алмазного тела», а не просто сознательного просветления и освобождения. На север или северо-восток шла дорога в Сэру, где в едином пространстве находились монастыри всех школ тибетского буддизма. На восток шла дорога в Ченгду – столицу Сычуаня, которая находится уже за пределами тибетских районов, однако на этом пути расположены Шьянченг и Кандинг, в которых еще представлены монастыри. Выбора не было, ибо автобус шел только в безопасную восточную сторону, и, решив, что ниже напряженность спадет, поначалу я взяла билет в Шьянченг. Но стоило выехать в шесть часов утра, как навстречу начала двигаться военная колонна с красными флагами (машины с прицепами), причем продолжалось это всю дорогу – часами! Я насчитала около сотни машин за полчаса и бросила – думаю, за восемь часов езды прошло не менее тысячи грузовиков, полных вооруженных солдат. Обстановка не разряжалась, и я продлила билет до Кандинга, а когда мы проезжали Шьянгченг, оказалось, что там целая военная база: огромное поле сплошь уставлено машинами.
Кандинг – это самый последний город тибетского района, тоже с монастырем, но сильно перестроенный в современном китайском стиле, и традиционным его невозможно назвать. По приезде мне показалось, что все спокойно, и я взяла билет не на следующее утро, а на другой день, но уже вечером об этом пожалела. Прямо под моими окнами опять часами пошли военные колонны, выглядевшие совершенно зловеще в свете фонарей на фоне серой улицы. Решила благоразумно никуда не соваться, а просто сидеть в отеле: проходят войска, завывают полицейские сирены и вопят в рупоры, у автобусной станции вместо толпы стоит военный наряд, хотя по видимости жизнь идет своим чередом, магазины и офисы работают. Я принялась это снимать «для истории» из окна третьего этажа. Все произошло внезапно: вдруг половина солдат отделилась от наряда и рванула от ворот станции через дорогу к подъезду моего дома. Не успела я сообразить, что это как-то связано со мной, а в дверь уже колотили. Мгновенная мысль, что если я не открою сразу, могут открыть стрельбу, побудила вместо удаления снимков моментально отпереть дверь. Сразу комнату заполонили солдаты с автоматами, и поскольку никто не говорил, да и не собирался говорить по-английски, первые пять минут казалось, что расстреляют без суда и следствия. Однако коль скоро я не оказала сопротивления, поставили автоматчика у двери, военных сменила полиция, тоже говорившия исключительно по-китайски.
Проверив камеру и обнаружив снимки, жестами велели собирать вещи. Прошло полчаса в ожидании на вещах, хозяйка-китаянка принесла всем чаю, полиция беседовала между собой уже по-домашнему, периодически обращаясь с вопросами, но понять друг друга мы не могли. Наконец, они оживились, дверь распахнулась снова, и на пороге появился «главный» в форме и с кинокамерой, который поначалу молча принялся снимать «место происшествия». Прибытие переводчика сразу разрядило ситуацию, особенно когда стало ясно мое российское гражданство. Но настояли на обыске, который провели досконально в течение пяти часов, снимая вещи и меня на видео, и даже мусор из ведра упаковали на экспертизу. Больше всего их напрягло наличие литературы школы карма-кагью, а также множество фотографий тибетских монастырей, однако понять принадлежность к школе было невозможно в силу множества материалов других традиций. Почти к полуночи все завершилось, главный велел удалить снимки военной техники и утром покинуть этот район, также посоветовав ради моей же безопасности ничего больше не снимать по пути. Переводчик извинился и по-товарищески пожал руку на прощание.