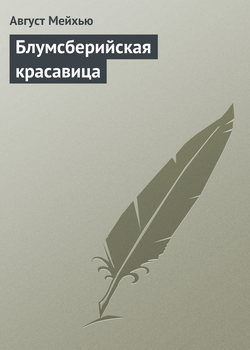Читать книгу Блумсберийская красавица - Август Мейхью - Страница 2
Глава I. Крайности сходятся
ОглавлениеИз всех даровых зрелищ, которыми джентльмен, располагающий малою толикою свободного времени, может пользоваться в Лондон, самое, по моему, жестокое зрелище представляет дюжий, жирноволосый, обрызганный кровью мясник, влачащий за ногу обезумевшую от ужаса овцу и вталкивающий ее в бойню, увешенную свежеободранными овечьими трупами.
Упавшая среди улицы лошадь производит тягостное впечатление; точно также и загнанная собака, точно также и пьяная, едва держащаяся на ногах женщина, несущая ребенка головою вниз; но ничто не поражает меня так болезненно, как вид угнетенной овцы. Я, разумеется, имею пристрастие к нежной, хорошо-приготовленной баранине – зубы у меня великолепнейшие работники по этой части и желудок мой в отличнейшем порядке; но если я увижу, как бедная овечка дергает ногами, отстаивая драгоценную жизнь, и представлю себе, что через несколько часов она будет висеть в мясной лавке – меня искушает желание взять баранью сторону в борьбе, разогнать ленивых мальчишек, которые бесчувственно глазеют и смеются, и, схватив мясника, за его собственную ногу, заставить его немножко подрыгать.
И еще другое любопытное действие производит на меня вид бедного и краткого животного, а именно напоминает мне очень дорогого приятеля, Адольфуса Икля. Это был величайший из мучеников, которым только когда-либо я имел честь быть представленным; это была сама улыбающаяся невинность! и его как овечку роковая судьба оторвала от родимого пастбища живого предала на съедение!
У меня, леди и джентльмены, были свои тяжкие испытания в жизни и они смягчили меня, как толчея смягчает пеньку, и развили во мне искреннее сочувствие к злополучию ближнего. Теперь сердце мое способно чутко отзываться на чужое горе. Если человек, мучимый таким голодом, что может проглотить полбыка как пилюльку, бывал вынужден ограничивать свой обед чашкою кофе, то подобное испытание несколько обучает его быть человеколюбивым в отношении жалкого горемыки, признающегося, что он двое суток не пробовал никакой пищи. Когда около меня шелестят лохмотья и заплаты, бормоча о пенсах, необходимых для приобретение ночного приюта, я живо вспоминаю ту ночь, когда я был выброшен за дверь и должен был протрястись до рассвета на скамейке в парке, в одном фраке и в рубашке с вышитой грудью. Для внушения нам человеколюбивых чувств ничего нет лучше, как малая толика познанного страдание. Я знаю одного джентльмена, который чрезвычайно легко подает милостыню рябым нищим, потому что сам раз чуть не умер от оспы.
Но, Господи владыко! что значат мои мизерные злополучия по поводу истощенных финансов и утраченного кредита, что значат те долгие дни, когда мне нечем было существовать, некого любить и не с кем жить? Зуб, который так мучительно болел во время оно, давно выдернут, боль забыта и я снова могу щелкать орехи с любым веселым молодцом на ярмарке.
Мой короб бедствий и кручины навалился на меня не вдруг, не с разу, а малыми частицами и постепенно. Первая моя беда была самая легкая, из всех меня постигших. Но вообразите вы, коли можете, каково должно быть положение несчастного смертного, на которого внезапно обрушилось ужасное, непоправимое несчастье, который, прожив двадцать-пять восхитительно-безмятежных, блаженных лет, вдруг приходит к заключению, что лучше бы ему не родиться на свет; на чью горемычную беззащитную голову, бесчувственные оскорбления и жестокосердные преследования вдруг сыпанули сокрушающим градом и совершенно ошеломили, придавили и разбили его?
Такова была участь моего уважаемого приятеля, Адольфуса Икля. Он тоже попался в руки мясникам, которые быстро увлекли его в мясной ряд!
Добродушный, кроткий человек, с нежными, голубыми глазами и слабыми лодыжками, но с таким сердцем!
Скверная вещь – быть всегда счастливым. Это заставляет человека жиреть, делает его ленивым, расслабляет мозг. Кручина – великолепнейшее, капитальное средство для отрезвления всего существа и для возбуждение деятельности и бодрости.
Беда, к сожалению, не возвещает, как локомотив, своего приближения свистком и некогда соскочить с рельсов, чтоб вслед затем уснуть где-нибудь в стороне, на розовых листьях. Угрюмая ведьма крадется по следам и бросается на нас в ту минуту, когда мы беспечно идём, напевая песенку; она точно полисмен в партикулярном платье, с невинным зонтиком в руках, но с властительным жезлом и железными браслетами и кармане.
Укрепите себя рядом тихих постоянных бедствий; выдрессируйте себя так, чтобы когда начнется главная потасовка, вы могли принять оглушающие подзатыльники с любезною улыбкою и бодрым видом. Человеку, который вопил от мучительной подагры, стонал от ревматической боли, покажется приятным изменением страдание. Злополучный Адольфус Икль! Великое, сокрушительное бедствие постигло вас в ту самую минуту, как вы рассчитывали быть счастливейшим существом на земле. Злополучный молодой человек!
Я в первый раз был представлен Адольфусу, спустя двенадцать часов после его появления на свет. Он лежал, обернутый в теплую фланель, и сам теплый, как только что испеченная лепешка, и когда сиделка сказала мне, что я могу, если желаю, до него дотронуться, я копнул его как слепого котенка и проговорил: бедненький! Невинные времена, мой друг, блогословенные времена и чуждые всякого коварства и плутовства!
Наши родители были соседями; их поля соприкасались. Мой папаша каждое утро гулял по своему владению в четыреста акров, и на известной границе, у изгороди встречался с папашей Адольфуса, который гулял по своему владению в четыреста акров. Они жали друг другу руки через изгородь, осведомлялись друг у друга о здоровье жен, и затем с облегченным сердцем шли по домам завтракать. Мамаша Адольфуса и моя мамаша посылали друг другу в презент молодые овощи, свежие яйца и модные выкройки. Таким образом, с самой ранней юности я и мученик Адольфус были товарищами.
Между нами существовала та разница, что Адольфус был единственным детищем, а меня судьба наделила пятью братьями. Если Адольфусу не давали желе, то ему стоило только захотеть, и желе являлось, а если я осмеливался скорчить плаксивую мину, мои чувства усмиряли розгою. Все игрушки, в которые мы играли, были собственностью Адольфуса (исключая дрянного лопнувшего мячика, на который он никогда и не глянул), и как скоро ему прискучили игрушечные лошадки, родители приобрели для него настоящего живого пони. Адольфус был счастливейший малый, но он этого не понимал и следственно не мог ценить.
Меня воспитывали иначе, и я очень был рад, когда пришел конец этому воспитанию.
Отец мой был точный, аккуратный, упрямый человек, имевший неудобные для меня убеждения касательно воспитания детей. Он был, разумеется, совершенно прав, проводя свои убеждение в жизнь, но мне от этого приходилось больно, одиноко, – совсем плохо. Я пользуюсь прекрасным здоровьем, но во дни оны, если бы дело было предоставлено мне на выбор, я несомненно предпочел бы не укрепляющие тело, а веселящие дух обращение и содержание. Пятнадцать лет я питался за завтраком гороховой похлебкой, приправленной щепоткой соли, и никогда не лизнул другого пирога или пудинга, кроме мясного. Я полагаю, что мальчика, после шестичасовых упражнений латынью, не мешает поощрить какой-нибудь роскошью, и нахожу, что пуддинг из плодов в этом случае как нельзя более кстати.
То же касательно холодных ванн: оне чрезвычайно полезны, но замораживать в них ребенка до полусмерти, я считаю утрированием. То же относительно хлеба: я не говорю, что непременно надо кормить свежеиспеченным, но давать исключительно черствый, семидневный хлеб, который раскусывается, как пемза и крошится во рту как зола, я считаю тоже утрированием.
Воспитание Адольфуса не было похоже на мое воспитание. Счастливый малый! он обедал с обожавшими его родителями и его угощали, как принца Уэльского. Ему всегда предлагали тот именно кусок, к которому я всей душой тщетно стремился, и если он просил вторую порцию вишневого пирожного, его мамаша приходила в восторг, и восклицала: «милый крошка! какой у него аппетит!» Когда он являлся, разгоряченный беганьем, его так поливали одеколоном, что его приятно было понюхать; когда ночь была холодная, в его спальне разводили такой огонь, что он мог в одном белье танцевать пред камином. Иногда родители его находили, что Адольфусу полезно будет выпить полстакана портвейну и ломтики хлеба с маслом, равно как и поджаренные гренки, всегда были готовы к его услугам. Однако, сколько я знаю, здоровье его от этого ни мало не страдало. Я видал, правда, как он отпускает пояс после обеда, но он делал это не потому, что его схватывали судороги, а потому, что пояс становился немножко у́же и несколько теснил его.
Едва мне минуло шестнадцать лет, я был отправлен на все четыре стороны искать счастия, как лошадь, которую тотчас осёдлывают, как только она в состоянии сдержать седло. Меня всунули в вагон втораго класса, вместе с двумя парами платья и полудюжиною рубашек, и блогословили на битву с жизнью, предоставив мне стать на свои ноги, если смогу, или повалиться, если оплошаю. Находя, что у меня приятная, располагающая наружность, решили на этом основании сделать из меня доктора. Я начал свою докторскую карьеру тем, что покрал все лепешки от кашлю из даровой аптеки; мне в особенности пришлись по вкусу, помню, ромовые, душистые карамельки.
Я уже предавался более серьезным наукам – ходил по больницам и обкуривал новые трубки, изучал анатомию и совершенствовался по части питья пунша – когда мой старый товарищ, Адольфус Икль, прибыл в Лондон. Оба его родители умерли, завещав всё дорогому детищу, и обещав не упускать его из виду, и покровительствовать ему, и беречь его с того света.
Несмотря на это, он впал в совершеннейшее уныние и отчаяние. Мать умерла в его объятиях. Он, плача, говорил мне, что чувствует её последнее дыхание на своей щеке, и даже показал мне местечко, где именно. Никогда, кажется, не бывало такого согласного, друг друга любящаго семейства, и, проведя шесть лет в Лондоне, я с отрадным изумлением замечал подобную нежность и мягкость чувств.
Таким образом, Адольфус Икль, богатый нежными чувствами и звонкою монетой, был брошен в житейский водоворот. Добродетельный молодой человек, однако, не устоял на ногах. Я, со всеми своими испытаниями и неприятностями по части медицины и хирургии, я, который никогда не имел пенни до тех пор, пока случайно не поднял одного на Оксфордской улице – я в конце-концов гораздо успешнее и лучше справился с своими делами. Я могу теперь звонить в свой собственный колокольчик так громко, как мне угодно, могу давать щелчки и толчки своему рассыльному мальчику, когда нахожусь в дурном расположении духа, или куражиться над кухаркой, заставляя ее по нескольку раз в день отчищать медную дощечку на двери – медную дощечку, на которой вырезано изящнейшим образом: «Джон Тодд, лекарь. Прививание оспы бесплатно».
Но теперь не время распространяться о настоящем блогополучии, а надо возвратиться к эпохе голода, холода и всяких бедствий, к той эпохе, когда Адольфус впервые прибыл в Лондон.
Мне стоило несказанных трудов и изворотливости пропитаться, прикрыть кое-как грешное тело и заплатить за квартиру. В те дни я полагал, что невозможно быть несчастным, имея пятьдесят фунтов в неделю. В моих глазах, Адольфус был счастливейшим из смертных. Он жил в изобилии и роскоши, – я же был по уши в долгу, и моя хозяйка вечно следила, не несу ли я, выходя из дому, узелка; она даже бежала за мной вдогонку, если ей представлялось, что карманы у меня подозрительно оттопыривались.
Иногда зависть к другу-Долли доходила у меня чуть не до ненависти; а именно в один сырой день, когда подошва моего левого сапога совсем отказалась служить, и я увидал в его уборной, по крайней-мере, три десятка пар новёхонькой обуви. То же в тот день, когда я два часа провёл, замазывая чернилами побелевшие швы сюртука, а потом был свидетелем, как он отдал своему лакею пару платья, которая привела бы в восхищение весь Мидльсекс и прославила бы меня на веки.
Все за ним ухаживали, никому он не был должен, так что ж мудрёного, что я под час желал быть на месте этого счастливца, я, к которому ежедневно стучалась в дверь хозяйка, настойчиво спрашивая, когда мне угодно будет свести счеты?
Однажды я прихожу к нему (у него были четыре великолепнейшие комнаты, а я, увы! мостился на чердаке!) и застаю его за завтраком (паштет из дичи, ветчина, яйца и у него ни капли апетита, а я ничего не ел с утра, кроме мерзкого, грошового кусочка колбасы!)
– Что, Долли? Еще не завтракал? – крикнул я. – Я, пожалуй, составлю тебе компанию, – прибавил я, направляясь к паштету. – Был на танцевальном вечере? – спросил с полным ртом.
– Да, – ответил он. – Я приехал от леди Лобстервиль в пять часов утра. Не хотите ли шэрри?
Человек, который рад-радехонек пиву и позволяет себе вино только в самых торжественных случаях, как например, в день своего рожденья, всегда согласен выпить шерри.
– На этом вечере, я думаю, были прелестные женщины, Долли?
– Божественные, – ответил он, вздыхая: – на следующей неделе я приглашен на пикник.
Вот что значит иметь тысячу-двести фунтов годового доходу! Для бедных парней, перебивающихся фунтом в неделю, не затевают пикников!
Грум вошел с почтительным вопросом, когда подавать экипаж.
– Хотите, поедемте верхом в Ричмонд? – спросил Долли.
Я называю подобные вопросы оскорблением. Он должен был бы видеть, что на мне ветхие ботинки и мои колени должны были достаточно показать ему, что, если я только попытаюсь занести ногу в стремя, то панталоны мои лопнут и расползутся, как мокрая оберточная бумага. Грум (бесподобно одетый негодяй, розовый и пухлый, как принц) непременно оскалил бы зубы при моем ответе: «не могу, любезный друг; у меня есть спешное дело», если бы я не посмотрел на него многозначительным взглядом.
Затем, принесено было множество писем. Все они были надушены. В одном, леди Рюмблетон предлагала место в своей ложе, в другом сэр Ташер убедительно просил его на обед; третье письмо, я полагаю, было от молодой девицы, потому что он покраснел, распечатывая его, и потому, что из конверта выпала вышитая закладка для книги.
Да, все льстили ему, все преклонялись перед его богатством!
A ведь, собственно говоря, что такое деньги? Разве после того, как вы насытились простою бараниной, вы станете завидовать какому-нибудь жареному лебедю, приготовленному для богача? Заплатив всё золото Ломбард-Стрит, разве вы можете прибавить себе вершок росту? Всё богатство барона Ротшильда разве может преобразить курносый нос в греческий? Нет; и вот тут-то мы, высокие, рослые, стройные парни, превосходим вас, богатых, слабосильных карликов.
Маленький Долли Икль, как он ни вытягивался, имел, в двадцать-три года, всего четыре фута десять вершков. Это было его проклятием. Я столько раз замечал, как он взглядывал на мои великолепные ноги и вздыхал; потом печально подымал глаза на мою величественную грудь, и вздыхал опять; наконец, устремлял взоры на мой внушающий почтение нос, и думал, с какою радостью он отдал бы половину своего состояние за такие члены и черты!
Он был болезненный, захиревший человечек, и такой бледный и слабый, что любая девочка могла бы его опрокинуть. В его уборной, на камине, стояли склянки с лекарствами, на одном рецепте: «крепительное. Принимать каждое утро и вечер», на другом: «пилюли, для возбуждения аппетита; принимать по две перед едою». Он привез с собой предписание своего деревенского доктора, «который в совершенстве изучил его сложение», и осыпал золотом столичных докторов, которые знать не хотели его «сложения». Его мамаша перед кончиною вручила ему, что она называла, «альманах здоровья», изобретенный самою нежною родительницею на пользу любимого сына; в этом альманахе были проповеди о пользе фланели, рассуждения о вреде сырой погоды и т. д. Кроме того здесь встречались удивительные размышления о домашнем комфорте; помещены были медицинские рецепты, в роде следующего: «превосходный крапивный декокт для успокоения и очищения крови», или «любимые пилюли папаши».
Уморительно было видеть отчаянные усилия Долли казаться выше того, как он был на деле: он носил двухвершковые каблуки, верхушка его шляпы была длиннее водосточной трубы, а манерой держаться он затмил бы гордого Брута. Или он так выпрямлялся и так вытягивал ножки, что, казалось, того и гляди, у него где-нибудь лопнет.
У него была слабость всех маленьких людей: он обожал громадных женщин. Чуть, бывало, завидит какую-нибудь Бобелину[1], и пропал: уставит глаза на гигантского ангела, и только бормочет: «что за роскошное создание! О, блогородная красота!»
Что может быть смешнее маленького человека, который таращит глава на шляпку прекрасного гиганта, откинув голову назад, как будто старается увидать, который час на церкви св. Петра?
Я предпочитаю склонять голову, любуясь милым личиком моей избранницы.
Разумеется, нельзя ожидать от этих крошечных людей такого здравого смысла, каким обладаем мы, рослые шестифутовые парни. Но зато они крайне чувствительны. Бедный Долли! Впрочем, теперь уже поздно голосить. Мне прискорбно, что я некоторым образом был отчасти причиною его погибели. Однако…
Но лучше рассказать всё по порядку.
В воскресные дни Адольфус всегда приглашал меня завтракать. Раз я прихожу к нему усталый и измученный долгой ходьбой, утешая себя тем, что подкреплю силы. Можете представить мое положение, когда я узнаю, что мистер Икль нездоров и завтракает в своей спальне!
Я, однако, овладеваю своими чувствами, вхожу в спальню, и вижу, что он лежит в постели и перед ним на столике только чашечка чаю! Подобная небрежность, подобный эгоизм возбудили мое негодование в такой степени, что когда этот карапуз поднял глава в потолку, и с вытянутой рожицей пробормотал жалобно: «я не спал всю ночь», я едва принудил себя быть учтивым. Голод превращал меня в людоеда; я чувствовал спазмы и колотье.
Однако, я, как медик, обязан был дать ему совет. У него была легкая простуда, сопровождаемая сильною зубной болью. Я, смеясь, сказал ему, что хороший завтрак вылечит его лучше всех лекарств. Но он заупрямился.
«Хорошо, приятель!» подумал я. «Вы приглашаете голодного человека завтракать, и потом преспокойно об этом забываете! Дантист отмстит за меня!»
И прежде, чем я окончил бисквитик, я уверил Долли, что ему необходимо выдернуть зуб.
Он спросил, очень ли это больно. Я щелкнул пальцами и ответил, что это скорее приятное, чем болезненное ощущение.
У меня есть правило всегда помогать приятелем, но я стараюсь по возможности выбирать между ними тех, которые тоже могут оказать мне при случае какую-нибудь услугу. У меня был приятель Боб де-Кад (еще до сих пор у меня в белье его два фальшивых воротничка), сын дантиста.
Судя по его помещению, старый де-Кад отлично вел свои дела. У него был лакей в радужной ливрее, который встречал больной зуб и провожал его в приемную, и другой лакей, весь в черном, в белом галстухе, который объявлял больному зубу, когда придти для выдергиванья. Я знаю тоже, что старый Рафаэль де-Кад сколотил не одну тысячу своей металлическою пломбировкой, не говоря уже об ерихонском зубном порошке, о привилегированных челюстях и о начетах на всякий зуб, который попадался ему в щипцы.
Зуб Долли положит старику десять шиллингов в карман, и старик в блогодарность пригласит меня обедать или на вечер. Я велел ехать прямо на Блумсбери-сквер.
Но когда мы вышли из экипажа у полированной двери дантиста и я хотел позвонить, Долли объявил, что зубная боль у него совершенно прошла. Тщетно я увещевал его не ребячиться, быть мужчиною и войти. Он был бел, как алебастровая кукла и, к довершению его ужаса, старик де-Кад с засученными руками показался у окна, отчищая инструмент пытки.
Долл рванулся и побежал от меня, как дикая кошка. Я последовал за ним, зная, что такой моцион усилит кровообращение и воротит ему зубную боль. Вскоре я нашел приятеля на углу Оксфордской улицы; он сидел на ступеньке чьей-то лестницы, обхватив голову руками и мычал, как теленок.
Я утешил, ободрил его, и привел назад. Через несколько минут он уже сидел в жертвенном кресле, уцепившись за кресельные ручки, а старый де-Кад примащивался около него, пряча за спину роковое орудие. Я оставил их и отправился выкурить трубку в комнату Боба.
Прежде, чем я успел пустить шесть колечек дыму, мы услыхали вопль, пронзительный крик, как будто вдруг свистнули разом шесть дудок.
Мы вскочили и полетели на верх, как резвые антилопы. Мистрисс де-Кад появилась на пороге гостиной и спрашивала горничную, как она осмелилась «это сделать?» Мисс де-Кад сверху лестницы с испугом кричала лакею в ливрее, что взорвало газопроводы.
Но я узнал голос и поспешил в операционную комнату. Здесь, распростертая в жертвенном кресле, лежала нежная, слабая жертва, бесчувственная и бледная, а старик Рафаэль беззаботно отирал жестокое орудие и видимо был доволен совершившеюся пыткою.
– Коренной и здоровенный! – вот и все, что сказал в объяснение этот варвар.
Я завопил, требуя вина, водки, жженых перьев, уксуса и престонских солей, но бессердечный старый разбойник только усмехнулся, и сказал:
– Он сейчас очнется сам.
– Знаете ли, сэр, – вскричал я: – у него тысяча двести фунтов годового дохода?
– Создатель! я этого не воображал! – ответил он, бросая щипчики и устремляясь в двери.
Я понял, что он объявил во внутренних покоях о богатстве Долли; поскольку прежде чем я успел попробовать пульс пациента, в комнату ворвалась мистрисс де-Кад с бутылкой водки, а за нею влетела мисс Анастасия; она запыхалась, «искала престонские соли», по её словам, но я знал, в чем тут дело: когда я встретил ее на лестнице, на ней не было кружевного воротничка и её прелестная особа не была украшена брошкой с камеями; не было тогда на ней тоже золотой цепочки, ни узких перчаток.
Мисс Анастасия отнеслась к страданиям Долли с самим трогательным сочувствием и нежным состраданием; она настаивала на том, чтобы тотчас же послать за доктором Ле-Дерг, их приятелем, и с ужасом спрашивала, сжимая руки Долли в своих: «могу ли я, как медик, поручиться, что есть надежда спасти мистера Икля?»
Мать и дочь так суетились, что совсем истолкли меня: одна совала мне в руки стакан с вином, проливая вино мне в рукав и приказывала, чтобы я пропустил хоть капельку в уста бедняжки; другая дергала меня за фалды, патетически требуя от меня «надежды», как будто надежду я носил в кармане и не хотел уделить её ей.
Даже когда Долли открыл глаза и так сильно стал дышать, как при игре на флейте, мисс Анастасия еще не смела верить счастливому исходу дела.
Едва я намекнул, что Долли не худо бы успокоиться, мистрисс де-Кад стремглав кинулась в гостиную, в одно мгновение ока чехлы были сдернуты с розовой штофной мебели, и мисс Анастасия явилась с подушкой, взбила ее собственными руками и устроила на софе комфортабельное изголовье, Долли был положен отдыхать и все удалились, осторожно ступая.
Выкурив с Бобом десяток трубок, я пришел проведать пациента. Он не спал и тер щеку.
– Больно? – спросил я.
Он поднял глаза вверх и скромно ответил:
– Очень!
– Но все-таки лучше, чем зубная боль? – сказал я в утешение.
– О, хуже! – ответил он.
После краткого молчание, он проговорил:
– Как они добры – как добры и внимательны ко мне!
– Необыкновенно добры и внимательны! – ответил я.
– Какая у них прелестная дочь! – продолжал Долли. – Она, я полагаю, с меня ростом, а?
С него ростом! Девица Анастасия была ростом полных шесть футов, и стоя рядом, могла на него глядеть, как на садовую дорожку! Мы, мидльсекские, прозвали ее «блумсберийской красавицей», о чем я его и уведомил.
– Это совершенно справедливо! – ответил невинный Долли. – Великолепное создание!
Я объявил дамам, что пациент проснулся, и они тотчас же удостоили его визитом. Мисс Анастасия была еще пленительнее в легком, развевающемся, воздушном платье. Чувствительный Адольфус чуть не ахнул при её появлении. Кружева обертывали ее, словно облака и вились около нея, и трепетали как крылья, а сквозь этот прозрачный материал, сквозила вышитая шемизетка. Голова пораженного Адольфуса склонилась на сторону, рот слегка раскрылся: он был побежден!
Они вступили в разговор. Мисс Анастасия села около него на софе, распустив свои роскошные облака и скрыв ими Долли почти совершенно.
Она чрезвычайно мило и сочувственно относилась к его страданием, симпатично вздыхала, трогательно взглядывала. Иногда его речь так сильно ее потрясала, что она на мгновение закрывала лицо надушенным платком и испускала тихие восклицание.
– Что особенно заставило вас так страдать? – спросила она с глубоким интересом.
– Я полагаю, – отвечал очарованный Адольфус: – что инструмент был слишком велик для моего рта…
– А! ужасно! меня это бы убило! – пролепетала Анастасия. Но милой девице не угрожала вовсе опасность: её ротик, хотя и классический, был достаточно широк и вместителен.
Старый де-Кад пригласил меня и Долли остаться обедать. Адольфус, к моему великому огорчению, отказался, говоря что не может теперь ничего есть.
Но мистрисс де-Кад стала его уговаривать, а мисс де-Кад воскликнула:
– О, останьтесь!
И при этом так очаровательно вспыхнула, что Адольфус забыл свою рану и согласился.
Когда радужный лакей доложил, что кушать подано, Адольфус храбро предложил руку прелестной очаровательнице, и я заметил, что он ей как раз по пояс. Она приняла его руку с милейшею улыбкою и поплыла держась за него, как за дорогой ридикюль.
Как она была внимательна и добра, бесценная девушка!
– Не утомляет ли вас лестница? – нежно спросила она Долли, спускаясь в столовую. – Не отдохнете ли вы?
Бедный Долли, который подпрыгивал, стараясь идти на цыпочках, отвечал с невинностью младенца:
– О, я могу идти! Ноги у меня не болят, болит только во рту!..
1
Бобелина (иноск.) – энергичная, крепкая по натуре женщина (намек на греческую героиню – Бобелину)