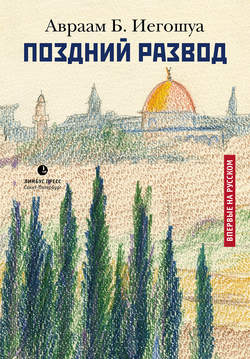Читать книгу Поздний развод - Авраам Иегошуа - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Вторник
ОглавлениеВоображенье защищает взгляд
И этим совершается искусство
Что защищает человека жизнь
Ажемчуг мудрости спасает наш язык
Кольцом на пальце
И так я думаю, что защищает нас
Меня и всех, и против нас самих
От нас самих, и мудрых и безумных
Иона Валлах
И здесь он живет? Сознательно выбрав это убогое окружение? Или такова плата за литературную карьеру? Тогда вопрос: он что, и правда написал все свои книги, видя перед собой эти грязные облупленные стены? Ему принадлежат три разных почтовых ящика – два разломанных и огромный третий с такой прорезью для почты, словно это рот великана, готового проглотить весь мир. Некий человек, перепрыгивая через ступеньки, несется вниз и вдруг останавливается, совершив элегантный пируэт, и делает вид, что его внимание привлекли ящики для почты. Но глядит он при этом на меня так, что воздух потрескивает от электричества; время от времени он бросает взгляд на почтовые ящики и снова глядит на меня, но в конце концов (еще один взгляд) – исчезает. «Боль красоты твоей», – написал мне один из старшеклассников, взявший в привычку писать мне… но кто из них не пытался. Анонимные излияния души неведомым образом оказывались в моем портфеле, замысловатые любовные признания в стихах и прозе, состряпанные из библейских строк и комментариев известных наших мудрецов, разбавленных то здесь, то там обычными непристойностями, вырывающимися из самой глубины души подростка, выдавая самые тайные мысли, не дающие покоя голове под вязаной кипой. Виной тому мои татарские скулы и озорной огонек в газах, синее мерцание которых разбивает им сердца. Так что можете высказать мне, как же им в меня не влюбляться. Я могу сказать. Никто не может полюбить меня, потому что совсем ничего обо мне не знает. Совсем ничего. Но это можно сделать в то короткое время, пока я проверяю чью-то тетрадь с домашним заданием. В твоих ответах я не поняла ни слова.
Без десяти десять. Жди. Неприлично ни приходить ранее назначенного времени, ни даже минута в минуту, в этом есть что-то от комплекса неполноценности, ведь он может подумать, как это важно для меня, если она так точна. Я уверена, что я не первая и не последняя среди тех, кто докучает ему таким же образом. Он слишком велик для новичка вроде меня, но Аси утверждал, что у него прекрасные связи. Это и проверим, – может быть, и ты через него получишь такие же связи. Это слово-код. Мы все находимся в связи друг с другом. Пока сами не становимся такой же связью. Моя (даже если это дано мне в наказание) любовь. Моя истинная любовь. Он – и никто больше. Что мы будем делать? Если тебя пугает моя боль, как могу я не бояться ее? Так что я еще немного поброжу по улице. Даю ему лишних десять минут. Пасмурное утро, холоден ветер Иерусалима. Перистые облака. Тем не менее множество молоденьких матерей выбрались наружу со своими малышами, все испытавшие мгновенную боль, одинаково сладкую во всем мире. И это – не проникновение, которое ведомо и мне, и дело даже не в боли, а в крови. Двух лет достаточно для любого терпения. Дай мне уснуть, а потом ты можешь…
И моя собственная мать:
– Я не хочу вмешиваться, но когда-нибудь любая мать имеет право, а я из-за этого не сплю ночами. Вы женаты уже более двух лет. Я понимаю, ты хочешь быть свободной, но, может быть, кто-то должен подумать о том, что нас ждет впереди.
И папа:
– Дело не только в том, что это грех, но и в этом тоже, но Аси ни во что не верит, и он пытается перетянуть тебя на свою сторону, и ты поддаешься ему, отказавшись от веры, в которой мы взрастили тебя, без особого сопротивления, и это тоже…
И мама:
– Не начинай все сначала, сейчас я говорю об этом только с точки зрения медицины, только твое здоровье заботит меня. Однажды ты была больна, надеюсь, ты не забыла, и я прочитала в газете, не смейся, что иногда женщины думают, что в запасе у них вечность, но когда у них возникает желание, обнаруживается, что уже поздно, и выходит, что чем раньше, тем лучше, и само по себе случается только в книжках, но даже там…
Папа:
– Почему, ну почему ты все так усложняешь? Да, мы хотим внуков. Что тут такого? Это что, кому-то запрещено? Мы заслужили у Господа, чтобы Он дал нам хоть одного ребенка. Спроси у матери… Она скажет тебе, как мы хотели еще… мы пытались, чтобы их было больше, но твоя мама не смогла…
Мама:
– Ради всего святого, не начинай все сначала. Дай мне спокойно сказать то, что я хочу, не ради нас, а для вас. Мы в состоянии вам помочь, не то что его семья, которую и семьей-то не назовешь. Мы действительно думали о том, чтобы переехать к вам поближе, но лучше бы вам перебраться к нам поближе… и мы нашли даже квартиру неподалеку от нас.
Папа:
– Вы можете располагать нами не только вечером, но и днем. Бизнес, слава богу, так плох, что я могу управиться в магазине один и отпустить мать. Она может помогать вам хоть целыми днями.
Мама:
– И с точки зрения карьеры Аси… мы думаем об этом тоже, так что и с этой стороны есть резон.
Отец:
– С такой матерью, как твоя, тебе не придется беспокоиться ни о чем. Ведь это ей ты обязана тем, что выросла такой красавицей. Когда ты появилась на свет, мы были поражены, откуда в нашем роду взялась такая обезьянка, но потихоньку-помаленьку…
Мама:
– Хватит тебе раздражать ее, ты способен только все разрушить, ты думаешь, что это я, но видишь теперь, что все это он… он не может остановиться. У меня нет ни минуты покоя. Вчера я разговаривала с матерью Сары, девочки из вашего класса, которая вышла замуж за несколько месяцев до тебя… и они уже ожидают второго внука. Не сердись, я ни на что не намекаю. Я знаю, что это единственное, на что она годится, но вы должны использовать отпущенное вам время, а не плыть по течению и думать, что всё…
Слаженный усыпляющий, мягкий дуэт. Знали бы они, в какой точке наших усилий мы находимся.
Ну а у него была возможность обзора с другой стороны – глубокая и широкая расщелина, тянущаяся до самых гор и неба, помогавшая его вдохновению и освобождавшая от сомнений, где здесь север, где юг, где восток и где запад. Сама я не способна определить стороны света, зато Аси достаточно шагнуть в любую комнату, чтобы определить, в каком направлении он сделает следующий шаг. Пространства открыты любому, кто умеет их читать. И тут возможна неожиданность – подобная тем, что наполняют талмудические тексты. Таково же обостренное ощущение ландшафта. Мальчишки ломали копья с преподавателем Талмуда в то время, пока я по каплям стекала с небес. Полуживая сонная змея подобна обессиленному старому человеку, одолеваемому дремотой. Это возможно. У нас будет случай это увидеть. В конце концов, существуют только слова. И боль от этих слов. Но крови они не источают.
Холод пробирает не на шутку, а на мне – легкая весенняя одежда и летние туфли. Неужели этот леденящий ветер и означает приход весны? Почему это всегда происходит накануне Пасхи? Несколько блеклых дней, отделяющих зиму от весны, а затем всею своей мощью на нас обрушивается лето. Эта страна – для всего сразу. Кстати, недурная строчка, годится для стихотворения. Надо ее записать. Кто-то из поэтов поведал журналистам, что всегда носит с собой небольшой блокнот. Полезная мысль. Что он скорее всего скажет мне? Дина Каминка, у вас огромный талант. Ваше имя стоит того, чтоб о нем не забывали. Последняя надежда литературы времен упадка. Где вы скрывались до этих пор? Какая чепуха! Шикарные тетки с сумками для шопинга, проходя мимо, пялятся на меня. Взгляды их буравят меня насквозь, не то что взгляды мужчин. И выглядит это так, словно я у них что-то отняла. Но те, кто меня знает, знает и то, что исходящая от меня угроза – мнимая.
Маленький мальчик стоит прислонившись спиной к лестничным перилам у входа. Его. Стоит только бросить взгляд на такие же кудри. На то, как он смотрит. Для окончательного сходства не хватает только трубки. Я трогаю его за плечо. Ты сын такого-то, правда? Но это не производит на него никакого впечатления. Похоже, он привык уже, что он сын знаменитого отца. Он бьет по мячу и устремляется вслед за ним по ступенькам.
Две двери, одна напротив другой. На обеих (довольно странно) его имя. Я нажимаю звонок на одной из них, той, что справа. Молодая невзрачная женщина в джинсах держит на руках младенца, за ее спиной грохочет рок-музыка. Прежде чем я успеваю открыть рот, она указывает мне на другую дверь и мягко отступает, оставляя свою открытой, пока я ищу звонок. Уступая свое место другой женщине, постарше и тоже с ребенком. (Этот – третий по счету, тоже его?) В руках у нее – корзинка для покупок.
У него что, и на самом деле – две жены? А что… почему бы и нет? Такие квартиры стоят недорого. В глазах у меня возникает картина – среди ночи, голым, он перебегает от одной к другой.
– Я договорилась с господином… С господином…
– Входите.
Она осматривает мое элегантное платье с ироничной улыбкой и указывает на дверь, ведущую внутрь квартиры. С моей стороны это была ошибка – тащиться в это гнездо богемы на высоких каблуках. Я вхожу в узкий коридор и в ту же минуту слышу, как наружная дверь с громким и циничным грохотом захлопывается за моей спиной. Тусклый свет заполняет пространство среди приземистых книжных шкафов, воздух пропах не просохшим после стирки бельем, усиливая ощущение лирической увертюры, вкупе со смутным отражением в облупленном зеркале, притаившемся среди зимних пальто. Кроме всего прочего, зеркало показывает, что ветер полностью погубил мою прическу, и теперь моя голова более всего похожа на развевающийся флаг. Зачем мне все это?
Проходя мимо кухни, я замечаю гору грязной посуды в раковине. Может быть, он подыскивает себе третью жену, чтобы вымыть все эти тарелки?
Постучав в дверь, я мягко ее открываю. Маленькая комнатка. На просторной кровати сидит белокурая девчушка. Грязное белье. Ребенок занят тем, что грызет свою куклу. Я пробую открыть следующую дверь. Старый змей в поношенном черном свитере гольф, ниже, чем я представляла его, крепче, чем я представляла, старше, чем я представляла, наклонился над молодым человеком, перед которым высилась бумажная гора. Корректуры? Неопрятное ветхое, огромных размеров кресло, похожее на доживающую последние дни старуху, куча в беспорядке разбросанных курительных трубок, просторный стол в слабом свете лампы, деревянными панелями обшитые стены с книгами на подоконниках, проглядывающие за ними верхушки гор. Вместо ковра – овечья шкура на полу, крутящаяся без звука пластинка – совершенно не израильская комната, полная к тому же темных деревянных скульптур. Острый запах мужчины.
«Простите… ваша жена сказала, что я должна прийти в… не знаю, помните ли вы… мой муж… к десяти часам… меня зовут Дина Каминка…»
Остатки кофе в высоких стаканах, пепельницы, полные окурков и табачного пепла, душная комната насквозь пропахла литературным творчеством. У него яркие смеющиеся глаза. Молодой человек выглядит довольно мрачно. Я даю им время (а что еще мне остается) вдоволь налюбоваться моей красотой.
– Моя жена? Ладно, пусть будет так. А что, уже десять? Ну конечно, вы правы, мы договаривались встретиться в десять. Проходите, присаживайтесь. Еще минуту, и я к вашим услугам.
Я прямиком направляюсь к раздолбанному креслу, падаю в него и проваливаюсь буквально до самого пола. У него, в черных вельветовых брюках и обтягивающем свитере, вид надежного и аккуратного человека. В тот момент, когда он что-то исправляет в рукописи, затем начинает очищать стол, сдвигая в сторону бумаги и стаканы с остатками кофе прочь со стола, поясняя мрачному юноше смысл только что сделанной поправки. «Это не долго», – обращаясь ко мне, вполголоса комментирует он ситуацию, в упор глядя на мое пылающее лицо с несколько натянутой любезностью, после чего мне хочется еще глубже погрузиться в это кресло, но единственное, что мне удается сделать, это с чувством стыда скрестить ноги.
Он продолжает стоять, созерцая меня и, похоже, размышляет, что за явление ниспослано ему столь неожиданно этим заурядным утром, и прикидывает, чем это может обернуться.
– Может, вы хотите что-нибудь выпить?
– Нет, спасибо.
Он закрывает дверь за молодым человеком, который покинул комнату, не произнеся ни слова и не удостоив меня даже взглядом, затем надевает очки и начинает заглядывать в ящики стола, перекладывать ворохи рукописей до тех пор, пока в конце концов не обнаруживает желтоватую пачку листов, и начинает их просматривать, лучезарно улыбаясь, не произнося ни слова перекладывает один листок за другим, затем садится и снимает очки.
– Должен признаться, ваша поэма произвела на меня большое впечатление. Это похоже на чудо. Не снится ли мне все это? И так безболезненно.
– Это честно? – Я беззвучно тону, я в экстазе и еще глубже утопаю в кресле.
– Где вы были до сих пор? Ваша поэма «Неотразимость тела моего» абсолютно восхитительна.
– Как вы сказали? Моя поэма?
– Да. «Неотразимость тела моего», замечательно. – Он торжественно склоняется надо мной, чтобы мы вместе могли читать написанное на желтоватом манускрипте, – листок покрыт странными округлыми каракулями. Он путает меня с кем-то. Он имеет в виду кого-то другого.
«Неотразимость тела моего»?
– Наконец-то среди всего этого мусора, которым меня засыпают, я слышу новое звучание, предвестник нового слова в литературе.
В моем голосе – гибель вселенной, пыль рухнувших надежд, но храбрости я не теряю.
– Минуту… простите… мне кажется, вы ошиблись… эти страницы, они не мои… Дина Каминка… Вы спутали меня с кем-то… мой муж дал вам тетрадь с цветной обложкой…
Он оцепенел. Покраснел. Сгреб рукопись, улыбнулся (я не поняла, что он нашел здесь смешного?), хлопнул себя по лбу, легко вскочил на ноги и забормотал: «Минутку… минутку… прошу прощения… вы правы… как я мог так опростоволоситься… просто конфуз…» Опустился на колени, вытащил из стола самый нижний ящик, продолжая бормотать извинения. «Еще одна минута… черт знает что здесь творится… превратили комнату в редакцию… ну, вот… вот… Дина Каминка, разумеется… ваш муж Аси… исторический факультет. Конечно, я помню».
– Вы вовсе не обязаны читать все это… не имеет значения… – Внезапно я почувствовала облегчение и сделала попытку освободиться из обволакивающих объятий желеобразного кресла. Выбраться из него – и исчезнуть.
– Нет, нет… еще мгновение. Я читал это. Уверен, что читал. – Он лихорадочно копался в рукописях. – Это была история… не так ли? – рассказ, не так ли? О молодой женщине… еще одну минуту… дело происходит зимним днем… в лавке… одну минуту…
Зачем ему нужна одна минута? Придется каким-нибудь другим женщинам сказать новое слово в литературе, среди этого, как он выразился, словесного мусора он отыщет их. И тогда на ее долю придется радостная возможность услышать это из его уст… и, может быть, она в этот самый момент уже поднимается по лестнице. Но смотри-ка! Он держит в руках мой блокнот и торжествующе демонстрирует его мне. Моей первой ошибкой было то, что я все записывала в большой школьный блокнот, которым пользуются старшеклассники. А следовало бы писать на желтой использованной бумаге и никогда больше впредь не корчить из себя девственную мадемуазель из хорошей семьи, решившую побаловаться игрой в литературу.
Молчание.
Он хищно пролистывал мое творение, быстро пробегая страницу за страницей своим острым взглядом, и казался в это мгновение образцом сосредоточенности, не испытывая никакого стеснения оттого, что делает это прямо у меня под носом. Затем он закрыл блокнот, положил на стол, поднялся и дружелюбно мне улыбнулся.
– Что вы предпочитаете – кофе по-турецки или растворимый? А может, хотите чего-нибудь холодного?
– Нет, спасибо. Правда, я не хочу ничего.
– Так по-турецки или растворимый? – Он упорно стоял на своем, улыбаясь покровительственной улыбкой. – Я как раз хочу сварить и себе самому.
– Нет, на самом деле… спасибо…
Он подошел ко мне вплотную и доверительно опустил свою теплую ладонь мне на плечо.
– Вы на меня сердиты. Но я ведь и вправду читал рукопись… Просто в этом беспорядке, видите сами. Если вы не выпьете со мной чашку кофе, я буду очень огорчен. И тоже обижусь. Так по-турецки или растворимый?
– По-турецки.
Он энергично собрал посуду и остатки сухого печенья на поднос, сверху положил мой блокнот и покинул комнату.
Я поднялась из бездонных глубин чертова кресла и медленно побрела вдоль книжных полок, держа курс на желтоватые страницы рукописи, оставленной лежать на столе, – той самой, с округлыми и смелыми каракулями.
Из темноты, возможно,
Смерть падет,
Стиху подобно.
Но притом
Что стих – есть просто стих.
И больше ничего
Он не несет.
Из кухни доносится смешок. Я возвращаюсь к полкам с книгами, не в состоянии даже прочитать названия на корешках, глаза мои влажны, над горами плывет свет.
Дверь открывается, и он вносит поднос, на котором стоят чашки с кофе, печенье и мой блокнот. Декорации на месте. Через всю комнату он бросает на меня нерешительный взгляд, а я приросла к моему месту у окна и стою не шелохнувшись. Он улыбается и подплывает ко мне. «Присядьте». И я сажусь, но не в омерзительное кресло, а, слава богу, на стул рядом с дымящейся чашкой. А он тем временем предлагает мне сахар. Он кладет мой блокнот себе на колени, хватает свою чашку и с видимым удовольствием делает глоток.
– Не сочтите мой первый вопрос простым любопытством, – говорит он после второго глотка. – Вы из ортодоксальной семьи… или я ошибаюсь?
– Я училась в религиозной школе.
– И в старших классах тоже?
– Да. Но почему вы спрашиваете?
Похоже, он очень собою доволен.
– Есть нечто общее, какой-то аромат в вашем языке, образности, в ваших ценностях, в вашем отношении к миру, к тому, что вы одобряете или не одобряете. Этого нельзя не почувствовать. И это – новый феномен – литература, рождающаяся в среде религиозных евреев. И все это явственно видно в том, что вы делаете. Новая литературная школа?
Он причислил меня, похоже, к основателям этой религиозной школы, меня персонально. И похоже, в единственном числе. И очень доволен, что нашел этому явлению подходящее название.
– Но я – не ультрарелигиозна. Я только придерживаюсь обычаев…
– Не имеет значения. Это слишком углубившиеся материи в сознании народа, чтобы от них было так просто отмахнуться. Это совершенно целостный и неповторимый взгляд на мир.
– А это хорошо? Или плохо? – Я спрашиваю смиренно, пытаясь удержать обжигающую чашку.
– Если сказать кратко, это долгожданная новая возможность. Мне трудно самому это выразить… описать… нет, совсем наоборот… но это явление создает в литературе новый климат, открывает иные возможности. Сколько вам лет? И пожалуйста, пейте ваш кофе. Почему вы не пьете?
От него требовалось высказать литературное мнение, дать оценку, а он уже сам назначил себя моим ангелом-хранителем, считая на этом основании, что может спрашивать о чем угодно, применяя для этого выдуманную им технику общения с юными бумагомараками.
– Мне двадцать два.
– Вы студентка?
– Закончила два года назад.
– По какой специальности?
– Социальный работник.
– Но не литература?
– Нет.
– Это хорошо. Но как вы ухитрились отучиться так быстро?
– Я была освобождена от армии.
Я смотрела ему прямо в глаза, ожидая насмешливой улыбки человека, чье гражданское самосознание оскорблено. Но он не сказал ничего, внезапно покраснев от своего промаха.
– Ну, все-таки выпейте хоть что-нибудь. Боюсь, что все уже остыло. Возьмите печенье…
– Спасибо.
Я поднимаю чашку и вдруг замечаю на ней отпечаток губной помады. С трудом заставляю себя сделать один глоток и поспешно ставлю чашку обратно. Во рту остается горький аромат кофе по-турецки.
– У вас есть дети?
– Что? Ах, нет… пока что…
– Значит, вы работаете?
– Да. В отделе социальной помощи нашего муниципалитета.
К чему все эти расспросы? Он просто тянет время или собирает материал для окончательного диагноза?
– Как давно вы… пишете?
– Пишу… трудно сказать… Класса с восьмого, наверное. Я заболела тогда… несколько месяцев не вставала с постели… что-то вроде ревматической лихорадки. Вот почему я не служила в армии. Именно поэтому, а не из-за религиозных убеждений. (Поэтому, ты, старый пердун!) Я очень долго не могла поправиться… и вот тогда я начала писать. До сих пор, когда мне нужно на чем-то сосредоточиться, я ложусь в постель и пишу на подушке.
Я болтаю много лишнего.
– В постели? – Он изумлен, он смотрит на меня совсем иначе, во взгляде его понимание и теплота, он наклоняется ко мне. – Сказать вам правду (я съеживаюсь и молю без слов, чтобы удар не был слишком жестким), ваш рассказ слабоват. Он скорее для подростков. Усложненный… без особых на то оснований… а к концу еще более… как бы это сказать помягче… А вот стихи… в основном много удачней. Особенно одно стихотворение… вот оно…
Ты так растил меня,
Чтоб стала я колючей…
Это ведь просто песня… я не шучу, это песня и заслуживает публикации. По любым меркам это не хуже, чем большинство тех стихов, что печатают сегодня, так что если вы пришли сюда, чтобы узнать мое мнение, чему вам следует посвятить себя – прозе или поэзии (я вовсе не хотела), – я могу со всей определенностью сказать вам – поэзии. И еще… это вам решать самой… с прозой порывать вовсе тоже не стоит. В ваших рассказах есть вполне качественные отрывки, не слишком много, но есть… в особенности там, где вы даете описание. Что я имею в виду конкретно… ну, конечно, бакалейная лавка, я ничего не путаю? Старомодная бакалейная лавка. Что-то в вашем описании задело меня (я сижу, закрыв глаза). Эти полки… этот темный шкаф для хлеба… Вы так смешно описали, просто великолепно, этот ломоть белого козьего сыра, изобразили всю ситуацию на грани абсурда, для этого надо обладать недюжинным воображением, знаете ли… не могу вспомнить детали, но все вместе врезалось мне в память. Я даже где-то пометил… – И он лихорадочно стал перелистывать мой блокнот. – Ну, хорошо, не важно, в конце концов.
– Не стоит ломать голову.
– Ну, вот это место. Где описана пожилая чета бакалейщиков. Очень хорошая жесткая проза, пусть даже местами и забавная… что плохо – что ваша героиня получилась такой неопределенной, существующей в некоем неопределенном вакууме, и вы еще вдобавок наградили ее всевозможными эмоциональными клише…
Сейчас его голос звучит искренне.
– Надеюсь, вы не сердитесь на меня за то, что я сказал вам то, что я думаю. Разумеется, это всего лишь мое личное мнение, но было бы нечестно разбавлять все это пустыми комплиментами.
– Не беспокойтесь. Я все поняла.
Он протягивает мне раскрытый блокнот.
– Все выглядит так, словно вы чего-то боитесь. Затронуть, к примеру, какую-то реально существующую проблему… Мне кажется, здесь есть что-то личное… хотя я совсем о вас ничего не знаю. Но я чувствую это… особенно в том на первый взгляд смешном отрывке в темной лавке. Ощущая какую-то горечь. Вам стоило бы копнуть чуть поглубже, вскрывать суть проблемы. И даже в ваших стихах…
(Даже в стихах! Я была сломлена.)
– Да. И в ваших стихах тоже. – Внезапно он разозлился. – При любом подходящем случае вы прибегаете к отступлению в сюжете, заменяя логику повествования своими эмоциями. Даже в натуралистических сценах. «Одна, одна, совсем одна. О, тщетная попытка содрогнуться, склонившись над лежащим юным телом, под облаком, что тихо проплывает… За утренним окном»… Когда кто-то склоняется над телом мертвого ребенка…
– Мертвого ребенка?
– Ну, не мертвого, больного там, это несущественно. Именно это маленькое тело здесь самое главное, что требует разъяснений, а вовсе не какие-то облака за окном. Но вы уклоняетесь от разъяснений, прибегая к эстетическим уверткам, давая себе поблажку. Вы не можете писать, не проявляя готовности раскрыться, даже когда не все еще сказано до конца. Но без этой готовности раскрыться не стоит понапрасну тратить время и изводить бумагу. Ну а кроме того, вы злоупотребляете таким словом, как «изящный». На первой же странице встретил его пять раз. «Привет тебе, изящная змея…»
Он громко читает вслух. Читает он хорошо. Профессионально. Создавая впечатление, что текст ему давно знаком, хотя я-то знаю, что именно этот он впервые увидел в кухне, полчаса назад, стоя между чайником и чашками для кофе.
Тишина.
– Для вас это так важно?
– Что именно?
– Литература.
– Да… Я думаю, да…
– Тогда отдайтесь этому занятию целиком. Иначе…
Его голос мягко затихает, в то время как взглядом своим он скользит по моим ногам. В коридоре начинает плакать ребенок, оттуда же доносится скрежет передвигаемых стульев. Внезапно я ощущаю во рту медный привкус. Одно к одному – все неприятности, включая его отрицательное мнение.
– Вы сказали, что мой рассказ недоработан. Но в вашей собственной прозе…
Он мгновенно ощетинивается:
– Что в моей прозе?
– Неважно…
Я не собираюсь развивать эту тему, я поднимаюсь, я хочу уйти отсюда, ребенок надрывается от крика. Он наклоняет голову, на лице его мудрая понимающая улыбка. Я снова протягиваю руку за своим блокнотом.
– Мне кажется, что кто-то вас зовет…
Но я вижу, что он чем-то очень расстроен, сидит в кресле, всем своим видом показывая, что не хочет, чтобы яушла, быстро перелистывая еще и еще страницы блокнота.
– Прежде всего – вещественный мир, реальные предметы, которые можно осязать физически, потрогать… и только потом уже – идеи и символы, вытекающие из них. Это литература. Абсолютная внезапность того, что случилось – с вами или кем-то еще, способность сопереживания – реального, а не абстрактного, быть ближе к земле, сокращая расстояние между реальной жизнью и литературой…
Я улыбалась. Рука моя еще протянута к блокноту. Я различаю шаги молодого человека сквозь истошный плач младенца, где-то грохочет, падая, посуда. Он начинает вставать, не выпуская из рук блокнота. Теперь, когда мы стоим лицом к лицу, я вижу, насколько он действительно ниже меня ростом, – уж не это ли причина тому, что он старается вставать пореже.
– Передайте от меня приветы Аси. Когда он впервые подошел ко мне в университете, я даже сразу не сообразил, кто он. Я помню его еще мальчишкой. Его отец, старый Каминка, был моим учителем в старших классах.
– В самом деле? Я никогда об этом не слышала.
– Тот еще был господин. Оч-чень странный, кроме всего прочего. Такой, что мог вымотать вам все кишки. Тем не менее именно он научил меня мыслить. Что с ним? Он еще жив?
– Без сомнения. Последние несколько лет он прожил в Америке.
– В Америке? Каминка? Что он там делал?
– Преподавал в нескольких открытых еврейских колледжах смешанного типа. На самом деле я никогда его не встречала. Он был уже там, когда мы поженились.
– И он не прилетел на вашу свадьбу?
– Нет.
– Очень на него похоже. Весьма необычный экземпляр. Очень сложный. И нашу жизнь делал довольно тяжелой. И вы говорите, что никогда не встречались с ним?
– Нет. Но вероятно, встречусь. Он сейчас здесь, приехал по делам. К слову сказать, сегодня он должен появиться в Иерусалиме.
– А жена его тоже жива? Я слышал, что она заболела… или нечто в этом роде.
– Да. Именно. Что-то в этом роде.
– Странный тип. Талантливый, но опустошенный какой-то. Было время, когда он размазывал нас по стенке…
(И вы-то не лучше… «Странный, опустошенный, необычный»… На одной странице – три раза…)
– Передайте ему мои наилучшие пожелания. Если он захочет, он вспомнит меня. Наши отношения всегда были непростыми. И вот что еще – если вам когда-нибудь захочется, чтобы я прочитал другие ваши вещи, я рад буду сделать это. И вам не нужно будет для этого прибегать к помощи Аси.
Я ощутила на своем лице его прокуренное дыхание – не самое приятное из ощущений. Он провожает меня до выхода, его ладонь на моем плече, он возвращает мне мой блокнот.
– Это стихотворение… вы сказали, что оно заслуживает публикации… кому я должна послать его? Вы не могли бы… если вы не шутили… дать это кому-то…
Он делает шаг назад, рука его соскальзывает с моего плеча. Но я смотрю на него, сосредоточив в этом взгляде всю свою красоту.
– Вы уже хотите публикации?
– Только если заслужила ее. Но если вы раздумали…
Моя рука сама вырывает из блокнота нужную страницу и протягивает ему. Он неохотно берет ее, затем возвращает мне и просит написать на ней мой адрес. Мы стоим в передней, возле кухонной двери стоит высокий молодой человек, на руках у него маленькая девочка. Ее лицо мокро от слез, она приглушенно всхлипывает и тянет к нему руки, но он не обращает на это внимания и продолжает разглядывать меня, сжимая в руках листки с моими стихами.
Огромная женщина открывает дверь своим ключом, уходит, окидывает нас пронзительным взглядом и быстро хватает малышку. Через открытую дверь я вижу задний двор и двух подростков, надувающих футбольный мяч. На улице – обычная сумасшедшая толчея. Сделав несколько шагов и не в силах побороть свое любопытство, я украдкой проделываю обратный путь.
– Простите меня за этот вопрос, но… сколько у вас детей?
Он быстро поворачивается:
– Двое. А что?
– Ничего. Я просто…
По лестнице бесшумно крадется к нам маленькая бесцветная мышка в очках. Возможно, именно та, что владеет ключом к новому художественному языку. Мне к лицу роль прорицательницы, и мой вердикт таков – мышку ждет почетный провал, тем не менее оставляющий надежды на будущее. Моим собственным достижением я могу считать ломоть белого сыра, сумрак хлебных полок и бакалейную лавку – истинное место моего пребывания, где я всегда чувствую себя как дома. Впрочем, это и есть мой дом. В ту минуту, когда я это описываю, во мне разливается тепло. Смотреть на все это широко раскрытыми глазами, не бояться выставить сокровенную часть своей души напоказ, копать все глубже и глубже, докапываясь до самой сердцевины проблемы, если ты знаешь, что проблема есть. Прощайте, изменчиво меняющиеся облака. Он прав. Но что я буду делать без этого «изящества», волшебного слова, которое так выручает меня в затруднительном положении? «Дряхлая змея на скале, старая, дряхлая, и сбившаяся с пути».
Я должна найти замену.
А тем временем ломоть сыра со страниц моего рассказа перебрался в реальную жизнь. Вот он, отец большим ножом отделяет его от круга, милое его лицо выглядит усталым, кипа съехала на затылок, он высок и по-прежнему строен. Предметы, знакомые с детства, здравствуйте. Помогите мне прийти в себя – и вы, буханки хлеба и халы, и вы, бисквиты и печенья, и ты, копченая рыба, и вы, банки с джемом, окружите, обнимите меня, мне так нужна ваша поддержка. А папа тем временем перебрасывается с маленькой крикливой покупательницей, страдающей от варикоза и вступившей в смертельную схватку с длинной полоской чеков. Я тихонечко проскальзываю к нему и стою за его спиной среди бочонков с пивом и коробок с моющими средствами. Мама в очках, прищурившись, пишет новые цены на этикетках поверх старых.
– Опять цены растут?
– Ах, Диночка, как хорошо, что ты зашла. Аси звонил. Он пытался узнать, где ты и что с тобой.
Папа уже обнимает меня, поглаживая по спине. Покупатели подождут.
– Потише, полегче, – говорит мама. – Ты испачкаешь ее платье.
– Я куплю ей другое, не хуже. Ну так что он тебе сказал?
– Кто?
– Ну этот… писатель. Как там его зовут…
– Дай ей перевести дух, – говорит мама.
– А как ты об этом узнал?
– Аси сказал нам.
Моя дверь в квартире никогда не закрывалась ни на ключ, ни на крючок, даже в ванную они врывались без стука, как, впрочем, и в спальню. В моих шкафах для них не было секретов, ничего интимного, личного, неприкосновенность личной жизни не существует, уединиться я не могу даже сидя в туалете, я открыта для них всегда, для их сокрушительной любви, для всепоглощающей и неутолимой жажды в любую секунду знать, где я и что со мной. Как я могу обижаться на них за это? Да я просто обязана навещать их, хоть ненадолго, каждый день – ведь и всего-то они хотят знать наверняка, что дочь их жива и здорова, а не превратилась в дым при очередном теракте.
– Ну так и что же он сказал? Понравилось ему?..
– Да… более или менее… кое-какие замечания… но… скорее да… а в целом…
– Отстань от нее, – говорит мама. – Госпожа Гольдер ждет своего чека. Не заставляй ее нервничать.
Он целует меня и возвращается в лавку.
– Хочешь, чтобы я тебе помогла, мама?
– Нет, дорогая, абсолютно нет. Садись и переведи дух. Сейчас я тебе приготовлю чего-нибудь поесть. Одну минуту, хорошо? А пока разыщи Аси. Он уже успел позвонить сегодня трижды. После двенадцати должен приехать его отец.
– Я знаю.
– Позвони ему, пожалуйста, прямо сейчас. До полудня он будет на работе. Мы обещали, что ты позвонишь сразу, как только появишься.
– Хорошо.
Я сажусь на ящик с пивом, чувствуя себя так, словно у меня только что вырвали зуб.
– Хочешь, я сама наберу номер?
– Подожди чуть-чуть, хорошо?
– С тобою все в порядке? Пошли, я сейчас приготовлю чай…
– Можно я посижу еще минуту?
– Его отец прибывает сегодня в три часа… ну вот мы и решили, что пригласим вас втроем на ужин, и тебе не нужно будет самой возиться с этим. А мы наконец сможем его увидеть… ведь он, что ни говори, наш родственник… никто не понимает, как это до сих пор мы ухитрялись не видеть его. И само собой, я полагаю, ему тоже хочется встретиться с нами.
– Только не этим вечером, мама. Я думаю, он захочет побыть наедине с Аси. Они не виделись уже несколько лет…
– Но Аси уже решил…
– Может быть, ты перестанешь дразнить меня? Нет, нет… пожалуйста, не огорчайся, это я так… дай мне немного подумать… одну минуту…
Одну минуту, одну минуту…
Вернулся папа, он не в состоянии был дождаться своей очереди.
– Ну что, договорились? Вы ужинаете с нами сегодня вечером? И тебе ничего не нужно готовить.
И он возвращается в лавку.
Они намертво прилипают ко мне, полные тревоги, они беззастенчиво льстят мне.
– Нет, мама. Только не сегодня вечером. Как-нибудь в другой раз.
– Это ведь только для тебя. Разве дома у тебя есть что-нибудь на ужин?
– Есть. Соображу что-нибудь. Не беспокойся.
– Нам это не нужно, пойми. Это не для нас. Просто хотим тебе помочь. И не сомневаюсь, он тоже хочет увидеть нас всех вместе.
– Конечно, конечно. Захочет. Я приведу его. Но не сегодня вечером. Может быть, даже завтра.
– Может, на пасхальный вечер?
– Не думаю. Скорее всего, он захочет этот седер провести с Яэлью и внуками. Думаю, нам придется к ним присоединиться.
У мамы кровь отливает от лица.
– Надеюсь, это не означает, что на время седера ты хочешь оставить нас одних?
– Мы проводим его вместе с вами каждый год. Если нас не будет, это случится только раз. Да и то еще не окончательно…
Со мною что-то происходит. И разве может единственное дитя что-нибудь скрыть от беспощадно любящих глаз?
– Диночка, тебе нехорошо. Может быть, ты хочешь спуститься и прилечь?
Пожалуйста, милая, не могла бы ты заболеть, так чтобы мы могли уложить тебя в постель и, как в детстве, укрыть тебя, поправить подушку, а потом молча сидеть рядом, сидеть, держа тебя за руку, и сидеть, сидеть…
Я сижу безмолвно. Мне кажется, что я обратилась в камень.
– По-моему, звонит Аси, – говорю я.
Это Аси.
– Дина? Когда ты там появилась?
– Только что, Аси. Вот в эту минуту.
– Это заняло много времени?
– Нет, это длилось недолго.
– Ну и что он сказал?
– Потом, ладно?
– Ну, в одно слово.
– Все хорошо.
– В каком смысле?
– Позднее, хорошо?
– Мой отец приезжает сегодня.
– Мне уже сообщили.
– Похоже, здесь что-то пошло не так. Кедми вмешался в дело и настоял на том, что за получением подписи он отправится один, чем запутал все дело. Я предостерег их, чтобы они этого ему не разрешали, но с помощью Яэли он распоряжается всеми как хочет. Говорить об этом сейчас не стоит. Он прибудет в три часа на автобусе, уходящем из Хайфы ровно в час, но мои лекции закончатся не раньше трех тридцати, так что тебе придется встретить его на остановке такси и вместе с ним приехать домой.
– Хорошо.
– Ты хорошо знаешь, что в доме полный беспорядок. Никакой еды нет. Твои родители пригласили нас сегодня вечером на ужин. Может, есть смысл нам принять их предложение, чтобы тебе не пришлось возиться с готовкой?
– Не волнуйся. Я что-нибудь соображу, а ты мне поможешь. Я полагаю, он хочет провести этот вечер с тобой в тихой обстановке.
– Ну, как знаешь. Я думаю сейчас о тебе.
– Вот и прекрасно. Ты ни копейки не оставил мне для покупок. И это уже не в первый раз. Так-то вот…
– Я не отвечаю за твои покупки. К тому же у меня сейчас в карманах пусто. Ты можешь одолжить немного денег у своих родителей.
– Я больше не возьму у них ни лиры. Ты же знаешь, что они никогда не берут их обратно. Зачем ты вытряс все деньги из моего кошелька?
– Я не взял из него ни пылинки. Я тоже совершенно пуст. А ты все-таки займи у родителей тысяч пять. Такую сумму они не откажутся потом принять.
– И не подумаю. Перестань давать мне советы. Я зайду в банк и возьму там деньги на собственное имя. К кому я должна там обратиться?
– Абсолютно к любому клерку. Не имеет значения, к кому именно.
– Напомни, где располагается наше отделение банка?
– Там же, где всегда, – на углу улицы Арлозорова и Бен-Иегуды.
– Правильно… теперь я сама вспомнила.
– Возьми у них две тысячи.
– Я возьму столько, сколько мне надо.
– Хорошо, хорошо. Только не опоздай. Будь здесь к трем. Ты его узнаешь?
– Узнаю. Не волнуйся.
– Я вернусь домой прямо из университета.
– Может, есть смысл встретиться в каком-нибудь кафе в Нижнем городе?
– Нет. Это слишком сложно.
– С чего вдруг?
– Какого черта тебя понесло вдруг в дурацкое кафе? Он будет уставшим. Я буду дома в четыре тридцать. Отправляйтесь прямо туда, договорились?
– Договорились. Скажи мне что-нибудь…
– Что я тебе должен сказать?
– Меня ждет наказание?
Долгая пауза.
– Это не наказание. Это отчаяние.
Он бросает трубку.
А родители уже что-то уловили. Я не успела оглянуться, как они с головой погрузились в заботы, связанные со мной и предстоящим мне домаужином. В огромную корзину укладывалось все необходимое для роскошного угощения: баночки с творогом, большие куски разнообразного сыра, истекающего слезой, за ними следовали маленькие корзиночки с шампиньонами, холодильник безропотно отдавал свое содержимое под нескончаемую песнь материнской любви – ну вот это, и еще это, и еще чуть-чуть этого, не гляди так, Диночка, да, конечно, все это можно купить в супермаркете, но там у них такие наценки, ты же не захочешь, кстати, вот здесь, в уголке, я оставляю кошелек, там совсем немного денег, отдашь, когда сможешь, ну все, все, полная корзина, папа поможет тебе донести ее до автобуса, что значит – ты не возьмешь, в чем дело? Как ты можешь… как будто ты не знаешь, как мы тебя любим и ждем всегда, и скучаем, не успеешь ты переступить порог, а мы уже считаем минуты до твоего следующего визита. В корзине все аккуратно уложено, все продукты – самые свежие, еще несколько дней ты сможешь…
Но на этот раз на меня что-то нашло, и я отказываюсь. Строптиво и непреклонно. Никаких денег. Есть у меня. Мои собственные. Я не возьму ни крошки. Вопрос закрыт. Без объяснений. И ничего в долг, никаких одолжений, ведь вы потом ничего не берете. Но если вы настаиваете, единственное, что я согласна взять, – это ломоть белого сыра.
– Зачем он тебе нужен? Посмотри, он такой сухой… Он тверже камня. Совсем не свежий… Он так давно…
– Я натру его на терке и сделаю из него суфле.
– Никто и никогда не сделает из него суфле, Диночка, не будь ребенком…
– Я видела подходящий рецепт в поваренной книге. Вам он для чего-то нужен? И кстати – сколько он стоит?
Бедный папа, он не просто рассержен, он в ярости, она оскорбляет нас, наша дочь, он заворачивает огромный кусок сыра и швыряет его мне. Лавка полна покупателей, они раздражены, их покупки лежат на прилавке, лицо папы багровое от гнева, мама, похоже, никогда еще не видела его таким. Я никогда до этого дня не говорила им «нет», я целую маму и трогаю его за рукав, после чего выскальзываю наружу, оказываясь за спиной театра Эдисона, и иду вдоль длинной и глухой стены, напротив которой афиши кино, а в углублении, в дальнем конце приткнулась небольшая лавчонка, скорее даже киоск, торгующий газированной водой (с крана непрерывно стекает тонкая струйка) и разнообразной мелочью вроде жевательной резинки, лежащей в аккуратных желтых картонках, а рядом с сухими вафлями я замечаю стопку тонких блокнотов и тетрадей. Владелец киоска – толстый инвалид, равнодушно сидит на стуле, опираясь на стену спиной, перед его глазами – старые киноафиши, за стеной – рев проносящихся машин и грохот выстрелов американского боевика, но его это все не касается и, похоже, не раздражает. Я рассматриваю блокноты, перебирая их один за другим, и останавливаю свой выбор на оранжевом с едва заметными линиями – производства иерусалимской писчебумажной фабрики.
– У вас только такие блокноты?
Но он не отвечает. И даже не смотрит на меня. Застыв, он слушает что-то, что происходит в нем самом. Ну, может быть, еще, что делается за толстой каменной стеной. И не двигается. Похоже, что ему на все наплевать.
– Ну, хорошо, – говорю я. – Тогда я беру вот этот.
Он протягивает руку и берет блокнот, чтобы взглянуть на его цену. Я высыпаю на прилавок горку мелочи, он смотрит на меня с подозрением, затем начинает считать. Я хватаю свой блокнот, ощущая, как зудят мои пальцы, и я пишу вот здесь, прямо здесь, на грязном прилавке, возле грязной стены грязного Нижнего города, в окружении каменных домов, чернеющих выбитыми окнами, под взглядами одетых в кожу фотомоделей на плакатах и любопытных прохожих, живущих где-то совсем рядом. Дрожащими от вожделения пальцами я перебираю страницы блокнота.
– У вас не найдется, случайно, ручки… или хотя бы карандаша?
Он извлекает откуда-то обшарпанную ручку, я плачу ему, и он отсчитывает мне сдачу мокрыми монетками. Страсть уже охватила меня всю. На одной стороне блокнота я пишу: «Поэзия», переворачиваю блокнот и на другой стороне пишу: «Проза», прилавок мокрый и грязный, и я стараюсь писать как можно быстрее.
Змея, застывши на скале…
Шуршит и истекает кровью…
Владелец киоска, уставившись на меня, говорит:
– Вы, дамочка, перепутали прилавок с письменным столом.
Но я не обращаю на него внимания, переворачиваю блокнот той стороной, что предназначена для прозы. Отец в негодовании, огромная мрачная стена, смрад, грохот проносящихся машин и взрывов, доносящихся из кинотеатра… Владелец лавочки, похожий на зомби, продает газированную воду в тени бананового дерева. Она покупает у него блокнот…
– Э-э, дама… я же сказал, не здесь!
Автобус тормозит на противоположной стороне, шофер пялится на меня, дверь со свистом открывается и закрывается, я хватаю блокнот, сумку и сверток с сыром и стремглав проношусь на другую сторону, дверь снова открывается, и вот я уже в безопасности внутри. Спасибо. Он ухмыляется. И предлагает мне усесться рядом с ним, что я и делаю, одаряя его своей ослепительной (знаю) улыбкой и протягивая плату за проезд, но прежде чем он успевает раскрыть рот, хватаю свой блокнот и впиваюсь в него. «Мгновенная реакция на ее красоту». А на поэтической стороне пишу:
Я вижу, как она танцует,
Как тело гибкое ее
Мелодию послушно повторяет.
Что-то происходит сегодня.
Ключи уже торчат из стеклянной двери банка, но я ухитряюсь просочиться в узкую щель. Меня никто здесь не знает, поскольку в банке у нас общий счет, которым целиком распоряжается Аси, но утонченный молодой администратор берет меня под свое крыло и помогает получить пять тысяч, несмотря на то что у меня нет с собой чековой книжки. Он заполняет необходимые бланки вместо меня и заботливо протягивает их мне для подписи, после чего устремляется в кассу и приносит мне деньги новенькими купюрами, а вдобавок и новую чековую книжку – я вижу, что он готов для меня разбиться в лепешку, представляя собой тот высокоорганизованный нервический тип интеллектуала, выпестованного честолюбивой матерью, способного распознать во мне трепетную девственницу, влекущую его к гибели, как пламя свечи – нежного мотылька.
Его невесомые крылышки бьются среди пустеющего банка, где последние клерки собирают последние бумаги, с улыбкой поглядывая на нас перед тем, как отправиться восвояси. А меня внезапно охватывает непреодолимое желание узнать состояние нашего банковского счета. И оказывается, что в банке у нас несколько различных счетов, – мотылек выписывает их на отдельном бланке и отправляется для уточнений к центральному компьютеру, чтобы получить подробные сведения отдельно по каждому счету. «Здесь у вас лежит двадцать тысяч фунтов, а здесь – изрядная сумма в немецких марках, ну а здесь отмечены имеющиеся у вас акции». Я ничего об этом не знала и никогда не задумывалась, передоверив все финансовые расчеты Аси, пропуская мимо ушей все, что он об этом говорил, что вообще-то было удивительно, поскольку я – вслед за ним – должна была ставить свою подпись на любой бумаге… нетерпеливое позвякивание ключей отвлекло меня. Несколько молодых сотрудниц укоризненно покачивали головами рядом с выходом, но мой мотылек в очках решил, что сейчас самое время познакомить меня с последней банковской программой, предназначенной для процветающих молодых женщин. Я покорно внимала ему, бессовестно кивая, но в конце концов заявила, что мои возможности распоряжаться финансами ограничены суммой не превышающей пятьдесят тысяч, зато пообещала прислать своего мужа, с которым он сможет поговорить напрямую, и, спрятав банкноты в сумочку, подарила ему прощальный взгляд, от которого он весь пошел пятнами, и, открыв передо мной стеклянную дверь, весь сжался. Словно мое случайное прикосновение оказалось бы для него смертельным.
Я купила пирожное и букет цветов и дождалась своего автобуса. Было уже за полдень, и мне следовало поторопиться. Сидя на заднем сиденье, я вытащила свой блокнот и записала прозой: «полуденный свет в пустеющем банке», а на обратной стороне – «трепещущая моль из серебра».
Дома я сбросила с себя платье и влезла в рабочие брюки, прибрала посуду, после чего проветрила квартиру. Холодильник был практически пуст. Свой ломоть сыра я потеряла то ли в автобусе, то ли оставила его в банке. Какого дурака я сваляла, отказавшись от помощи родителей, да еще и обидев их. Я позвоню им и извинюсь. С этой мыслью я сбежала по лестнице, направляясь к угловому магазинчику, маколету, но тот, разумеется, был закрыт. У меня совсем выскочило из головы, что сегодня вторник! Но погода вдруг так разгулялась, солнце брызнуло с чистого синего неба, и день, который начался так мрачно, вдруг наполнил меня саму светом и теплом, несмотря на порывистый свежий ветер.
И я вернулась обратно. Собрала в кучу старые газеты, сложила в папки бумаги, принадлежавшие Аси, и поставила их на полку в шкафу, подравняла книги, сменила брюки, нанесла макияж… время пролетело единым мигом… В два тридцать я уже снова была внизу в ожидании автобуса, но он прорычал мимо меня, не остановившись. Шагнув с тротуара на проезжую часть, я вытянула руку с поднятым вверх большим пальцем, и «мерседес», проскрежетав, остановился. Обычно я так не поступаю, слишком уж это просто и легко, в такие минуты я чувствую себя проституткой. Водитель в огромных темных очках был похож на сутенера. «Куда тебе, крошка, – в Нижний город? Без проблем». Я стояла, упершись в дверцу так, чтобы ему было видно мое обручальное кольцо. Предостережением это должно было показаться ему – или обещанием? В наше время всякий расценивает по-своему. Он попытался завести со мной разговор, я отвечала вежливо, но все более и более сухо по мере того, как мы приближались к Нижнему городу. Остановил нас сигнал светофора. Можно? Я открыла дверцу и выскользнула наружу.
Без пяти минут три. Внезапно меня охватило возбуждение. Отец моего Аси. Каминка, собственной персоной. Человек, о котором я столько слышала и знала, но лишь из писем, обычно заполненных политикой и заканчивавшихся просьбой прислать побольше книг и журналов. Отец Аси… непременный участник всего, что с нами происходило: от любовных наших ристалищ в постели до сумбурных предсвадебных приготовлений, не исключая и саму свадьбу, – настолько он глубоко внедрился в самую сущность своего сына. И вот через несколько минут я увижу его воочию в конце улицы Бен-Иегуды, получив долгожданную возможность разобраться, расспросить и понять этого человека. Автостанция. Автобус номер пятьсот тридцать два из Хайфы придет, девушка, прямо сюда, сядьте и не беспокойтесь, из Хайфы он отбыл ровно в час и с минуты на минуту прибудет, да не беспокойтесь вы так, лучше скажите, как его зовут, и я мгновенно найду его… И я послушно сажусь на скамейку среди груды посылок и бандеролей, дверь офиса распахнута настежь, так что мне видна и запруженная людьми и транспортом улица, и солнце, затопившее своим светом крыши домов, подобно морю. Вокруг меня теснятся десятки людей, напоминая о приближающемся празднике, толпа сдавливает меня со всех сторон, но я ухитряюсь вытащить свой драгоценный блокнот, ничто на свете не в силах помешать мне. Проза сначала. Я пишу: «Сумасшествие свадьбы». На поэтической стороне я перечеркиваю «серебристого мотылька».
Огромный автобус, остановившись, перегораживает всю улицу. «Ну вот, а вы боялись». Из распахнувшихся дверей начинают выходить пассажиры – мужчины, женщины, дети. Если я чего и боялась, то это того, что я его не узнаю.
Но я узнала его сразу. Потому что из автобуса вышел Цви. Невероятно! Даже страшно узреть подобное сходство. Это, пожалуй, самое важное качество – его абсолютная идентичность с Цви никогда при мне не упоминалась. Вылитая копия. Высокий, прямой, крепко сложенный, он остановился возле автобуса. Костюм на нем был немного помят. Стоит и, прищурившись, смотрит по сторонам. Седые волосы растрепаны, маленькие аккуратные усы. Зачем ему усы? Они придают ему какой-то устрашающий вид. Общий вид его – усталый и немного растерянный, но я не в силах сдвинуться с места, словно примерзла. Я гляжу на него, стараясь этим взглядом привлечь его внимание, но внимание привлекаю лишь со стороны толстяка водителя автобуса, который помогает пассажирам освободить грузовые отсеки, успевая при этом перебрасываться скабрезными шуточками с клерками автостанции. В это мгновение я ощущаю нечто вроде удара. Он смотрит на меня! Смотрит, но не видит. В этот момент шофер достает из багажника его вещи – пальто, шляпу и маленький кожаный саквояж. Не говоря ни слова, старый Каминка кивает шоферу и, держа весь свой багаж в руках, смотрит вверх по улице, залитой солнцем. Затем неуверенно движется в том же направлении. Я должна последовать за ним, но шариковая ручка приклеилась к моим пальцам и выводит в блокноте: «Она его видит. Шляпа. Морщины. Солнце еще высоко».
Он переходит улицу Бен-Иегуды, направляясь к какому-то офису, но внезапно поворачивает обратно и начинает спускаться по улице вниз. Проносящиеся машины на какое-то время заслоняют его от меня, и я теряю его из виду, я мгновенно вскакиваю на ноги, блокнот – в сумке, и, сводя с ума шоферов, бросаюсь наперерез потоку, но он исчез, он исчез… Я в ужасе, но в это мгновение вижу его – он движется по тротуару в сторону светофора, где и останавливается, обратившись с вопросом к одному из ожидающих на переходе зеленого света. Еще один рывок – и я настигаю его в тот момент, когда он чуть замешкался на самой середине улицы.
И обнимаю его. «Дина». Он, вздрогнув, смотрит на меня, но тут же расплывается в улыбке. Зеленый свет меняется на красный. Наконец-то. «Аси все еще читает лекции в университете, оттуда он без задержки отправится домой». Я завожу его в какой-то проулок, где машины не мчатся, а просто едут, не посягая на вашу жизнь. Он выбрасывает прямо на тротуар сигарету, которую где-то успел закурить, я вижу, что он смущен моим внезапным появлением, он тяжело опирается на мое плечо, прохожие замедляют возле нас свои шаги, наблюдая нашу встречу. Я наконец нахожу безопасное местечко, останавливаюсь и нежно целую его. Он тронут. Он ставит свой саквояж у ног и в свою очередь обнимает меня, со слезами на глазах. «Пришло время», – говорю я и смеюсь. И он повторяет за мной: «Пришло время». Он стоит на тротуаре рядом со мной, и глаза его закрыты.
– Можно я возьму саквояж?
– Даже не думай!
– Ну, тогда хоть пальто и шляпу.
– Они мне абсолютно не мешают. Шляпу я просто надену.
И он надевает ее, вызывая улыбку у окружающих нас зевак. Толпа стискивает нас и относит по направлению к скверу Сионизма. Бесцельно мы отдаемся ее течению.
– Куда теперь?
– К автобусной остановке – и домой.
– Может, нам следует перед этим хватить по глотку? Или ты спешишь?
– Нисколько. Если не считать, что Аси вот-вот доберется до дома.
– Ничего с ним не случится, если он нас немного подождет. Пошли, мне хочется с тобой поговорить. Нет ли здесь поблизости приятного уголка, где можно было б посидеть?
Он взял меня под руку и молодцевато, с неожиданной, даже жесткой хваткой повлек меня по тенистому переулку с уверенностью человека, точно представляющего, куда он идет. Остановился он у стеклянной двери уже знакомого мне банка. Повернул обратно. Оглянулся. Перешел на противоположную сторону. Посмотрел налево и направо. И вернулся ко мне.
– Оно превратилось в банк, – пробормотал он. – Давай тогда двинем до кафе Атара… если оно еще существует.
Он говорил на беглом иврите, который ничуть не портил музыкальный русский акцент.
– Когда вы в последний раз были в Иерусалиме?
– Давно. Очень. Пропустил возможность побывать в нем три года тому назад в последний свой приезд. Выходит, что не был здесь пять лет. Или чуть больше. Там, в Америке, я часто восхищался этим городом. И гордился им. Фотографии Иерусалима можно увидеть в любом офисе, относящемся к еврейской общине, – и это всегда Иерусалим в одном и том же наборе: Старый город, Стена Плача, Музей Холокоста… Все выглядит одинаково, красочно и очень мило. И нет ни одной фотографии этого убогого, переполненного людьми, серого треугольника улиц, в котором бьется и клокочет реальная жизнь Иерусалима и в котором взрываются все эти маленькие бомбы.
Рука об руку мы продолжаем свой вояж и входим в кафе Атара, посетители пялятся на нас, похоже, мы представляем из себя странную пару. Свободное место находится у дальней стенки – маленький столик, на который он кладет свою шляпу. Появившейся официантке он заказывает два кофе и после некоторого раздумья осведомляется о наличии пирожных. Более того, он хотел бы на них прежде взглянуть. Он серьезно обсуждает вопрос о пирожных с официанткой, бросая на меня время от времени быстрые взгляды, сопровождаемые улыбкой. В конечном итоге длинный разговор завершается выбором. Официантка удаляется, за ней уходит и он – вымыть руки. Я извлекаю свой блокнот и, ощущая теплую волну внутри, записываю:
«Тепло, ощущение его во всем теле, сверху донизу. Она искренне рада возможности поцеловать пожилого джентльмена. Постепенно и терпеливо она раскрывается перед ним, не спеша делать какие-либо заключения, избегая категоричных оценок. Помятая фетровая шляпа, небольшие усики, вид добродушный, но в то же время решительный. Прикосновение его руки. Судя по тому, как он выбирал пирожные, он – сладкоежка. Описать пирожное – но так, между прочим, без подробностей, так не похожий на сына отец…»
Он садится рядом со мной, он причесался, волосы его влажны, и капельки воды еще блестят на бровях, и выглядит он весь как-то лукаво – во всяком случае, именно это я записываю в свой блокнот, который тут же исчезает в моей сумке.
– Ну а теперь продолжим. Наконец-то я могу рассмотреть тебя как следует. Сравнить описание с реальностью. Вот ты, значит, какая. Из плоти и крови, во всей красе. Где же он нашел тебя?
– Кто, Аси? В университете, где же еще.
– Они очень старались подготовить меня ко встрече с тобой. Аси писал мне: «Я думаю, что она очень хорошенькая, но не это в ней самое главное». Но что, по его мнению, «самое главное», он так никогда и не пояснил. И Яэль в своей сдержанной и суховатой манере тоже: «Мы почти ничего о ней не знаем. Она замкнута и не любительница поболтать. Она из очень религиозной семьи, но в ней это никак не подчеркивается. Исключительно хороша собой». Конец цитаты. После церемонии бракосочетания Цви тоже написал мне: «Невеста просто красавица». Как если бы они подобным образом хотели мне что-то сообщить, а получилось, что они сами прежде всего хотят понять, хотят, но не могут объяснить прежде всего себе самим, что заставляет Аси так спешить с этим браком, или ответить на вопрос, кто же на самом деле эта совсем молодая девушка, но если им удается в письмах ко мне описать ее красоту, я пойму что-то такое, чего не поняли они, и благословлю этот брак. Сказать тебе по правде, все эти их усилия мало чем помогли мне. Должен признать, что я был скорее смущен. Что я, черт бы их побрал, должен был понять, читая эти постоянные подчеркивания о «религиозной красавице» – никто не упустил случая упомянуть об этом. Было ли подобное словосочетание случайным или содержало скрытый смысл? И какое из этих двух слов было более важным? Какое несло в себе истину, а какое скрывало неправильную оценку? Что отражало временность этого решения, а что – искреннее чувство? Я задаюсь этими вопросами, потому что когда я три года назад виделся с ним, у него была другая подружка, студентка, слушавшая его лекции… они… впрочем, ты, думаю, слышала о ней. И вот ни с того ни с сего я получаю приглашение на свадьбу с религиозной красавицей! Как я должен был это воспринять? Я никого не обвиняю, но извещение было составлено так, словно мое присутствие на свадьбе было не слишком желательным. Мало что прояснила и твоя приписка в конце письма. Ты, надеюсь, простишь меня, но я очень чувствителен к нюансам языка. Все выглядело так, что мое присутствие – или отсутствие – на свадьбе не так уж важно. А теперь вспомни, что это все было зимой, в середине академического года и при полном отсутствии свободных денег, необходимых для подобного путешествия. Надо ли мне было появиться там, чтобы рука об руку стоять под брачным пологом с женщиной, которая уже пыталась убить меня, пусть даже все остальные делали вид, что… что все в порядке. Ну, как тебе это?
Принесли пирожные и кофе. Я сидела, совершенно ошеломленная этим взрывом признаний. Таким фантастическим и неожиданным проявлением враждебности. Такой жестокости. Он глядел на меня не отрываясь, таким взглядом смотрел иногда на меня Аси, но взгляд его был много менее суровым. Неудержимый поток, обрушившийся на меня, был столь же музыкален, сколь и суров. Кто это хотел его убить? Великий боже, о чем это он здесь толкует? Правильно ли я все расслышала? Должно быть, он тоже болен. Что это за семейство, в котором я оказалась? Я содрогнулась от страха. А он наклонился над тарелочкой с пирожными и стал с видимым наслаждением обнюхивать их. Затем достал две зеленые таблетки и начал их жевать.
– Это чтобы проснуться. Я добирался более семи часов и все еще не могу прийти в себя. У меня затекли ноги… такого со мной никогда раньше не случалось. Должно быть, становлюсь стар… тебе не кажется?
И он откусил пирожного.
– Я хотел написать твоим родителям и извиниться перед ними… и перед тобой, разумеется, тоже. Я предпринял некоторые усилия, чтобы разузнать о них побольше… через своих друзей в Иерусалиме. У них, как мне сказали, есть магазин бакалеи, так что выходит, они вполне порядочные и обеспеченные люди. Скромные венгерские евреи… Я правильно говорю? Вы из Венгрии?