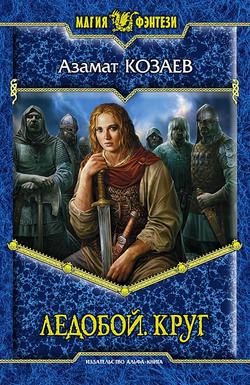Читать книгу Ледобой. Круг - Азамат Козаев - Страница 2
Часть первая
ОДНА
Глава 1
ЖИВ
ОглавлениеНе знаю, кто из богов сжалился надо мною, самой распоследней дурой. Ратник? Или бог домашнего очага Цеп? Впрочем, дело не во мне. Еще чего недоставало – в угоду прихоти сумасшедшей бабы закатывать под горку достойного человека! Боги рассудили по-своему, и за это я останусь благодарна им до последнего дыхания. Когда мой меч остервенело пошел вниз, Безрода в тот же миг покинули силы. Истекли, как вода из разбитого кувшина. Сивый закрыл глаза, отпустил сознание и, не выпуская меча, повалился наземь, а между ними – клинком и человеком – пролег тончайший волосок. Как обещала, я насмерть полоснула муженька, но мечу не было суждено отведать его крови. Боги разрешили ударить, но не позволили добить. Так и нашли они землю друг за другом, Безрод и мой меч в нескольких пальцах от его головы. Предчувствуя непоправимое и не в силах остановить удар, я рухнула после замаха на колени, а клинок врубился в истоптанную землю у самой головы беспамятного Сивого.
– Ты гляди, била насмерть, не убила, – вкруговую понеслось по толпе. – Когда такое увидишь?
Как во сне я вертела головой по сторонам, ничего не видела, и даже слышимое до меня не доходило. Кто жив? Кого не убила?
– Кажется, плачет…
– Плачет? Жалеет, что не убила! Как пить дать жалеет! А добить нельзя – уклад не велит. Если избежал смерти, должен жить. А как же?
Нас окружили. Подходили вои, приказчики Брюста, сам купчина встал над Безродом. Я лишь слышала шорох травы под ногами и не смела открыть глаза. Кто-то от злости за такой исход заскрипел зубами.
– Что делать с этим? – спросили незнакомым, хриплым голосом.
Брюст помедлил:
– Ничего. Он не выживет. Готовьте тризные костры. После полудня тронемся дальше.
Люди стали расходиться, вокруг меня опустело, стихли звуки, а я, дура, все стояла на коленях, раскачивалась, как припадочная, и подвывала вполголоса. Не могла избыть тяжкого чувства непоправимого, что не давало вернуться к себе, прежней. Так бывает. Вот перейдешь незримую грань и полсебя оставляешь за чертой. Все не то, все не так. Будто внутри, по самой середке зазмеился шрам, с одной стороны остается прошлое, с другой грядущее. И холодно… от чувства безысходности веет могильным холодом.
Кто-то, приволакивая ноги, колченожил к месту побоища. Ну, кто еще не видел подлой убийцы? Кто не разнюхал солоноватый смрад? Кто припозднился? Меня грубо пихнули, и я слетела с коленей наземь. Как стояла, так и упала – плашмя, лицом в землю, удобренную кровищей до тошноты.
– Двинься, змея! – прохрипела Гарька, и от участи быть растоптанной меня спас Тычок – это он сдерживал нашу коровушку и вовремя отпихнул в сторону. После кровопускания мудрено оставаться в добром здравии.
– Гарюшка, милая, побереглась бы. – Старик суетливо бегал вокруг нас, то к Безроду кинется, то к Гарьке. – И Вернушку не тронь! Забыла?
Сивый заповедал меня трогать… вот и не стали мараться. Вспомнили последние слова. Но что это… мне кажется или действительно Гарька напряглась и подняла с земли тело? Земля у моего лица вздрогнула, как если бы человек с тяжелой ношей сделал первый шаг. Тычок помогал и, задыхаясь, болтал без умолку.
– Осторожнее, Гарюшка, не растрясти бы… А сдай маленько вправо, пригорочек обойдем… А на тряпки пустим рубаху, я всего-то дважды надел…
– Помрет, – обреченно буркнула наша коровушка, и голос ее сорвался, ровно звонкий меч треснул.
– А помрет – на костер взнесем. Ты да я.
Раньше он ее Гарюшкой не звал. Гарькой, зловредной девкой или, на худой конец, язвой. Но чтобы Гарюшкой… А для меня… самое время решить: жить или умереть. Нечего тянуть. Сделала непотребное – пошла вон в чертог Злобога, там самое место, хватит совести небо дальше коптить – открывай глаза и принимай должное. Сколько раз в морду плюнут – столько утрусь.
Гарька под ношей захрипела, видать, повело ее. Насилу удержали со старым. Я не утерпела и приоткрыла один глаз. Мамочка, да разве бывает на свете такое яркое солнце? И как в чертоге Злобога обходиться без него? Интересно, можно ли умереть только силой воли, от горя? Ну, вот я, дура, жить не хочу, поедом себя ем, обязательно ли нож в сердце сажать или само разорвется? Недолго уж осталось. Внутри тяжело, как будто проглотила неподъемную глыбищу, и катается она, и давит, к земле тянет. Смогу ли с такой тяжестью в груди встать?
– Ну давай, милая, вставай. Помогу. – Со спины подошел дозорный, та самая орясина, что пялился на меня, когда перед рассветом в лес кралась. – И не горюй, что не убила, сам помрет.
Дур-рак! Оттолкнула протянутые руки и одним махом взвилась на ноги. Он отпрянул. Всего-то помочь хотел. А сердце, как видно, лопаться вовсе не собиралось, хотя и разбежалось, мало, через рот не выскочило. Грудища так ходуном и заходила. Хоть бы и треснуло надвое, что ли! Смотреть мне и слушать все это непотребство?
– Сволочи! Все сволочи! – рявкнула что было сил, подняла с земли ком окровавленной земли и запустила в глуповатого дозорного, что хлопал передо мной глазами и не понимал, в чем дело.
– Упаси меня Цеп от женитьбы! – Парень сотворил обережное знамение и тихонько попятился. Должно быть, подозревал раньше, что все бабы дуры, теперь убедился в этом наверняка. Да, я дура! Дура! Где мой нож?
На меня оглянулись. Кто-то из воев покрутил пальцем у виска, дескать, у бабы с головой беда приключилась. Мудрено ли – столько крови слилось! А я шарила по поясу в поисках ножа и блуждала в трех соснах – с десяток раз пробежалась пальцами по клинку и не узнала. И только было нащупала рукоять, кто-то подошел со спины и грубо развернул меня к себе. Я не видела, не соображала, только одно и думала без конца: как в чертоге Злобога будет без солнца?
– Полегче, девка! Нож после такого – последнее дело.
– Сволочи! – шипела я и тащила лезвие из ножен.
– Не дури!
– Там не будет солнца! И не надо! – Левой рукой врезала неизвестному доброхоту по сусалам и рывком вытащила нож.
Кого ударила – не видела, перед глазами повисло красное марево. Сослепу несколько раз полоснула воздух перед собой, чтобы не мешали, и задрала лицо в небо. На взводе и сунула бы клинок себе в грудь, да не судьба. Этот кто-то с двух рук от всей души отвесил папкиной доченьке таких тумаков, что небо и земля несколько раз менялись для меня местами. В последний раз боги, видать, что-то напутали, землю убрали на небо… И где в небесах я нашла головой тот камень?
Вечерело. Солнце падало за дальнокрай, и свое брали сумерки. Голова налилась такой тяжестью, что я мигом позабыла про тяжесть в груди. Сердца, если оно бывает у неописуемых дур, больше не чувствовала. Вот бы кто-нибудь подошел и расколол мне голову! Лучше уж совсем без головы, чем голова с такой болью!
Кое-как поднялась. Верна, Верна, кто же тебя так? Видать, кто-то исполненный глубокой мудрости лишил сознания. Когда нож совала во все стороны, пострадать мог кто угодно, поэтому неизвестный мудрец счел за благо просто разлучить меня с памятью. Ничего страшного, погуляет и вернется.
Откуда-то тянуло палевом. Обоз Брюста уже ушел, и после него остались тризнища – огромные погребальные костры. Чуть поодаль, в стороне от тропы, прямо на месте давешней схватки курились дымком четыре кучи с пеплом, древесным и людским. Там и было мне самое место, на одном из костров. Жаль, никто не догадался швырнуть в пламя, пока пребывала без сознания. Всем стало бы легче. Столько народу из-за меня, вертихвостки, полегло – жизни не хватит избыть тот грех. Больше от обоза Брюста ничего не осталось. Ни следов, ни вещей. Только лошадиный помет кучно лежал там, где стояли обозные коньки.
Я подошла поближе. Сама себя накручивала – присела под ветром и дышала палевом, хуже себе делала. Голова и так тяжела, пусть разорвется от горьковатого дыма. Если не лопнет, на всю оставшуюся жизнь запомнится запах глупости и вины. Не знаю, сколько мне осталось, но, сколько бы ни осталось, запомню.
В ту сторону, где маленький стан разбили Гарька с Тычком и куда унесли Безрода, старалась не смотреть. Но что бы себе ни говорила, косилась исподтишка. И незаметно, шажок за шажком подходила ближе. Делала вид, будто что-то ищу. Даже слышно стало, о чем говорят.
– Вот и говорю, дескать, нет на Безроде вины. Ничего худого не задумал, словом никого не обидел. Но что же делать, если твои люди воровством промышляют?!
– А он?
– Нахмурился и спрашивает, мол, что украли?
– Жену! Я так и сказал – жену! Кто такое стерпит? Брюст подумал, подумал и кивнул. А что делать? Как отпираться, если парнишка даже не ходит и неизвестно, сможет ли вообще бабу приласкать.
Гарька прошипела вполголоса, но даже гадать было не нужно, о ком она:
– Змея подколодная!
– А раз так, говорю, должок на тебе. Он глаза на меня поднял и молча спрашивает, дескать, какой должок? Говорю, люди мы немощные, старик и две бабы, нам бы еды. Охотой не прокормиться, кто лук натянет? А стоять долго.
– А он?
– Говорит, недолго простоите. Мол, помрет Безрод. Я ему: поживем – увидим. И оставил купчина еды на три седмицы. И еще палатку. А потом я и четырех заводных лошадей продал: к чему нам столько?
Хитер. Сначала подарки выпросил, потом и лошадей сбыл. Пригляделась. И впрямь стоит палатка по ту сторону дороги, рядом горит костер, у огня сидят Гарька и Тычок. И тело лежит, закутано до самых глаз в одеяло. Неужели жив?
Пока подходила, думала, ноги растрясутся. Приволакивала, будто старуха. Те двое умолкли, оторвались от Сивого, глянули в мою сторону. Не доходя нескольких шагов, я замерла как вкопанная. Будто стена воздвиглась, чем ближе становилась к палатке, тем тяжелее давался каждый шаг. Потом и шагу ступить не смогла.
Гарька тяжело поднялась и двинулась мне навстречу. Шла тяжело, опираясь на рогатый костыль. Остановилась в шаге, неловко переступила и костылем прочертила полосу между мной и собой.
– Переступишь – убью.
– Мои вещи…
– Принесу. Стой тут.
– Гарька…
– Змея!
Вынесла мой нехитрый скарб, швырнула в пыль, прямо за черту, и еще раз глубоко очертила границу.
– Скатертью дорожка!
– А я никуда не ухожу.
Ей показалось, что ослышалась. Уставилась на меня хитрыми синими глазищами и заморгала.
– Что?
– Я… никуда… не ухожу, – отчеканила и улыбнулась. Когда болит голова и чувствую себя дура дурой, становлюсь такой наглой.
– Гадина…
– Хочешь убить – убивай. Давно пора…
Я встала неподалеку, почти прямо у черты. Натаскала из лесу ветвей, соорудила шалаш и… осталась. Видела все, слышала все, но помочь ничем не могла. Гарька со мной больше не разговаривала, Тычок говорил, но с затаенной мукой в голосе. Сивый не подавал признаков жизни несколько дней кряду. Лежал и не шевелился. Дышал так слабо, что и вовсе было не понять, теплится жизнь или нет, лишь кровотечение давало понять – еще бьется сердце.
Тычок вовсе не отходил от Безрода. Даже спал тут же, под боком. По три раза на дню Гарька таскала окровавленные льняные полосы к речке, что текла неподалеку, стирала и сушила, перевязывал старик. А у меня обнаружилась только одна забота – сидеть у черты и пялиться по ту сторону, как там Сивый. Садилась и смотрела иногда по полдня кряду, не отрываясь. Однажды, когда Гарька убралась на речку стирать повязки и прочее белье, негромко окликнула Тычка. Старик, почти не смыкавший глаз, осунулся, похудел, по лицу пошли тени, стал едва похож на себя.
– Чего тебе, болезная?
Хорошо хоть разговаривает со мной. Гарька вообще ни слова не сказала с тех самых пор, как определила границу.
– А помнишь, ты сказал, что детки у нас пойдут славные? Ну, тогда, у Ясны, помнишь?
Помолчал.
– Помню. Знать, ошибался.
Была бы я еще вчерашняя, злая и сердитая, сказала бы, что эти слова как по сердцу резанули. А сейчас ничего, хуже не стало. Просто не могло быть хуже.
– Помнишь, кошкой зыркала? Царапалась, кусалась, помнишь?
– Помню, Вернушка, помню. Было и прошло. Уж на что я старый, пожил, думал, знаю жизнь… И на старуху бывает проруха.
– А вдруг не ошибался?
Тычок усмехнулся, поднял измученные глаза к небу.
– Если бы не ошибался, такого не случилось. Ведь чудом не отправили на тот свет! И то неизвестно еще. Был бы обычным человеком, уже стризновали, и думать не пришлось бы, ошиблись или нет. Что молчишь, красота, глаза прячешь?
Был бы мой муженек обычным человеком… А ведь верно, будь на его месте обычный человек, тот же Вылег или глуповатый дозорный, на мне уже лежало бы клеймо «убийца». Если бы да кабы… Не делая скидок на подарки судьбы, я и есть убийца. Сколько людей на тот свет отправилось из-за меня. Было бы еще одним больше…
– Ничего я о нем не знала. И раньше замечала, что он какой-то не такой. Не так смотрит, не так рубится… Расскажи мне, Тычок. Хоть что-нибудь расскажи.
– И сказать мне тебе, Вернушка, нечего. Захочет – сам расскажет. Если жив останется. Недосуг мне, красота. Гарька возвращается, перевязывать пора.
Куда Безрод зашвырнул мое кольцо, когда освободил от жениных уз? Куда? Голова дырявая, ничего не помню. Хотя вспомни тут… Все, что знала на тот миг, в огне сгорело, когда полыхнул в голове костер отчаяния. Себя забыла, не то чтобы смотреть, куда кольцо улетело. Как будто… стояли мы около нашего стана, Сивый смотрел на восток и кольцо отшвырнул от себя лев… правой рукой. На следующий день, когда Гарька убежала стирать повязки и вообще по бабским делам, я тихонько перебралась через рукотворную границу и поползла по высокой траве туда, где надеялась найти кольцо. Рыскала, рыскала, возила носом по земле – тщетно. Должно быть, и зад отклячила, пока искала, иначе как старик заметил бы меня в высокой траве?
– Что потеряла, красота?
– Э-э-э… да понимаешь… обронила…
Не скажу, что ищу. Это мое дело. Только мое и Безрода.
– Ох, темнишь, девка.
Тычок даже говорил теперь тускло и блекло, не так как раньше. Дни можно сосчитать, когда не вгонял в краску меня и коровушку. А то и несколько раз на дню. Теперь как будто иссяк родник шуток и побасенок. Знаю, куда ушли все силы. Тычок даже со мной говорил полусонный. Почти не спал, слушал каждый вздох Безрода, и это при том, что услышать дыхание Сивого было сейчас мудрено.
– Как он там?
– А никак. Лежит, ровно неживой. Дышит еле-еле, даже не шевельнется. А ведь четвертый день пошел.
Я подняла голову из травы, огляделась. Идет наша коровушка. Только драки сейчас не хватало. Ровно ящерка поползла обратно и, слава богам, успела. Кольцо не нашла. Ничего, попытка не пытка. Попробую еще раз. Еще много-много раз.
Ночи я боялась. Иному за счастье припасть к изголовью и провалиться в легкий сон. Мне – нет. Когда темнело и ночь набрасывала на все сущее молчаливое покрывало, я терялась и сходила с ума от страха. Из темноты вставали призраки, и чудились голоса. Видела Приуддера, воеводу Брюстовой стражи, того, что первым пал от меча Безрода. Гойг смотрел на меня странным взглядом, поджимал губы и качал головой. Видела тех двоих, что пали следом. Парни переглядывались и хмурились, глядя мне в глаза. У обоих раны сочились кровью, и славные малые недоуменно косились на окровавленные рубахи. А еще я боялась в ночной тишине услышать хоть малейший звук со стороны палатки. Так и твердила себе, кутаясь в одеяло: «Только бы Гарька не заголосила», «Лишь бы Тычок не стал блажить». Это значило бы только одно – его не стало. Моего Безрода не стало. И все равно сон не шел. Ворочалась и вскакивала на ноги от малейшего шороха. Начнет старик суетиться у ложа Безрода, я, как пугливая олениха, уже на ногах. Зашуршит Гарька ветками, я и тут подскакиваю. Только к утру забывалась беспокойной дремой.
– Шестой день уже, – мрачно буркнула Гарьке, стоило той выйти из палатки. Я не переставала здороваться. Моя вина, этим людям нечего ждать хорошего от предательницы. Сколько раз плюнут – столько раз утрусь. Сволочное дело не хитрое.
Она промолчала. С тех памятных пор больше не говорила. Лишь однажды бросила как будто в небо:
– Встанет Безрод на ноги, захочет с тобой говорить, значит, и мне не с руки нос воротить. До тех пор знать тебя не знаю. Все сказала и повторять не буду.
Я утерлась. И ведь не спрячешься за широкую спину отца. Одна стою в чистом поле, вся на виду. Дура, каких на свете не бывает. И ушла бы, да ноги прочь не идут. Как будто не верят, что все кончено.
– Дай хоть глазком взглянуть.
Ничем наша коровушка не ответила, лишь посмотрела выразительно. А, плевать! Вот к ручью отлучится, перейду границу и посмотрю. Не могу больше. Он мой, слышишь, дура, мой!
Стоило Гарьке отойти, ужом порскнула за черту. Кашлянула у палатки и, когда изумленный старик откинул полог, нырнула внутрь.
– Тычок, миленький, дай хоть поглядеть на него!
– Не нагляделась?
Не-а. Я простодушно покачала головой. Не нагляделась. В ужасе прикрыла рот ладонью, да и сами руки ходуном заходили. Ноги подкосились, и я рухнула у тела своего бывшего. Исхудал, щеки ввалились, губы плотно сжаты, бледен как снег, а на лице застыло то упрямое выражение, какое бывает у рыбаков, когда те тащат крупную рыбину. «Не пущу!» Он ухватил жизнь за скользкий хвосток и держит из последних сил. Много ли тех сил осталось? Покрывало кровищей испачкано, что под покрывалом творится – даже думать не хочу.
– Что же ты наделала, красота? – покачал головой старик. – Что же ты наделала?
Не смогла ответить. Сивый будто на весах качался, и, для того чтобы отправить его на тот свет, шесть дней назад, не хватило одного-единственного удара. Моего. Боги, боги, если он выживет, никогда не перестану удивляться вашей мудрости. Просто смотрела на Тычка и видела будто в тумане – слезы набежали.
– Думал, понимаю что-то в жизни – нет, не понимаю.
Я тоже так думала. Даже не говорю о том, чтобы мир понять – себя понять не могу, хотя кое-что все же поняла. Безрод мой, и только мой!
Вдруг поток света, что лился внутрь через откинутый полог, что-то перекрыло, мы обернулись, и я не смогла узнать Гарьку. Глаза были в слезах. Просто нечто большое стояло в проходе и грозно молчало.
– Гарюшка, ты вернулась? Так скоро? – упавшим голосом прошептал Тычок.
– Удавлю гадину, – бросила так равнодушно, словно говорила о какой-то букашке.
Только и поняла, что мощная рука ухватила меня за шиворот и повлекла вон из палатки. У самой границы коровушка вздернула стоймя и от всей широкой души приложилась кулаком. Я не сопротивлялась. Больнее было смотреть на Сивого, нутро ледком холодило. Гарька валяла меня по земле и приговаривала:
– Добить решила? Тогда не получилось, теперь хочешь?
Промолчала. Толку от слов никакого. Лишь одно и радовало – она ни разу не ударила в живот и в грудь, только ребра мне сосчитала и зубы. Ишь ты, понятливая! Как будто увидела мое бабье будущее. Так мне еще понадобится живот? Глотая кровь из разбитых губ, я уползла к себе и в кои-то веки не видела призраков. Впервые за шесть дней. Провалилась в забытье, улыбаясь…
– Седьмой день уже, – прошамкала утром распухшими губами и улеглась у черты. Настелила лапника и улеглась. Так ребрам спокойнее. – Как он?
Тычок спал, беспокойно ворочаясь. Через откинутый полог я видела это отчетливо. Умаялся едва не вусмерть. А Гарька по обыкновению промолчала. Даже не покосилась в мою сторону. Плевать. Еще и спасибо скажу за спокойную ночь. В полдень уйдет на ручей, там и посмотрим.
Еду, что оставил купец, Тычок разделил на всех. Мое лежало у шалаша, едва початое – есть просто не хотелось, и по-моему, зайцы и мыши изрядно к нему приложились. Все равно. Еще разок попадусь Гарьке под горячую руку, даже эти крохи станут не нужны. И лишь когда поднялся Тычок, а коровушка подалась к ручью, я просипела:
– Лошадей бы выпасти. На длину повода все вокруг объели. Сделаю, если дадите.
Старик устал держать на меня сердце. Коротко кивнул и склонился над Безродом. Я тянула шею, заглядывала ему за плечо, но ничего не увидела. Закрыл. Ну, перевязывает старик, и пусть себе перевязывает. Увела коней на другой конец поляны и улеглась там же. Напекло голову летним солнцем, забило обоняние полевым разнотравьем – не заметила, как подошла Гарька. Что-то сумасшедшее вздернуло меня над землей и так встряхнуло, что все косточки взвыли, застучали друг о друга.
– Мало того, чуть не убила, без лошадей оставить хочешь?
Не-а, не хочу. Просто выпасаю. Но сколько же злобы накопилось в нашей коровушке! Все это время смотрела на мои чудачества, и вот прорвало ее. Душа полезла: не так на Безрода смотришь, не так на него дышишь. А куда мне деваться? Мне либо на этом свете поближе к нему, либо сразу на тот. О боги, как же хорошо бывает избавиться от сомнений и перестать обманывать саму себя. Кто только не выколачивал из меня дурь! Оттниры в море, темные в лесу, лихие на дороге, неизвестный доброхот, что разлучил меня с памятью на целый день здесь, на поляне. Так и сказала:
– Кончай. Надоело. Нечего гладить, пора бить.
Думала, убьет.
– Безрод не убил, и я погожу. Но к лошадям на перестрел не подпущу. Так и знай.
Отшвырнула, и угодила я в дерево, что стояло в двух шагах. Молодой дубок встрепенулся до самой кроны, а я еще долго дышала вполраза – внутри будто съежилось.
Когда поем, когда нет. Иной раз костерок разведу, определю котелок на огонь и сижу, бездумно гляжу на пламя. Несколько раз каша в угли прогорала – засиживалась до потери сознания. Мыслями далеко блуждала. Выбрасывала гарь и начисто перемывала посуду. Что поела, что не поела, одна хмарь внутри.
Мимо постоянно шли обозы. Оно и понятно, городок Срединник недалеко, а мы встали на самой дороге. Когда остановятся обозники на ночлег, когда нет, чаще мимо проходили. Но те несколько раз, когда у нас появлялись незваные соседи, я и вовсе глаз не смыкала, держала меч под рукой и приглядывала за палаткой. Не соблазнился бы кто-нибудь легкой добычей. Но по большинству соседи оказывались некрупными купцами, а таких обозов, как Брюстов, больше не встречали.
На восьмой день в самом вечеру подошел небольшой обоз и встал на ночлег. Обозники разбили стан как раз между нами и ручьем. Как водится, пришли поздороваться и оглядеть, кого нелегкая принесла в соседи. А может быть, наоборот – легкая. Я по обыкновению сидела у черты, когда они прошли мимо, четверо здоровенных мужиков и старик. Сдержанно закашлялись у палатки. Загораживая вход, из проема появилась Гарька и напряженно выглянула из-под бровей.
– Доброго здоровья соседям. – Все пятеро поклонились в пояс.
– Было бы здоровье и добро появится.
– Здоровья побольше, добра погуще, – разлыбился дед.
– Не приглашаем. – Из палатки выполз Тычок и развел руками. – Больно хоромы невелики.
Оба и словом не обмолвились, что внутри раненый лежит. Нечего дурной глаз приманивать. Тут одно зловредное слово, один недобрый взгляд могли нарушить равновесие и столкнуть Сивого в пропасть.
– Я – Потык, это мои сыновья. – Старик назвался сам, потом представил великовозрастных отпрысков, одного за другим: – Цыть, Полено, Перевалок и Тишай.
Мужики как мужики. Глаза настороженные, сразу выхватили взглядом Гарькину секиру и понимающе нахмурились. Слишком основательные для необдуманных глупостей и донельзя решительные для обдуманных поступков. Знала я таких. На пахотной земле иных не бывает. Тишай мне не понравился. Брови кустистые, глаза черные, вроде бегают, но наверняка не скажешь. Были бы глаза светлые, сразу углядела. А так…
– Не побрезгуйте, соседушки, отпробуйте. На торг везем. От всей души. – Потык преподнес шмат сала с красными прожилками и кувшин питья. – Бражка пшеничная, самолично на клюкве настоял.
Тычок понимающе кивнул и юркнул в палатку. Вынес мешок крупы. Без ответного подношения нельзя, никак нельзя. Мужики сдержанно приняли крупу, кивнули. Подошли ко мне.
– Я Потык, а это…
– Твои сыновья Цыть, Полено, Перевалок и Тишай. Едете на торг, бражку самолично настоял на клюкве. Все слышала.
Старик преподнес мне домашней простокваши в горшке. Увозят на торг еще молоко, но пока путь-дорога, тряска да болтанка, молоко благодаря хитрой закваске превращается в простоквашу, да такую, что пальчики оближешь. Я отдарила драгоценной солью. Много отдала. Мне в жизни и без того соли хватает. Вон сколько ее с кровищей на землю слилось!
– А…
– Мы не вместе, – опередила Потыка. Тот понимающе кивнул и дальше расспрашивать не стал. Лишь ухмыльнулся.
Полуночничали соседи тихо. Уж как водится, и бражки хлебнули, но шума не развели. У тех, кто живет пахотой, буйство не в чести. Земля требует обстоятельности, и в поле выверты обходятся дорого. Были бы еще молодые да бесперые, еще куда ни шло. Но не эти…
Наконец все улеглись и как будто уснули, но мне не спалось. Призраки. Опять. Отчего-то привиделся тот ражий детина из дружины Круглока, что воспылал ко мне страстью. Смотрел на меня укоризненно и качал головой. Я заметила, на следующий день после таких видений меня словно уносит из этого мира. Засыпаю прямо на земле у черты. Усталость берет свое. Значит, теперешней ночью все равно не усну, а вот к полудню меня точно косой подрубит – свалюсь там, где буду стоять. Сивый без изменений, даже не застонет. Где уж тут застонать, так зубы сцепил, дышит еле-еле.
Вылезла из шалаша, посмотрела на небо. Звезд высыпало видимо-невидимо. И отчего-то в благостной ночной тиши мне почудилось какое-то движение. Именно почудилось. Как будто тень зашуршала, а я услышала. Припала к земле, ровно кошка, и осторожно поползла вперед, благо трава выросла – по колено. Сначала не могла понять, откуда шуршит, ползла наугад, потом распробовала звук наверняка и двинула к выпасу, там стояли кони, мой Губчик и трое остальных. Нет, вы только поглядите, из травы показалась лохматая голова, огляделась и опять шасть вниз. Кто-то из соседушек решил созорничать. Я припала к земле и какое-то время лежала неподвижно. Пусть первый обнаружится.
Один из гостей-соседей, как полоз, крался к нашим лошадям, и объяснение у меня находилось только одно – приглянулся табунок. Ничего иного придумать не смогла. А кто смог бы? Того и гляди, без лошадей останемся, но вовсе не по моей вине, как думала Гарька. Подождала, пока конокрад проползет мимо, затаилась в траве и тихонько пристроилась ему в хвост. Тихо, сволочь, ушел, не знала бы, что ползет, – никогда не догадалась. Как будто подсказал кто. Ражий детина? А ведь правда! Призрак ражего тряс головой и делал губами «Иго-го», словно лошадь изображал. Ай спасибо!
Ночной вор подполз к лошадям вплотную и остановился. Давал привыкнуть к себе. Что-то зашептал, успокаивая табунок, и медленно приподнялся из травы. Тут и я, как могла, тихо подкралась. На меня лошади и ухом не прянули, ну ползет Верна и пусть ползет себе. Эка невидаль! Нет, это не старик Потык. Кто-то из его сыновей, но кто – поди угадай. Все, как один, коренастые и лохматые. Были бы хоть рубахи разного цвета – нет же! Одинаковые, ровно гуси.
– Тихо, мои лошадушки, тихо красивые!
Потянул руки приласкать, но мой Губчик и Безродов Тенька, всхрапнув, прянули назад. Не дались. Не успокоил их напевный голос. Я тише мыши поднялась и, ступая, ровно кошка, сделала шаг вперед. Нож давно вынула из сапога и теперь крепко сжимала мечным хватом. Раньше, бывало, от азарта делала глупости, никогда не удавалось подкрасться незаметно. Там нашумлю, тут себя выдам. Еще на отчем берегу воевода Пыряй говорил, дескать, все хорошо делаю, но сердце бухает так, что можно услышать, а от волнения начинаю преть, и сладковатый бабий запах расскажет обо мне чуткому носу прежде, чем увидит острый глаз. Наверное, что-то изменилось. Азарт ушел. Сердце бьется ровно и равнодушно. Кожа суха, словно земля в безводную пору. Наверное, поэтому соседушка и не услышал. Всего в шаге поднялась из травы и выросла прямо за спиной. И только он протянул руку к поводу, скорее молнии завела нож под челюсть и прижала острой кромкой к горлу, чуть пониже бороды. Ага, поучите дружинного неслышно подкрадываться!
– Не спится, милый? – ласково прошептала в ухо.
Как был – с протянутой рукой, Потыкович замер. Даже слова не сказал. Должно быть, я пережала, слишком плотно сунула лезвие к глотке. Чтобы лилась речь, горло должно ходить вверх-вниз, конокрад же не смог вымолвить ни слова.
– Сейчас мы тихонько развернемся и пойдем обратно, – шепнула. – Лишний раз вздохнешь, раскрою горло. Я дура, пятнадцать человек на этой поляне из-за меня упокоились. Глазом не моргну, распахну второй зев. Понял?
Понял.
– Буду говорить, кивни, если угадаю. Ты – Тишай?
Потыкович помедлил и кивнул. Значит, не показалось, действительно глазки бегали. Так и пошли вперед медленными шажками, рука с ножом под бородой.
Чего-то подобного я ждала. Такие слишком хитры, чтобы не попытаться выскользнуть. Ровно уж прокрутился на одной ноге, повернулся лицом ко мне и нырнул вниз. Дур-рак. Не то чтобы опоздала его вскрыть, просто не хотелось крови. Ее и так слилось на этой поляне больше, чем необходимо. Пусть живет. А вот он решил меня кончать. По нехитрой прикидке Тишая расклад выходил незамысловатый – девка одинокая, сама сказала, что не с теми двоими, значит, никто не хватится. Скажет остальным, будто собралась в ночи и ускакала, дескать, и лошади нет, видите? А что нож и меч при мне – всякий дурак полезет проверять, мои или нет. Конокрад прянул в ноги, подсек и навалился, обеими руками опутав руку с ножом. Я не ломалась, держит руку с ножом – пусть держит, но, когда борода густа и окладиста, жди неприятностей с любой стороны. Зачем терзать руку в локте, возвращая себе нож? Дернула шеей, ухватила зубами бороду. Рот мне забили жесткие волосы, я закрыла глаза – в нос ударили терпкие запахи пота и чеснока – и, отбрасывая голову назад, дернула изо всех сил. Глухой, сиплый рык вырвался из разверстого рта, непрошеные слезы прикрыли лошаднику глаза, и Тишай, позабыв обо всем, исступленно замолотил кулаками, куда ни попадя. Забыл про нож. Парни на отчем берегу говорили, что рвать бороду на горле очень больно. А я мотала головой по сторонам и старалась не думать о кулаках, что охаживали меня по бокам. Вернула руку с ножом, завела конокраду за спину, легонько подоткнула в темечко и прекратила рвать бородищу. Ощутимый укол заставил Тишая замереть. Я выплюнула бороду и внятно произнесла:
– Вдохнешь не ко времени – порежу. Обними.
Он не поверил. Обними?
– Быстро обними. Ясно говорю?
Ясно. Завел руки мне под крестец и прижался всем телом.
– Теперь перекатывайся на спину. Всего один поворот.
Потыкович осторожно перекатился на спину, каждый миг ожидая нож в затылок, а я по мере переворота уводила нож с темени на шею. Бок болел. Недавно получила в бока от Гарьки, теперь этот приложился.
– Медленно встаем.
Это я сказала «медленно встаем». На деле подскочила быстрее оленихи, поднятой волками, а вот Тишай вставал действительно медленно. Хватит на сегодня глупостей.
– Ослабь гашник.
Ослабил.
Скользнула ему за спину, молниеносно просунула руку с ножом за веревку и, прокрутив кисть один раз, затянула гашник петлей на запястье, при этом нож мертво уперся Потыковичу в спину.
– Ты один или все такие?
– Что?
– Спрашиваю, один любишь лошадок или отец с братьями тоже в деле?
– Один, – глухо бросил конокрад. – Их не тронь.
– Дурак ты, лошадник.
Мы подошли к стану Потыковичей, и я со всей дури пнула распорку, на которой держался тканый полог.
– Подъем! – заревела что было дурости. – Утро доброе, доброй ночи!
Как огурцы из бочонка, наружу посыпались гости-соседи, заспанные и немного хмельные. А кого бояться? Двух баб да старика?
– Что такое? Лихие напали?
Все четверо, на ходу оправляя рубахи, зевая, почесываясь, выкатились из-под полога. Кто-то из братьев раздул тлеющие угли.
– Да нашла тут одного, – выпростала руку из-за гашника и толкнула конокрада в руки отца и братьев.
В неверном свете кострищного огня лица всех четверых сделались ровно каменные. Старик так и вовсе поджал губы и свел брови на переносице. И только теперь, когда угроза миновала, я с отвращением отплевалась.
– Что опять учудил? – Потык с недоброй ухмылкой подошел к сыну. – Спрашиваю, что опять учудил?
Тишай кротко вздохнул и отвернулся.
– Лошади, – только и буркнул.
– Опять? – взревел отец и от души приложился карающей дланью к лицу сына. Голова лошадника только дернулась.
– Отец, я…
– Цыть, недоносок! – Кто-то из сыновей, как бы не сам Цыть, здоровенной ручищей так огладил брата, что незадачливый вор согнулся пополам и повис на кулаке старшего.
– Встань, бестолочь! – Потык за волосы вздернул непутевого отпрыска на ноги. – Всю душу вымотал! Уж сколько раз краснел из-за тебя на людях – украснелся весь! Обещал от земли отлучить – отлучу! И не посмотрю, что родной сын, – по миру пойдешь! Марш внутрь!
Здоровенный детина, кое-где и сам битый сединой, нырнул под полог, ровно нашкодивший отрок. Подозреваю, что отец и братья еще наддадут, когда вблизи не останется чужих глаз. Братья с самым свирепым видом друг за другом скользнули следом, старик задержался. Виновато посмотрел на меня, развел руками и поклонился в самый пояс. Я слегка кивнула. Ну до чего борода отвратна на вкус!
Немного времени прошло. Кто-то негромко кашлянул у входа в шалаш, и я вылезла.
– Уж ты прости меня, старика. – Потык топтался у входа и мял в руках какой-то сверток. – Дурак дураком сын вырос. На земле с малолетства, а ровно лошадиный дух вселился, тянет к ним и тянет. Спасибо за сына. Убить ведь могла?
Все старый понимает. Знает, что не бить полез Тишай – убивать. Убил бы, и концы в воду, мол, знать не знаю, ведать не ведаю.
– Могла и не сладить. Шустер, подлец. В дружину бы ему. Цены не будет. И при лошадях опять же.
– Да был. – Старик обреченно махнул рукой. – Коняки попутали.
– Стало быть, ущучили?
– Ущучили, – улыбнулся Потык. – Вон погнали.
А может, и не стал бы убивать. Тут ведь как – привяжи к дереву и махни ручкой. День повоевала бы с веревкой, а там ищи-свищи и Тишая и коня. Если был дружинным, да с такой быстротой… мог и убить, ведь наверняка знает как. С течением времени все меньше оставалось во мне самодовольной похвальбы. Да, мог и убить.
– Говорит, людей трое, лошадей четыре. Зачем лишняя? – Старик тем временем развернул тряпицу и расстелил у входа, прямо на лапнике. На самобранке остались кувшин и сыр-каменец, чей своеобразный запах я тут же узнала.
Сыр-каменец штука интересная. Кусать, как обычный сыр, невозможно – зубы обломаешь. Лучше всего обсасывать, запивая бражкой. Потык предложил зла не вспоминать, а в знак добрых намерений уговорить каменец и найти дно кувшина с бражкой. Может, хоть брага нагонит сон?
– Да не трое нас, четверо. Четвертый в палатке.
– Чего ж не выходит?
– Не может. Порублен. Восьмой день закончился.
– Скажи пожалуйста! – Мой гость почесал загривок. – Не встает?
– Не-а.
Огня не зажигали. В темноте смутно белела тряпица, на ней чернел кувшин, по обе стороны которого лежали ломти сыра. К браге прикладывались по очереди, каменец брали на ощупь.
– Не знаю, встанет ли.
– Хочешь, чтобы встал?
– Все бы отдала.
Старик помолчал.
– Всю жизнь я на земле. Иной раз кажется, будто все идет само собой и мало что зависит от меня. Боги живут своей жизнью, земля – своей, а между ними я, клоп. Никто и звать никак. Сколько раз руки опускались, думал, не замечают Потыка всемогущие боги, а только раз, когда надежды не было никакой, из меня, дурака, упрямство поперло. Есть у нас в Полоречице поле. Ровно заколдованное. Земля там жирная, на ней бы сеять, ан нет – камни наружу лезут. Хоть ты тресни. Кто только из соседей ни брался – год, от силы два, и снова камни.
– Ну раз из тебя упрямство полезло, в два счета камни раскидал, – слыхала я такие истории. В таких побасенках рассказчик всегда вровень с богами стоит. Все может, все получается. Махнет – улочка, отмахнется – переулок.
– Да нет. – Старик усмехнулся. – Камни на том поле остались. И, подозреваю, пребудут до скончания веков. Боги так захотели.
– Так в чем суть? Камни остались, мороки не убавилось…
– Поле стало моим, – коротко бросил Потык, усмехнулся и булькнул брагой. – У меня три года не было камней. Говорю же, упрямство полезло. Жилы на заступ намотал, но боги меня услышали. Три года от тяжести колосьев пшеница по земле стлалась. Такого не было ни у кого из соседей! Все на свете чего-то стоит. Вот разживусь жилами, еще раз на заступ намотаю. Будут еще три года.
Я умолкла. Упрямство полезло… услышали боги… все чего-то стоит. Не это ли отец говорил, еще там, в прошлом, когда все было хорошо?
– …Если дело у тебя мелочное – боги мелочь и заберут, что-то дорогое – собою расплатишься. Как захочешь, так и получишь. А еще в Беловодице странный сад стоит, вроде яблони как яблони…
– За чем же дело стало? – растерянно пробормотала.
– Жилок маловато осталось, – улыбнулся старик. – Тот сад будет последнее, что дадут мне боги. Свои жилы порву и сыновние не пожалею.
– Уверен, что дадут боги?
– А из меня упрямство полезет, – в темноте белоснежно блеснули Потыковы зубы в щели между бородой и усами.
Из него упрямство полезет. И старик все равно получит то, что хочет. Хотят все, а получит лишь он.
– А ты думаешь, отчего люди стареют и умирают? – усмехнулся Потык. – Было бы иначе, живи человек и живи. Вечно молодой, красивый и здоровый. А только ведет нас что-то. Лезем куда-то, чего-то хотим, и пока желаемое получишь – сто потов сойдет, собою на пути разбросаешься.
– Так чего же я сижу? – Из меня дух попер, захотелось убежать на край света и отыскать нечто, что вернет Сивого в жизнь. – Чего же я сижу? Мне бежать нужно.
– Сиди уж, – Потык за руку усадил меня обратно. – Куда тебя понесло?
– Я должна… мне же нужно…
– На край света бежишь, а за чем – сама не знаешь, – буркнул старик. – Жар-птицу думаешь добыть и сменять на здоровье для порубленного…
– Да!
– Утро вечера мудренее. Ты меня послушай.
Все во мне рвалось наружу, дурных сил столько обнаружилось – Полоречицкое поле от камней навсегда освободить. Но я послушно замерла: если старик просит…
– Что взамен жар-птицы предложишь?
– Себя!
– Дура девка! Не всякий такую цену примет. А как ему жить потом?
– Что дура – верно. Из-за меня порубили. Удавить бы меня, да никто не берется. Никто не пожалеет. Может, Тишая спросить?
– Хватит уж! Глупостей наделал на всю оставшуюся жизнь. Ни к чему еще одна. Как это случилось?
Я коротко рассказала дела восьмидневной давности. Утаила самую малость. Про Вылега никому никогда не расскажу. Со стыда сгорю. Так мне и надо.
– На этом поле, говоришь? Восемь дней назад?
– Еще тризный пепел ветром не развеяло. По ту сторону дороги. Завтра девятый день.
Потык молчал какое-то время.
– Гляди под ноги, девка. Пройдешь мимо счастья, не заметишь.
– Что такое? И чего же я не углядела?
– На край света хочешь бежать, а того не замечаешь, что совсем рядом жар-птица, только руку протяни. Тебе есть что предложить богам. Глядишь, понравится Ратнику подарок.
Есть что предложить? Как так?
– Да и мне польза будет.
– Мудрено говоришь. Ничего не понимаю.
– Иногда сам себя не понимаю. Но говорю дело. Утром скажу. На рассвете…
Уснула как дитя. Может быть, бражкой нагнало сон, ведь дно кувшина мы с Потыком все же нашли, а может быть, надежда прикрыла крылом, и в кои-то веки уснула с верой в лучшее. Что еще старик придумал?
Как будто не ложилась. Кто-то осторожно потряс меня за плечо, и я мигом поднеслась на ноги, ухватившись за меч.
– Тихо, Вернушка, это я, Потык. Вставай, время пришло. Рассвет скоро.
У входа в шалаш стояли двое. Старик хмур и собран, Тишай заспан и весьма помят. Заплыли оба глаза, на скулах синяки встанут. Зевает и ерошит волосы.
– За мной.
Потык направился по ту сторону дороги, на тризнища. Ветер мало-помалу разносил пепел по округе, но выжженная земля еще ясно чернела среди зеленой травы.
– Что удумал, старик? Самое время сказать.
Потык подошел к тризнищам и поклонился.
– Сегодня истекает девятый день. Закрывается небесная дверь за ушедшими в дружину Ратника.
Ну да, сегодня девятый день. Оттого мне и снились Приуддер и остальные вои, павшие под мечом Безрода. Но что хочет сказать старик?
– Сама не знаешь, а ведь у тебя есть для Ратника самое дорогое, что только можно предложить.
– У меня?
– Балда! – Старик укоризненно покачал головой. – Жизнь! Сохраненная жизнь!
Чья? Я не понимала и мотала головой.
– Его! – Старик показал на Тишая. – Проси у Ратника чего хочешь.
Вчера я спасла человеку жизнь тем, что не убила, хотя могла. И эту жизнь вправе преподнести Ратнику. Но человек, посвященный Ратнику, больше не свернет с этого пути! Старик хоть понимает это? Тишай навсегда останется человеком Ратника, человеком боя и меча!
– Не смотри на меня так. Все понимаю. Так будет лучше для всех. Скажешь, жизнь пахаря слаще и безопасней жизни воя? Вчера мало не убили из-за этой простоты, а ведь мирное время, не война! Вот и не знаешь, где найдешь, где потеряешь! В дружине Тишайке самое место.
Старик наклонился и прошептал мне в самое ухо:
– Об одном лишь Ратника попроси – чтобы всегда при лошадях был. И пусть грех минует. Нехорошо это.
Я молча смотрела на Потыка, и казалось, что лицо старика плывет и мутнеет, будто мне глаза слезами заволакивает. А в тех чертах проступает совсем другой лик, и голова кружится, едва не падаю с ног.
– Рассвет скоро, Вернушка. Пора.
Мы стали в самые тризнища, Тишай в одно, я – в другое. Пока открыты двери, через которые девять дней назад пятнадцать воев ушли в чертог Ратника, но с рассветом закроются. И последнее, что ворвется в покои повелителя воев через эти двери, – моя горячая просьба.
– Ратник, вчера я сохранила жизнь, удержалась от смертоубийства. Эту жизнь отдаю тебе. Услышь просьбу, верни Безрода, не забирай его у меня. Ты все знаешь без слов, и если не Сивый, кто иной достоин жить на белом свете?
На востоке полыхнула багровая зарница, налетел порыв ветра, и пепел, что еще оставался на тризнищах, столбом взметнуло вокруг нас. Я затаила дыхание, зажмурилась, но с места не отшагнула. Так и стояла, пока вокруг носился вихрь, а когда стихло и повисла тишина, едва не упала – неимоверно хотелось дышать. Чуть поодаль, широко разевая рот, будто рыба на льду, глотал воздух Тишай, и… я его не узнала. Чернявые волосы побило пеплом, пепел остался на рубахе и на лице. Наверное, выгляжу так же. Младший Потыкович даже слова не отмолвил против воли отца. Сам понял, что так нужно, или братья вразумили?
Пыльные столбы ушли в сторону леса, а там и вовсе пропали, разбились о деревья. И снова все стихло. Я оглянулась на старика. Принял? Это все?
– Думаю, все. – Старик задумчиво смотрел туда, где стена леса разметала пепел и пыль.
– Принял?
– Не знаю, милая, не знаю. Одно могу сказать – не услышать не мог. Только время и покажет.
Потык обстучал сына, сбивая пыль. Косил на меня и усмехался.
– Грома с молниями ждешь? Напрасно. Если и случится, так тихо и не заметно, что сама не сразу узнаешь.
Подошел ко мне, помог отряхнуться, улыбнулся.
– Думаешь, отчего ворожцы смертным боем бьют за ворожбу без разрешения? Что будет, если всякому дураку захочется чудес? Начнет полоумный жизнью разбрасываться, лишь бы увидеть небо в огурцах. Бойся своих желаний! Иногда боги наказывают не тем, что отворачиваются, – тем, что исполняют желание!
– Но…
– Но иногда можно. – Потык постучал меня пальцем по лбу и лукаво сощурился. – А про небо в огурцах помни!
– Значит, яблоневый сад в Беловодице?
– Ага…
Рассвело. Потык и сыновья быстро собрались, впрягли в телегу лошадей, собрали полог, вдоль бортов уложили на место опорные жерди. Уходя к ручью стирать полосы для перевязки, Гарька долго на меня смотрела, хитро щуря глазищи. Ночью что-то слышала, да не понимает, что именно. Как будто шумели, как будто кричали. И нет бы мне отвернуться… Язык ей показала.
А когда Потыковичи с нами распрощались и совсем было повернули на дорогу, с той стороны, откуда все мы пришли, раздался дробный топот. Лошади, много лошадей. Впереди облака пыли, что густо клубилось из-под копыт, шел десяток верховых. По всему видать, дружинные. Девять седлами, десятый… а не было десятого. Лошадь шла в поводу и упиралась изо всех сил.
– Проклятая скотина! – взревел дружинный и огрел строптивицу плетью между ушами.
– А ведь ладная кобылка! – приложив руки к глазам, крикнул Тишай. – За что же так?
Ход остановился. На нас воззрились девять пар глаз, колючие, настороженные, руки на мечах.
– Впервые такое вижу! Все лошади как лошади, эта же… Уж сколько их в поводу перевел, сосчитать не возьмусь, тут же…
Тишай, что-то насвистывая, медленно двинулся к дружинным. Не доходя шага, остановился и дал кобыле себя обнюхать. Странно, однако, та не проявила беспокойства. Дружинные переглянулись. Чудеса, да и только. Потыкович ласково огладил вороную и чмокнул в шею. Кобыла всхрапнула и потянула носом над головой Тишая.
– Человечий пепел чует, – напряженно шепнул мне старик.
– Глазам не верю. – Дружинный десятник сбил шапку на затылок и ожесточенно сплюнул. – Как Тихоню зарубили, Ладушка никого к себе не подпустила, даже нас держала за чужаков. Чудеса, да и только!
– Тихоня звали? – Старик задумчиво огладил бороду, и мы многозначительно переглянулись.
Старший какое-то время молча смотрел на Тишая, потом, развернув лошадь, подъехал ближе.
– Ловко у тебя получилось. Кто такой?
– Пахарь.
– А своим ли ты делом занят, пахарь? – Десятник, оглядев Потыковича с головы до ног, отчего-то кивнул сам себе.
И будто гром среди ясного неба прозвучало: «Нет, не своим!» Я хотела громов и молний? Будь любезна. Потык выступил вперед и еще раз отчетливо произнес: «Нет, не своим!» Все покосились на старика с недоумением, и только мы с непутевым лошадником знали, что к чему. Потык о чем-то пошептался с предводителем дружины и вернулся к сыновьям. Трижды поцеловал Тишая и даже слезу украдкой смахнул. Поняли все и остальные. Братья тепло попрощались, и только пыль встала, когда старшие хлопали младшенького по спине. Старик ничего мне не сказал, только улыбнулся в бороду. И, по-моему, одну слезу смахнуть забыл, на солнце блеснула…
Я долго смотрела вослед верховым дружинной десятки – с Тишаем она вновь стала полноценной – и обозу Потыковичей, что снялись друг за другом. Ушел в дружину Ратника Тихоня, на его место заступил Тишай… И если это просто случайность, готова съесть весь пепел, что остался на тризнищах.
Из палатки выбрался Тычок. Морщась и кривясь, поплевал на какую-то красную тряпку, проглядел на солнце, в сомнении покачал головой и бросил тут же. Я узнала тряпку. Схватила и прижала к груди. Унесла Безродову рубаху к себе в шалаш и долго бездумно пялилась. Чего толку штопки считать? Носить ее он все равно большие не сможет. Вся расползается. И тут меня словно осенило! Рубаха! Сивому нужна новая рубаха! Встанет человек, а ему надеть нечего! Скорее молнии выпрыгнула наружу, в два скачка подлетела к палатке и сунула внутрь голову.
– Выдь на улицу, дело есть!
Тычок пожевал губу, однако вышел. Огляделся и напустился на меня:
– Чего шумишь?! Вот Гарька вернется, оба по шее полу…
– Давай деньги!
– Какие деньги?
– Хороши мы с тобой! Человек проснется, встанет, а ему надеть нечего! Не рубаха, а дырка на дырке! Поеду в город, новую возьму.
Старик смотрел на меня как на полоумную. Дескать, Безроду бы ворожца, а она про новую рубаху толкует!
– Давай, давай. Он встанет, обязательно встанет. Сегодня кончился девятый день.
Егозливый старик огляделся, ужом порскнул в палатку и сунул мне в руку деньги.
– Красную! – только и услышала я.
На скаку оглянулась и крикнула:
– Обязательно красную!
Показала нашей коровушке язык – она как раз возвращалась после очередной постирушки, – состроила рожу и, больше не оглядываясь, припала к шее Губчика.